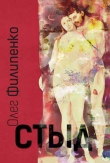Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
* * *
И все же в автобиографическом романе Ромена Гари «Обещание на рассвете» как будто бы можно найти сиену изгнания детского стыда. Давно пора: Роману Касеву двадцать шесть лет, он уже большой мальчик. Он работает сержантом-инструктором летной школы. Апрель 1940 года. Его мать пять часов тряслась в такси до Салон-де-Прованса, чтобы проститься с ним в день мобилизации. «Я увидел маму, когда она выходила из такси, остановившегося возле столовой, с тростью в руке и с „Голуаз блё“ во рту. Не обращая внимания на насмешливые взгляды солдат, она театральным жестом раскрыла мне объятия, ожидая, что сын бросится к ней по старой доброй традиции. Я же направился к ней развязной походкой, слегка ссутулившись, надвинув на глаза фуражку и засунув руки в карманы кожаной куртки (которая играла решающую роль при вербовке призывников в авиацию), раздраженный и растерянный от этого совершенно недопустимого вторжения матери в мужскую компанию, где я наконец-то обрел репутацию „стойкого“, „верного“ и „бывалого“»[41].
Герой или, по крайней мере, кандидат в герои вроде Ромена Гари, будущего Борца за Освобождение, – все это очень плохо сочетается с материнским присутствием. Летчик обнимает мать «с наигранной холодностью», тщетно старается увести ее от насмешливых взглядов. На этом этапе еще есть надежда, что стыд удастся скрыть. Но тут, отступив на шаг, чтобы как следует полюбоваться героическим сыном, мать «воскликнула с сильным русским акцентом так, что слышно стало всем»: «Гинемер! Ты станешь вторым Гинемером! Вот увидишь, твоя мать всегда права!» На этот раз последствия не заставляют себя ждать: «Кровь бросилась мне в лицо, вокруг захохотали, но она, замахнувшись тростью в сторону веселящейся солдатни, столпившейся у столовой, вдохновенно провозгласила: – Ты станешь героем, генералом, Габриеле Д’Аннунцио, посланником Франции – все эти негодяи еще не знают, кто ты!»
Итак, здесь сошлись все главные составляющие стыда: застарел ый стыд детства и происхождения, воплощенных в образе матери, столкновение нового взрослого мира с защищенным миром детства, свидетель, в роли которого выступают насмешливые взгляды солдатни и ее издевательский хохот, раненое самолюбие. Касеву-Гари даже пришлось в очередной раз услышать «невыносимую фразу», давно ставшую классической во взаимоотношениях между родителями и детьми: «Что же, ты стыдишься своей старой матери?»
Но что еще более интересно в этой сцене, так это ее развязка: после вспышки стыда, закончившейся взрывом, – железная хватка. Разом стряхнув с себя «всю мишуру… мнимой мужественности, чванства, холодности», Гари адресует своим товарищам обычный жест вызова. «Утих смех, исчезли насмешливые взгляды. Я обнял ее за плечи и думал о сражениях, которые я развяжу ради нее, об обещании, что я дал себе на рассвете своей юности: воздать ей должное…»
Рассказ Гари соединяет в одном эпизоде все стадии стыда как детского опыта, последовательно переживаемого, возвращающегося и преодолеваемого. Два мира – мир героя и мир ребенка, – кажется, наконец-то соприкасаются. Будущему герою предстоит освободиться от застарелого стыда своего происхождения. Но какую цену придется ему заплатить, чтобы выполнить свое обещание?
Папа, мама, или страх сходства
У нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей… Ф. М. Достоевский
Стоило бы попытаться стать этнографом семейных очагов, проникнуть в дома, где детство вглядывается в себя, – мы бы обнаружили там стыд в момент зарождения вместе с его спутницей гордыней и, может быть, поняли бы, что такое призвание (или отсутствие призвания), даже честолюбие, вследствие недостатка или стремления, вследствие желания или мягкости, вследствие подражания или несходства – и как невольно подпитываются или подавляются обитающие там надежды. Вполне вероятно, что еще до того, как обосноваться в квартирах дешевых муниципальных домов или в особняках предместий, стыд осознал себя посреди дикого племени – так же, как желание отличаться от других и невозможность это желание проявить.
Братья Карамазовы страдают от неизбежной близости с отцом-паяцем, утопившим стыд в лицедействе. Циник Иван, мистик Алеша, лирик Дмитрий – каждый на всю жизнь впитал отцовское наследство, изо всех сил стараясь, каждый по-своему, освободиться от него. В романах Мари Ндиай и Мишеля дель Кастильо стыд процветает благодаря неблагообразию отцов и матерей. Возможно, где-то существует семейный рай, пленительное и благословенное детство. Но редко, очень редко становится оно источником великой литературы. О счастье читать скучно. Или же где-то внутри него должен быть спрятан для нас клубок змей.
Поэтому мой долг – предупредить читателя: основываясь на литературе, мы неизбежно составим себе в высшей степени непривлекательное представление о семье. Любой семейный роман, в котором так хотелось бы видеть гармонию и безмятежность, подспудно рассказывает историю крушения. Разве там, в этой изначальной связи, не находим мы первый патологический очаг стыда, умолчаний и коллективно хранимых секретов? В каждом ребенке дремлет Дельфина или Анастази, готовая в один прекрасный день отречься от своего отца Горио. С другой стороны, литературное призвание, неподвластное родственным узам, может прямо обратиться против них как против непереносимых вериг. Писатели так никогда до конца и не преодоленного стыда – великие борцы против семьи: Жид, Гомбрович, Лейрис, Мишо… Семья, я тебя ненавижу, говорят они, потому что вопреки твоему желанию мне досталась от тебя по наследству постыдная выплата – моя слабость. Моя ненависть – это одновременно и любовь, моя слабость… может быть, в ней моя сила? Не мешай, мне, как вечному подростку, нужно бежать от тебя. «Сочинительство и все с ним связанное – суть мои маленькие попытки стать самостоятельным, попытки бегства» (Кафка)[42].
В лихорадочном диалоге глухих между родителями и ребенком зреют симптомы взаимного стыда. Я – стыд, мне стыдно: эти два тропизма не противопоставлены друг другу, напротив, они неотделимы друг от друга. Так, Мишо охотно изображает себя предметом родительского стыда: «Мать всегда предрекала мне крайнюю нишету и ничтожество. […] Я был стыдом своих родителей, но время покажет, и потом – скоро я буду счастлив». Но оборотная сторона – несомненно, более важная – сыновнего стыда, который он несет в себе, – это панический страх сходства, о котором он откровенно говорит в своих более исповедальных текстах: «Чем больше я возвращаюсь в детство, тем более сильным я нахожу ощущение, что я был чужим – для своих родителей. Когда я научился говорить, я говорил только о том, что я найденыш – или, по крайней мере, не сын своих родителей».
Стыд отца-матери в высшей степени стоек, потому что всю свою жизнь, сколь бы далеко или близко oi нихона ни протекала, вы останетесь тем телом ребенка, которое, некогда оказавшись перед глазами родителей, обнаружило, что у самих родителей тоже есл тело. В романе Кутзее «Бесчестье» отец, сидя за едой чувствует, что на него пристально смотрит его доч] Люси (вполне взрослая). «Надо быть поосторожнее ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела»[43].
Если же на миг вообразить себе параллельную жизнь, тело-для-других вне родительской четы, вне сыновней поглощенности им, плоть перед глазами кого-то третьего, даже любовника, или пусть это будет всего лишь танцующее тело, желающее и желанное, – какая катастрофа! Вот кошмарная, хотя на вид совершенно безобидная сиена, которую приводит в романе о детстве Альбер Мемми. Мальчик невольно оказывается свидетелем молитвенного танца женщины во время обряда, призванного «с помощью негров-музыкантов и разрубания на части живьем белого петуха» вылечить тетку Маиссу, одержимую джиннами. «Я, казалось, слышал и чувствовал, как рвется плоть в жестокой битве против ритма, против демонов, когда обезумевшая танцовщица обернулась: это была моя мать! моя собственная мать, моя мать… Презрение, отвращение, стыд сгустились во мне, приобрели четкие очертания. […] В этой женщине, танцевавшей передо мной с полуобнаженной грудью, бессознательно предаваясь магическому распутству, я не мог ничего найти, я ничего не понимал». Узнавание выявляет противоречивое чувство двоякой природы: с одной стороны, неудовлетворенный ребенок, страдающий от отсутствия личного пространства и скученности, не осознает себя внутри своей семьи; с другой – он хочет, чтобы его родители были похожи на самих себя, чтобы нигде и никогда они не представали перед ним в ином свете, оставаясь на том месте, которое он отвел им в собственном воображении.
В этом смысле можно ли представить себе опыт более травмирующий, чем описанный Мисимой, который повествует нам о том, как ребенок оказался свидетелем внебрачного сексуального приключения своей матери, а его отец, тоже присутствовавший при этой сцене, пытался скрыть ее от сына? Так соединяются все условия для ниспровержения семейного романа и для приучения к абсолютному стыду.
Но неодолимое желание разорвать связь может ощущаться и в обратном направлении. Сатпен, герой романа Фолкнера «Авессалом, Авессалом!», отказывается от своего ребенка из-за того, что тот метис. Элен Сиксу («День, когда меня там не было») описывает крайний случай, оказывающийся источником целой вереницы постыдных переживаний: стыда стать отцом ребенка-монгола, стыда оставить его матери, но также стыда по отношению к миру людей-монголов, миру одновременно чужому и лишающему способности к различению («Все монголы похожи друг на друга. Еще один стыд»). Детско-родительский стыд – не только треугольный, он в некотором роде калейдоскопичен. Родной дом – это что-то вроде паноптикума, где в сознании каждого, чтобы он ни делал, тысячекратно преломляется неотвязное ощущение собственной неправоты и виновности. В дьявольской игре зеркал, где взгляды, брошенные с чересчур близкого расстояния, искажают друг друга, где отец и мать – тоже пленники сыновнего взгляда, ребенок получает все новые и новые уроки унижения – стыд самого себя, стыд имени, стыд происхождения, стыд родителей, стыд группы и общины, – чувствуя себя втянутым в спираль взаимных проступков.
Радикальный способ противостоять этой зеркальной муке – замуровать себя в тишине семейной крепости, бесплотной «каменной семьи», вне пределов взглядов друг друга. Именно об этом пишет Дюрас в романе «Любовник»: «Наша семья – каменная, окаменевшая в своей неприступности. Изо дня в день мы пытаемся убить каждый себя и друг друга, нам хочется убивать. Мы не только не разговариваем – даже не смотрим друг на друга. Нас видят, а мы ни на кого не смотрим. Посмотреть, поддаться любопытству – первый признак падения. Никто не стоит и взгляда. Смотреть – позорно. Мы изгнали из обихода слово „беседа“. Вот, наверное, самое полное отражение нашего стыда и нашей гордыни. Любое сообщество, семья ли, петли, – ненавистно и унизительно. Нас объединяет изначальный стыд – нам стыдно за то, что мы живем»[44].
Что же оказывается столь невыносимым для меня, когда я, ребенок, внезапно чувствую смущение, стыд своих родителей? То, что я испытываю страх сходства. «Мать казалась мне яркой, – пишет Анни Эрно. – Я отворачивалась, когда она открывала бутылку, зажав ее между ног. Я особенно сильно стыдилась ее резкой манеры говорить и вести себя потому, что чувствовала, насколько я на нее похожа». Янкелевич показывает, как малейшее несходство, невыносимая близость другого может порождать ненависть, самобичевание и стыд самого себя. В семье тунисских евреев, из которой вышел Альбер Мемми, все живут вместе или, по крайней мере, не очень далеко друг от друга. Настоящее племя. Вечером все собираются вместе. Никто не может укрыться от взглядов. Каждый ежедневно становится жертвой любопытства. Это уже не каменная семья, как у Дюрас, а стеклянная: «Итак, каждый оставался прозрачным для других, и, делая общим достоянием свои трудности и надежды, они составляли единую душу. Впрочем, все они были похожи друг на друга. Высокие и тощие, с маленькой выдающейся вперед головой – даже фигура у них была одинаковая. По вечерам, собравшись вокруг дядюшкиного стола и почти касаясь друг друга головами, склоненными над клеенкой, они напоминали поглощенный едой выводок животных одного помета. […] Попутно я открыл для себя и возненавидел племя». Невозможность одиночества: оставаться одному – привилегия богачей. Здесь же царит «надзор всех за каждым». В этой удушливой атмосфере страстишек, неотвязных привычек и взаимного презрения стыд размножается, как насекомое-паразит.
Конечно же страх сходства усиливается в случае осознания социальной ущербности, передающейся через семью. Но этот страх – вовсе не принадлежность одних только бедняков. В автобиографическом романе Роже Вайяна «Одинокий молодой человек» Эжен-Мари Фавар видит, как его отец (в девятнадцатилетнем возрасте получивший от матери пощечину за то, что провалился на экзамене в Политехническую школу) непременно краснеет или бледнеет, стоит ему испытать какое-нибудь чувство. «Этот человек не владеет своей кровью», – комментирует он. Оказавшись непосредственным свидетелем отцовских унижений, сын попадает в плен полученного в наследство стыда, который он вынужден переживать в свой черед, словно бы по доверенности. А значит, чтобы стать мужчиной, он должен не просто выдержать это испытание, но вырвать с корнем остатки переданного ему стыда, встать против отца: «Эжен-Мари чувствует, что краснеет. Он яростно обрушивается на себя за то, что краснеет, потому что, как он думает, в нем больше не осталось ничего от отцовского характера». Папе не хватает хладнокровия? Я сделаю все, чтобы стать непохожим на него. Уж я-то научусь не краснеть. И вот Эжен-Мари записывает в своем юношеском дневнике: «Нет горшего мучения, чем чувстве стыда».
* * *
Быть может, нигде способность страха сходства преодолевать случайности происхождения и социального положения не воплотилась так ярко, как в романе Пауля Низана «Заговор». Вглядываясь, как в зеркало, в своих породителей, мы с ужасом прозреваем наше будущее. На карту поставлена наша собственная жизнь. Юный Бернар Розенталь, сын биржевого маклера, живет в большой пышно обставленной квартире на улице Моцарта. «Ему достаточно было посмотреть на отца, чтобы с невыносимой точностью представить себе будущее его собственного тела. […] Как ужасно быть похожим на отца, на мать, заранее знать, что тебя ожидает. Согласиться жить можно, только если ничего не знаешь о том, как ты умрешь и что ждет тебя в старости». Итак, Бернар готов порвать кровные узы. Все семейные церемонии для него невыносимы. Он уже на пути к тому, чтобы предать свое окружение.
* * *
Да, это единственный выход: предать. Действительно, как, предпринимая «попытку к бегству», призванную избавить нас от страха сходства (или невозможности подняться выше), не встать на дыбы, не взбунтоваться против родных – вплоть до отречения? В романе Кутзее о его детских годах юноша с «неизбывным чувством вины» думает о том дне, когда он должен будет утвердить себя, грубо оттолкнув мать. «Она перестала быть образцом для меня», – пишет о своей матери Анни Эрно: еще со школы дочь мелких торговцев постепенно отворачивается от своего социального круга, обнаруживая, что ее родители – «жалкие чумазые лабазники». Предательство, окончательно совершающееся с успешной сдачей экзаменов на должность преподавателя, порождает новый стыд, который отныне будет сопутствовать стыду детства, – стыд перебежчика.
О предательстве совсем иного рода рассказывает применительно к центральному персонажу романа «Людское клеймо» Филип Рот. Чувство, которое Коулмен Силк испытывает по отношению к своей семье, – это даже не столько страх сходства, сколько ненависть к навязанному ему уделу: быть в США черным. В восемнадцать лет, заполняя документы, чтобы завербоваться в морской флот, он выдает себя за белого (у него светлая кожа). Его отец только что умер, старший брат находится по другую сторону океана, и, пережив унижение, связанное с этой ситуацией, он чувствует себя свободным, избавившись от него: «…Свободным в немыслимой для отца степени. Свободным настолько, насколько отец был закрепощен. Свободным не только от отца, но и от всего, что отцу приходилось терпеть. От лямки. От унижений. От барьеров. От ран, от боли, от притворства, от стыда – от всех внутренних мук поражения»[45]. Он покончил со своим прошлым не только из желания радикального разрыва со своей семьей и своим происхождением, но и ради «грандиозного жизненного идеала». И на всю жизнь угодил в западню, подстроенную его собственным обманом. При новой встрече с матерью он заявляет ей: «Ты мне больше не мать, ты никогда ею не была».
Грандиозная ложь Коулмена Силка обрекает его на изгнание как можно дальше от своего происхождения. Но кто в силах установить связь между первым постыдным маленьким предательством и всем последующим существованием человека? Лейрис учится в пятом классе лицея Жансон-де-Сайи; его соученики в основном происходят из более состоятельных семей, так что когда за ним приходит мать, он находит ее недостаточно элегантной и в присутствии товарища заявляет, что это его учительница. Писатель сравнивает этот ребяческий поступок с отречением святого Петра: «Я же отрекся от собственной матери».
* * *
Но свое наиболее радикальное и одновременно наиболее бессильное выражение – как экзистенциальное, так и литературное – страх сходства находит в лице выходца из патрицианской цюрихской семьи, живущей на роскошной вилле у озера: Фриц Цорн (отвергающий всякое притворство, подобно Гомбровичу, еще одному потомку аристократов) охвачен настолько неудержимым порывом к несходству, настолько неосуществимым стремлением к своеобычности, что доходит до саморазрушения. «Моя главная задача – освободиться от нестерпимой муки прошлого». Родители только и смогли, что «воспитатьего как полагается»; вот он и умирает теперь от этого «как полагается», от избытка благопристойности. Вся книга Цорна повествует о растерянном, самоубийственном поиске неосуществимой самоидентификации в собственном теле; притом и душа его «пожрана стремительно разрастающимся чуждым телом, именуемым „родители“». И быть может, ему предстоит заплатить жизнью за то, что он «хотел быть-непохожим-на-своих-родителей».
Разве этос современной литературы не проистекает из этого исступленного желания «быть-непохожим-на-своих-родителей»? Если литература нашего времени (особенно это касается великих книг о детстве и отрочестве) порой кажется одержимой чем-то вроде фобии по отношению к производству потомства, то это потому, что она пишет об индивидуальности, подавляемой групповым инстинктом семьи. В пространстве вымысла будут вновь и вновь разыгрываться драмы подвергаемого остракизму отличия и невыносимого сходства. Писатель станет чадом отречения… или не станет.
«Навсегда отрезанный от других»
Жить в мире взглядов – разве это жизнь? Пауль Низан
Погружая нас в тайны своего детства, писатель чаше всего описывает приучение к одиночеству – путешествие как можно дальше от своей семьи из стекла или камня. Как раз из такой отделенности и берет свое начало литературное призвание. Поэтому-то оно порой не чуждо вопросов такого сорта: как проявляется стыд родителей? когда он возникает?
Если верить книге Альбера Мемми (родившегося в 1920 году в Тунисе в бедной еврейской семье), роль откровения играет первичная сцена. Ребенок внезапно осознает, что смотрит на родителей глазами другого: «В первый раз я увидел их смущенными и стыдящимися самих себя… Они говорили шепотом, наверное стесняясь своего диалекта, который показался мне вульгарным и неуместным». И наоборот – с очень раннего возраста, но постепенно, и тоже глядя на своих родителей, главный герой романа Низана, Антуан Блуайе, сын железнодорожника (как и отец автора), начинает испытывать классовое чувство, на котором базируется его самоощущение: «Подрастая, Антуан начинал страдать от многих вещей, которые он замечал: от того, например, что родителям его подавали в замаскированном виде милостыню, посылая им зато, что они покорны и почтительны, старые брюки, старые куртки, еще очень пригодные для спин, менее требовательных, чем у прежних их хозяев. Мать его из уважения должна была стирать белье у начальника станции: в таких услугах не приходится отказывать тем, от кого зависишь. Отцу платили деньги за выполняемые им мелкие поручения»[46].
Но это может быть и взгляд другого на тебя в отсутствие родителей, вызывающий неведомое ранее чувство, что ты вместе с ними стал мишенью для когогто третьего. Альбер Коэн в одном из интервью рассказывает о своем первом столкновении с антисемитизмом во Франции. После погрома его родители бежали с Корфу в Марсель (где его одноклассником по лицею оказался Марсель Паньоль): «Однажды, выйдя из школы, я остановился перед лотком уличного торговца, который продавал универсальный пятновыводитель. Я до сих пор помню это так, как будто все случилось вчера. Продавец был высок ростом, с пшеничными усами. Внезапно он пристально посмотрел на меня: „Ты, маленький жиденок! Кхе-кхе, твой отец международный финансовый воротила, ты стрижешь купоны, кхе-кхе, и любишь деньги, ты обводишь вокруг пальца честных христиан. Проваливай отсюда, нечего тебе здесь делать. Катись обратно в Иерусалим“. Никто вокруг не вступился за меня. Совершенно ошеломленный, я ушел один, опозоренный маленький мальчик. Я не вернулся домой, я бродил по улицам, потом поплелся на вокзал, охваченный мыслью уехать. Я чувствовал себя навсегда отрезанным от других»[47].
Еще одна первичная сцена: стыд мальчика-сироты, лишившегося дома, стыд Камю, оказавшегося в бедном квартале Алжира, рассказанный от лица Жака Кормери, ребенка из романа «Первый человек». Он учится на деньги государства, его отец погиб на войне, мать работает приходящей прислугой. Что писать в разделе «Род занятий родителей»? Сперва он пишет «домохозяйка». Нет, говорит ему его приятель Пьер (сам-то он может похвастаться матерью – «сотрудницей почтового ведомства»), это не подходит, «я думаю, надо писать „домработница“». «Жак принялся писать и остановился, чувствуя одновременно стыд и стыд из-за того, что ему стыдно».
Камю тщательно препарирует процесс приучения к стыду. «Сам по себе ребенок – ничто. Его представляют родители. Через их посредство он определяет себя, через их посредство его определяет мир. Именно они судят его по-настоящему, то есть без права обжалования, а Жак только что открыл для себя суд мира и вместе с ним свой собственный суд над дурным сердцем – его сердцем. Он не мог знать, что, став мужчиной, человек меньше заслуживает того, чтобы не знать этих дурных чувств. Ибо нас судят – худо ли, хорошо ли – за то, что мы есть, и куда меньше – за нашу семью, а порой случается, что уже семью судят за то, каким вырос ребенок, ставший мужчиной. Но лишь невиданная, героическая сердечная чистота позволила бы Жаку не страдать от открытия, которое он только что сделал, и лишь немыслимая униженность позволила бы принять без ярости и стыда это страдание из-за того, что она открывала ему в нем самом».
К рождению стыда приводит какое-то основополагающее событие, утверждает Анни Эрно в книге, которая так и озаглавлена – «Стыд». Для нее все началось одним воскресным июньским днем 1952 года. Ей двенадцать лет, она слышит рыдания и крики и видит отца, который, с ножом для обрубания веток в руках, держит мать то ли за плечи, то ли за шею. Ей кажется, что отец хочет убить мать. Так она вступает в другое время, время, в котором «она уже никогда не перестанет испытывать стыд». Такова была первоначальная сцена ее собственного стыда. После этого события жизнь девочки приобретает новое измерение, ее самоощущение полностью меняется. Отныне от нее не ускользает ни единый намек на ее положение в обществе. «Вся наша жизнь вызывала у меня только чувство стыда. Писсуар во дворе, общая спальня, где из-за тесноты я спала вместе с родителями, как это было принято в нашей среде, материнские оплеухи, ее грубая брань, пьяные клиенты и бедные соседские семьи, покупающие в долг»[48].
Именно через призму стыда девочка восприняла взгляд другого, ловя его повсюду вокруг себя. С той поры стать этнографом самой себя, реконструировать мир ощущений детства с его ритуалами, законами, правилами и условностями значит одновременного стать этнографом и социологом своего стыда. «Я сжилась с этим мучительным чувством стыда. Я уже больше не замечала его. Стыд стал частью моего „я“».
Слава Богу, скажет себе освободившийся читатель (из рук которого книге Анни Эрно неизбежно предстоит выпасть), стыд не стал частью моего «я», мы преодолели это чувство и даже само воспоминание о нем. Детский стыд? Нет, ничего подобного. Ну хорошо, если вам так угодно, я запер его на замок. И действительно, какое удовольствие прочитать рассказ о детстве, избавленном от стыда! Ну, скажем, «Макаронников» Каванна. Здесь, по крайней мере, и следа нет этих терзаний. Нам рассказывают обо всем лучшем, что остается, когда детство прошло и от него сохранилась только легкость, поводы для смеха, забавные случаи, – короче говоря, когда детство облагораживается юмором.
Да, это правда: в данном случае мастерство рассказчика позволило из воспоминаний детства создать комедию. Но что происходило за кулисами? Рассказанная жизнь не есть жизнь прожитая. И у той, и у другой предостаточно ловких трюков. Между ними можно поставить перегородку. Однажды Каванна признался: «Я стыдился своего отца». И можно рассуждать противоположно тем, кто не хочет узнавать в книгах раны прошлого, – будем же благодарны писателям, которые, начиная с Руссо, вручают нам (по крайней мере, с виду) свое обнаженное детство, чтобы освободить нас от бремени нашего; говорят за нас то, в чем мы никогда не осмелились бы признаться ни другим, ни даже самим себе. Нет ничего лучше доброго рассказа о стыде, чтобы мы могли осознать, кто мы такие, обрести себя в муке нашего детства: так, значит, я такой не один…
Стипендиаты стыда
(Мемми, Камю, Низан)
Несмотря на риск низвести боязнь сходства к ее социологической составляющей, необходимо добраться до одного из ее возбудителей – стыда социального статуса. Он навязчиво заполняет собой рассказы о раннем детстве. «Как не стыдиться своего положения, – пишет Мемми, тунисский еврей и выходец из бедной семьи, – если с самого детства вас высмеивали, презирали или утешали?» Впоследствии перенесенный стыд может превратиться в спасительное наследство. Выбившись из нищеты, сын бедняка будет располагать небольшим символическим капитальцем, которой при необходимости сумеет приумножить. Снова проходя по закоулкам своей прошлой жизни, он не преминет подчеркнуть, что сохранил верность своему скромному происхождению. Без сомнения, социальный стыд прилипчив, он оставляет неизгладимые следы. Он не помеха: его притязания, приуроченные к благоприятной ситуации, порой бывают амбивалентны. Взрослый человек может с какого-то момента жить в совершенно новом мире, добиться неоспоримого общественного признания, но по-прежнему щеголять, словно фабричным клеймом, нерастраченными активами своего рождения. Особенно если он писатель; особенно если он имеет дело с интеллектуалами другого закала, наследниками, с которыми ему предстоит скрестить шпаги.
Стыд ребенка из бедной семьи действительно складывается, как роман об ученичестве. Стоя внизу социальной лестницы, ребенок стремительно обучается приспосабливаться к «углу зрения социального амфитеатра», ведь бедственность собственного положения видна невооруженным глазом. «Стыд стал для меня чем-то естественным, – пишет Анни Эрно, – словно он был неотделим от профессии моих родителей-лавочников, их денежных затруднений, фабричного прошлого, нашего способа существования»[49]. Нередко это начинается как своего рода откровение наоборот в духе Пипа, персонажа романа Диккенса «Большие надежды», который возвращается от мисс Хэвишем, оскорбленный Эстеллой: «…Я пустился пешком в обратный путь […], размышляя обо всем, что видел, и снова и снова возвращаясь мыслью к тому, что я – самый обыкновенный деревенский мальчик, что руки у меня шершавые, что башмаки у меня грубые, что я усвоил себе предосудительную привычку называть трефы крестями, что я – куда больший невежда, чем мог полагать накануне вечером, и что вообще жизнь моя самая разнесчастная»[50].
Подобное же откровение потребовалось Альберу Мемми в его бытность ребенком, чтобы осознать, насколько бедны он и его семья. Прежде он считал себя защищенным – вплоть до того, что разделял общее презрение к некоему Фраджи Шуламу, откровенному босяку; в итоге именно упомянутый Фраджи и открыл ему глаза на то, что их связывает: одежда обоих не куплена родителями, они донашивают ее за другими детьми. Стыд: маленький Альбер столько раз читал его в глазах другого, с которым отныне отождествляет себя. «Я в полной мере осознавал страдание Фраджи, стыд, которым я обливал его перед Шушаной и другими. Это было мое страдание и мой стыд; меня пригибало к земле то же презрение, у меня были такие же липкие от грязи волосы и похожие на автомобильные фары глаза, я чувствовал себя Фраджи. С той поры у меня мало-помалу выработалась присущая стыдливым беднякам привычка стесняться своей одежды». Альбер не мог больше верить красивой сказочке своей матери, повествовавшей о том. что быть бедным – не стыдно. «О нет! Это так стыдно – быть бедным! Мне говорил об этом шепот моих родителей […]. И я презирал бедняков».
Если вы родились бедным, у ваших унижений словно крылья вырастают. «Бедность не порок, – пишет Левинас, – но она постыдна, потому что, подобно лохмотьям нишего, выставляет напоказ наготу неспособного спрятаться бытия». Следовательно, стыд бедняка будет ощущаться прежде всего в прозрачности тела, в слишком явной стеснительности одеяния. В романе «Антуан Блуайе» – скрытой под маской литературы истории жизни его отца – Пауль Низан открывает перед нами тайны своего семейного происхождения. Антуану, сыну железнодорожника, приходится сопровождать мать, когда она, поденщица, отправляется на генеральную уборку или большую стирку «у дам», которые дают «тетушке Блуайе» советы: «Антуан не раскрывал рта, – то, что он будет делать, не касается этих длинных юбок, этих гипюровых кружев, этих воротничков, подпертых китовым усом. Он не знал, куда девать свои руки, вылезавшие из коротких рукавов, – рукава, может быть, выкроены из старого пальто, подаренного этими дамами; он глядел на свои грубые башмаки, девчурки, стоявшие около дам, тоже глядели на его грубые башмаки. Антуан ненавидел этих дам и их девчонок…»[51]