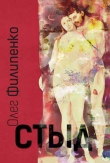Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
* * *
Итак, книги признания в гомосексуализме были сначала книгами сублимированного, искаженного, вывернутого наизнанку, вызванного на бой стыда. Они зрели подспудно, обдумывались, замышлялись, опаздывали, колебались, меняли курс, откладывались. И порой до самой смерти автора они лежали в столе, храня непередаваемую тайну, – как, например, «Подполковник Момор», незаконченный роман Роже Мартена дю Гара, содержащий исповедь Ксавье де Белкура, героя-гомосексуалиста, терзаемого угрызениями совести и доведенного до самоубийства. И подобно устыдившемуся гомосексуалисту, который был представителем людей стыда, неспособных полностью освободиться от «скрытого сокровенного упрека», устыдившийся писатель-гомосексуалист был представителем писателей с нечистой совестью. Он чувствовал себя обнаженным под взглядами толпы. Литература стала для него очередной маской. Когда же наконец она позволит ему противостоять взглядам, пронизывающим его тело? Писатель свободен лишь в своей возможности показывать и прятать: публикация давала надежду на освобождение; читатели обещали искупление стыда. Книга, которая наверняка могла дать свободу, была в то же время книгой, которую никогда нельзя будет опубликовать, книгой, к которой писатель-гомосексуалист возвращался всю свою жизнь. Над ним парила тень Уайльда, его трагической судьбы, разом оборвавшегося скандала, разразившегося против чьей-либо воли. Сами его произведения находились под постоянной угрозой поругания. Его окружала пагубная атмосфера остракизма и клеймения.
А потом появилась бомба по имени Жене. А затем и все освободительные книги.
Мы тут говорим в прошедшем времени. Но в данном случае не стоит доверять стилистическим фигурам. Действительно, с тех пор как появилась обширная маргинальная литература, которая после Жене громко и ясно заговорила от имени гомосексуалистов, стало казаться, что эта трудность признания непристойности относится к минувшей эпохе. Но тем не менее может ли литература, называемая «гомосексуальной» (и даже если этот термин не клеймит ее, он уже навешивает на нее ярлык), развернуться на мирной стороне бытия?
Нельзя быть уверенным, что и сегодня творчество писателя, идущее вразрез с его сексуальными пристрастиями. никто не сравнит с выступлением Гойтисоло, родившегося в 1931 году в Барселоне. Гойтисоло прошел долгий путь. Как освободиться от предрассудков враждебного окружения, если они живут внутри тебя? В произведении «Частное владение» рассказывается о муках прошлого, связанных с открытием героем в юности своей гомосексуальности. В Испании тогда правил Франко, и в такой обстановке гомосексуализм делал жизнь не проще, чем в Италии Муссолини. Уже до того как персонаж Гойтисоло сам осознал свои гомосексуальные склонности, все уже подозревали, что он «то самое», как говорили еще у Пруста, из-за его литературных пристрастий, а именно из-за любви к Жиду и Уайльду. «Сама мысль, что меня могут принять за члена этого сообщества, предмет всеобщей неприязни и презрения, наполняла меня страхом. Патологический ужас, который эта мысль вызывала у моего отца, […] глубоко меня поразил». Первый любовный порыв, подтолкнувший его к мужчине, стал для юноши «нравственным ударом», погрузившим его в «состояние крайнего унижения и замешательства»: «Я чувствовал себя обнаженным, уязвимым, преданным – без всякой на то причины – осмеянию и позору». Этот выстроенный на подозрениях и взглядах со стороны отталкивающий образ вызвал у героя ощущение, что некий дурной паяц, эдакий нежелательный мистер Хайд, неуместно и против его желания проявился в нем – и это ощущение возбудило в нем ужас: непрошеного гостя, проникшего в него, как он думал, под покровом рассеянности, он чистосердечно и в трезвом уме осудил. Он хотел бы по-прежнему «смотреть в глаза» своим друзьям, «не краснея».
Верно, что рассказ Гойтисоло дает пищу для размышлений о социоисторическом масштабе запретов, о метафизике единичного. Не является ли интериоризированный стыд гомосексуальности специфическим проявлением более общего стыла, внушаемого любой формой сексуальности, которая есть доведенное до крайности ощущение, что одно тело отдано против воли во власть другого тела – вторжение неведомого до сих пор импульса, открытие другого в себе? В посвящении, предваряющем вторую часть «Частного владения», Гойтисоло цитирует Монтеня: «…между нами и нами самими такая же разница, как между нами и другими». Кроме того, каждый подвергается риску, подобно раку-отшельнику у Цорна, публично показать свою наготу. А любой автор книг-признаний всегда находится на авансцене.
Это не отменяет соображения, что нагота некоторых людей кажется более обнаженной, чем нагота других; что социальные предрассудки увековечивают постыдность процесса письма как проявления чувства униженности, невыразимой с точки зрения другого. И хотя быть гомосексуалистом во Франции в XXI веке уже не означает подвергаться преследованиям, как в Италии Муссолини или в Испании Франко, нужно вспомнить о многочисленных психологических проблемах, связанных с моментом публичного признания своих сексуальных склонностей, о которых Мишель Поллак упоминал совсем недавно, – депрессиях, попытках самоубийства, особенно среди молодежи (между шестнадцатью и восемнадцатью годами). Делать вид, что мы полностью перешли в другую эпоху, что стыдливая гомосексуальность – как в литературе, так и в жизни – осталась, по крайней мере в нашем обществе, дурным воспоминанием, означало бы не считаться с длящимися до сих пор конфликтами, с взаимным отторжением, косностью и регрессией в обществе, в эволюции которого гораздо больше латентного консерватизма, чем можно угадать за его либеральной наружностью. Но это также означало бы – предположим, что современный мир действительно настроил свои окуляры – недооценивать силу инерции стыда как тайного оружия самозащиты. Это подтверждается вновь и вновь: чувство стыда является одновременно экзистенциальным и политическим. Оно есть интериоризированный взгляд другого. А розовые треугольники история припечатала к нему надолго.
Часть IV
Чтение есть предательство
Коль скоро книги написаны, я бы посоветовал не публиковать их, поскольку каждое печатное издание вызывает новые умонастроения. Морис Закс
Сколько книг написано в стыде, столько же их издается в метаниях. Книги траура или признаний, книги выживших, избегнувших гибели, книги последней надежды. Книги не для всех, отложенные, спрятанные, опоздавшие, книги, называть которые литературой было бы непристойно. Книги тем не менее, наконец вышедшие, с болью и слишком поздно, книги, издание которых вызывает скандал. Было ли этим книгам что скрывать и было ли им что сказать? Да, очевидно, как и всем другим. Но и несколько больше, чем другим, поскольку они способны, против воли автора, открыть самые сокровенные его секреты.
Уже в детстве вы хотели стать писателем. Вы торопливо черкали, списывали, подражали, зачеркивали, переписывали начисто, исправляли. Вы более или менее долго хранили свои сочинения в столе. В один прекрасный день вы доверили одно из них, с бесконечными предосторожностями, близкому человеку, с опаской ожидая услышать его мнение. Некоторое время спустя вы отважились отправить одну из рукописей, а потом и другие, возможно тысячу раз, издателям. При этом, прежде чем ваши книги появятся наконец на витринах книжных магазинов, вам придется преодолеть множество препятствий. Вы успеете побывать во власти противоречивых чувств – то внезапного нетерпения явить себя миру, то желания закрыться в своей скорлупе, отгородившись от остальных. Затем вам даже случится, на этот раз уже слишком поздно, пожалеть о том, что вы горячо желали опубликовать.
Нет ли в этом побуждении, толкающем вас писать и затем печатать – черными буквами по белому листу, – в этой бесконечной задаче, выполнение которой постоянно контролируется и которая, как кажется, заканчивается с публикацией (но это иллюзия), – не прослеживается ли здесь непрерывного следа необъяснимой тайны? Постоянного желания что-нибудь вычеркнуть? Тоски по отныне недоступному вымарыванию?
По сомнениям, которые вы испытываете в отношении своего текста, по неразрывным связям, которые вас с ним соединяют, по своим сожалениям и уловкам вы понимаете, что ваше предприятие подспудно управляется постыдными мотивами: вы не стали бы внимательнее к содержанию письменного слова, если бы сочиняли признание в грехах или объяснение в любви. В обоих случаях схожим образом проступают стремление к любви, желание и нетерпение явить себя другому (который заключен прежде всего в вас самих), и в то же время вырисовываются потребность в адресате, осознание собственного превращения в объект (хотя вы хотели быть субъектом), стыд от встречи лицом к лицу и от потери лица при этой встрече. «Письмо отцу» Кафки – действительно адресованное отцу и одновременно являющееся открытым письмом – образец всего этого. Но так ли оно отличается по своему замыслу от рассказа, озаглавленного «Сельский врач»? Этот рассказ был предназначен для публикации, но как раз тоже посвяшен отцу. Франц, которому не терпелось узнать мнение отца, отнес ему рассказ. «Положи его на ночной столик», – ответил отец. Эти слова (которые он часто повторял) навсегда остались запечатленными в памяти юноши.
Сколько вы всего накопите, столько же и отвергнете, сожжете, уничтожите. Опечатки заставят вас краснеть. Юношеские писания – вздрагивать. Колебания заставят вас отступать. Стыд относителен, бесстыдство имеет границы. Неожиданный прием обеспокоит вас. Вы бы предпочли – поскольку противоречий уже хватает, – чтобы написанное вами, будучи издано, осталось никому не известным, с одним, однако, условием: пусть эта неизвестность добавит вам славы.
Казалось бы, вам удалось спутать карты, напустить дыму, сыграть с читателем в прятки. Если вы вышли в открытое море, то для того, чтобы никогда больше не возвращаться в порт. Вы были хозяином положения. По крайней мере, верили в это.
Видимо, поэтому вы так настаиваете на том, чтобы ваши заветы не нарушались.
Но уже сейчас, при вашей жизни, они сами себя нарушают! Они никогда не были определенными, эти заветы, они изменялись с возрастом, настроением, с течением времени. Вы беспокоились о своем будущем, об обнажении, которое не предусмотрели. Настолько, что беспрестанно добавляли к своему завещанию поправки, вносили в договор новые пункты, терзаясь до самой смерти этими писательскими заботами. Вы, по-видимому, стремились к невозможному – получить читателя на побегушках, наследника у ваших ног, – предчувствуя, как все это понемногу от вас ускользает и как другие уже переделывают вас по своему вкусу.
Тогда вы представили себе, что можете упокоиться в мире, удалившись в рай для писателей, на прочном ложе книги, с которой вы наконец можете смириться. А вы вместе с другими оказываетесь в круге ала, вас публично щекочут и колют вилами чертенята, преследуя своими нескромными вопросами по указке неблагодарных потомков.
Вы, дорогой Пруст, сделаете вид, будто это случайность (спрашивает ваш – уже посмертный – читатель), что с такого мятежника, как вы, срываю покровы я – «которого мы обнаруживаем в наших привычках, в обществе, в наших пороках», – при том что вы, однако, сами выдумали этого человека, который говорит «я» и утверждает, что любит некую Альбертину, а также самых разных персонажей вокруг себя, евреев и гомосексуалистов, рассеянных по ткани вымысла, на которой ваша личность, Марсель, выглядит как рисунок на ковре? А вы, дорогая Эдит Уортон (которой, кстати, восхищался Марсель), почему, скажите мне, почему вам понадобилось написать автобиографию с целью, как вы сами говорите, заставить молчать всех будущих биографов, – в которой вам к тому же удалось скрыть единственное страстное приключение, которое было в вашей жизни, – в то время как ваш друг Генри Джеймс (завидовавший вашим успехам и обеспокоенный за будущие поколения) заботился о том, чтобы лишить запала несдержанных рассказчиков? Скажите мне, Робер Пенже, вы, один из самых скрытных писателей ушедшего века, почему именно вы стали романистом слуха, сплетен, молвы? И не вправе ли мы, дорогая Натали Саррот, чьи книги прятали во время войны, задуматься о том, как вы относились к своему еврейскому происхождению, о котором вам удалось умолчать даже в вашей единственной автобиографической книге, в «Детстве» – которая, кажется, скрывает еще больше тайн, чем вы ей доверили? А вы, Маргерит Юрсенар, почему вы так стремились, тщательно разбирая личные документы, облагородить свою посмертную память? Что же до вас, восхитительный Франц Кафка, столь щепетильный в том. что касается ваших незаконченных творений и их будущей публикации, ведь вы так заботились об их исчезновении, – почему вы не сожгли их?
Вы практически единодушны. Критики? Это паразиты. Биографы? Пожиратели трупов. Такое единодушие подозрительно. Иногда хочется спросить, не будут ли и читатели для вас незваными гостями. Поскольку созданное вами, думаете вы, есть ваша неотчуждаемая собственность. И требуете вечного права собственности. Но в таком случае стоило ли вообще начинать выносить свои сочинения на публику?
Вы не сумели верно оценить положение, которое вдруг стало вашим уделом. Сначала – имя автора, написанное сверху заглавия на обложке: ваша фамилия или псевдоним, не суть важно. Это присутствие уже было непристойно. Предоставляя нам, таким образом, открытое доказательство того, что эта книга, этот набор слов, более или менее замаскированный, – все это вы, вы в то же время немало беспокоились о своей репутации. И теперь хотите сказать, что в один прекрасный день, при случае, сможете отречься от книги, как от блудного сына?
Вам так понравилась эта возможность надежно, раз и навсегда, приковать наконец к себе взгляд другого. В то время как этот другой, читатель, удивительно свободный и своенравный, нескромный, глупо любопытный до всего, уже составлял себе ваш портрет, распространял его и воспроизводил, так что портрет начал от вас ускользать и вернулся к вам в виде товарного знака. Ему, этому читателю, недостает утонченности. Он будет окликать вас даже в могиле. Он будет возвращать вас к жизни, к своей и к вашей. Точно так же, как ваша гордость есть ничто без возможности позора, ваша писательская слава никуда не годится без добавки его любопытства.
Признайте же это противоречие произносимого и непроизнесенного, это беспокойство, неотъемлемо присущее литературному слову, эти запутанные и недоговоренные признания – всего этого достаточно, чтобы нас заинтересовать. Но кто избавит нас от желания понять?
«Попытка ускользнуть из сферы отцовского»
Начинающему писателю со всех сторон угрожает давление тщеславия. Внушающая робость когорта великих писателей прошлого настойчиво призывает его замкнуться в чтении и восхищении. Всемирная библиотека давит на него всем своим весом. Великие образцы предписывают ему молчать (например, человек действия, стремящийся ответить на вызов Истории, мудрец, не делающий уступок печатному слову, а также святой, достойный восхищения за свое молчание[87]). И как будто этих препятствий недостаточно, его стремится поразить внутренний враг – его собственное ироническое и скептическое «я». Георг Артур Гольдшмидт писал об «изначальном парадоксе становления любого сочинительства»: оно находится под взглядом «невидимого свидетеля, который стоит за вашей спиной и улыбается», готовый объявить смешными все ваши попытки.
Но молодого человека, ступающего на литературный путь, поджидает и множество других испытаний. Все еще живя в доме, где прошло его детство, он чувствует себя скованным. Семейная среда, как и общество в целом, оказывает на него подспудное ежедневное давление, внушая ему, что он должен стать полезным и удовлетворить клановые амбиции. Его настоящее зависит от взгляда других. Маловероятно, что в будущем ему суждено войти в историю. Его желание писать, таким образом, стиснуто в тисках двойной преемственности. С одной стороны, недоступная и давящая воображаемая родня, состоящая из великих предшественников, с другой – сдерживающая порывы группа настоящих родственников, сила домашнего очага, толкающая к экономически выгодному будущему. Сопротивление писательскому призванию с двух сторон, со стороны семьи и со стороны общества, – старая история. Под таким давлением занятия литературой стали требовать подвижничества и приняли монашеский оборот. Марк Фумароли показывает, что Боккаччо, Петрарка, Расин и Вольтер больше других вынуждены были сопротивляться неодобрению близких. Отец – купец или нотариус – неодобрительно смотрел на сына, выбравшего литературную карьеру. Но если не отождествлять писательское призвание и тиражи опубликованных книг, можно ли сказать, что в наши дни что-то изменилось?
* * *
Вы хотите быть писателем? Возможно, ваша мать похожа на мать Ромена Гари, Нину Кацев, и она говорила вам с самого детства: надо писать. А потом, продолжая жить в вашем голосе, стала писателем через вас. Тогда вам бы угрожал прежде всего стыд не выполнить материнскую волю. Так было и с маленькой Наташей, будущей Натали Саррот: именно с подачи матери (тоже писателя, и подававшего некоторые надежды) она показала «господину» тетрадку, в которой писала красными чернилами корявые буквы своих первых литературных опытов. «Прежде чем браться писать роман, нужно научиться правописанию», – услышала она в ответ. Впоследствии она объясняла свой поздний приход в литературу этой «детской травмой». В некотором смысле любой литературный опыт, независимо от того, осуждают его или одобряют, поначалу является орфографической ошибкой, конфликтом с упорядоченным миром труда.
Случаи, когда окружение препятствует писателю, встречаются, по-видимому, чаще. Дюрас, или скорее Маргерит Донадьё, было пятнадцать с половиной лет. Она сказала своей матери, что хочет писать книги, романы. Нет, ответила ей мать, не думай больше об этом, нужно пройти конкурс на преподавателя математики. «Она против, это недостойно, это не работа – позже она мне скажет: ребяческое стремление».
Чаще всего ваше окружение – среда, клан, племя, братство, отцы, матери, души ваших предков, наследники производителей, союз сыновей чьих-то сыновей – все они достаточно твердо, хотя и без единого слова, говорят вам: ты не будешь писать. Наряду с вашим собственным «я», внутри вас – вот еще одно мысленное препятствие – сидит ваш ближний, к которому вы не хотите быть близки, главный носитель тайной цензуры, осуществляемой общественными установлениями над литературным свободомыслием: подчиняющаяся высшим авторитетам семья.
Чаще всего, за исключением случаев нескольких писателей по призванию, выросших в художественной среде или при такой матери, как Нина Кацев, окружение писателя достаточно враждебно относится к желаниям, которые противоречат социальным установкам этого окружения. Чаще всего оно стремится отвратить вас от искусства в целом (поскольку в лоне обыкновенной семьи любой подающий надежды человек искусства, в сущности за редким исключением, есть потенциальный неудачник, паразит, препятствующий смелому будущему), и от литературы в частности (поскольку писатель, веще большей степени, чем представитель другой творческой профессии, способен раскрывать тайное). Адзуса, отец Мисимы, утверждал, что заставил своего сына пообещать, что он больше не будет писать: «Мой сын, отложи пока что литературу, и раз тебе повезло иметь хорошие мозги, воспользуйся ими и займись вещами, которые тебе пригодятся в жизни: физикой, механикой или химией». Но поскольку сын продолжал писать по ночам, до рассвета, то Адзуса, когда мог, заходил в его комнату и рвал рукописи.
Для подчиняющейся авторитетам семьи писатель означает угрозу скандала. Это так. Семья постоянно настороже. Она защищает себя. Подающий надежды писатель – это троянский конь среди мирного очага. Не бросит ли он вызов самым истокам, не выставит ли на всеобщее обозрение то, что клан на протяжении веков пытался скрыть? Это нужно подавить, задушить в зародыше.
Ребенок, со своей стороны, тоже беспокоится. Что подумает отец, спрашивает он себя, что подумают мать, сестры, братья, семья о том, что я сочиняю? Те слова, которые я пишу, – не направлены ли они как раз против них, против их влияния? Дам ли я им это прочитать? Не набросятся ли они на меня, к своему стыду, да и к моему стыду тоже? И тогда меня еще больше, чем когда-либо, станут отвергать, отталкивать, при том что я, напротив, и, по-видимому, в первую очередь хотел их признания? Ему придется, ценой некоторой отчужденности, отвоевывать себе независимость. Но вместо того чтобы отвернуться от родственников, он, во всей своей наивности, пойдет прямо навстречу гибели: он хотел бы, чтобы его любили за его предательство.
* * *
Какое простодушие думать, что можно безнаказанно показывать свои первые литературные опыты близким! И сколько понадобилось времени Кафке, чтобы убедиться в непреодолимости стены, которую его сочинения возвели между ним и его отцом! О, эта стена, которую он построил как раз для того, чтобы выдержать удушающее отцовское воздействие: «Меня подавляла сама Твоя телесность, – пишет он в „Письме отцу“. – Моя самооценка больше зависела от Тебя, чем от чего бы то ни было другого, например от внешнего успеха»[88]. К большому удивлению своего друга Макса Брода (считавшего независимость духа и творчества благоприобретенными качествами и находившего, что Кафка сам обрисовывал «совершенно обескураживающий образ своей личности»), он хотел назвать все свое творчество «попыткой ускользнуть из сферы отцовского».
Подобная попытка наталкивается на непреодолимые препятствия. Для Амоса Оза ускользнуть из сферы отцовского прежде всего означало, наоборот, избегнуть книг. Еще в подростковом возрасте его скрытое литературное призвание вступало в противоречие одновременно с призывом Истории (то есть призывом к действию) и с необыкновенным стремлением порвать с отцом, страстным поклонником знания и культуры. Уйдя в кибуц в возрасте примерно пятнадцати лет, Амос Оз хотел раз и навсегда расстаться с отчим домом, сбежать из «мира учености и беспрестанных разглагольствований», в котором он вырос. Но это было сильнее его, и с наступлением ночи, оставшись один в пустой комнате возле застекленного книжного шкафа (в котором громоздились пыльные ряды журналов «Юный рабочий», «Ежемесячник работницы» или «Нива»), он до полуночи глотал книги и вновь начал писать, «вдали от нескромных взглядов, испытывая стыд, омерзение, отвращение». «Я, однако, пришел в кибуц не затем, чтобы сочинять стихи и истории, но чтобы возродиться, повернуться спиной к горам слов, загореть до самых костей и стать земледельцем, работать на земле».
* * *
Вы действительно хотите быть писателем? Хорошенько осознайте, что всю жизнь вам будет мешать это препятствие – взгляд ваших родных, порой презрительный и невежественный, или даже благие стремления давать вам разумные советы. К каждому вашему сочинению будут пристально приглядываться; какую-нибудь мелочь могут прочитать как непристойность, повсюду будут выискивать разглашение, более или менее открытое, сведений личного порядка – в зависимости от неписаных правил среды, из которой вы происходите, а не только от количества признаний на страницу ваших сочинений. Ваши так называемые близкие, не довольствуясь одним лишь неодобрением, позволят себе вынести окончательное суждение в области, которая, однако, им совершенно чужда, – чего они не осмелятся сделать по отношению ни к какому другому занятию. «Мой отец никогда не читал ничего написанного мною, – пишет Мисима своему другу Фумихико Адзуме. – Но он не стесняется меня критиковать: писательское ремесло пристало, как он сообщает мне, только жителям вырождающихся стран». Почему ты пишешь этот ужас? – говорила Фланнери О’Коннор ее мать, упрекая ее, что та не написала романтического сочинения в духе «Унесенных ветром». Фланнери удалось не придавать этому значения. Но в то же время не предвещает ли эта реакция реакцию читателей – или реакцию не-читателей?
Стыд писателя и неизбежное следствие этого стыда – гордыня, связанная с осознанием собственной уникальности, – перекликается со стыдом незаконнорожденного: ощущение ненужности, открытие, что ты зависишь от кого-то, вписан в структуру мира, и одновременно один, лишен чьей-либо любви. И прежде всего исключен из семьи, или из общины. Или же, подобно Бодлеру, внезапно отлучен от матери (вышедшей замуж вторично за генерала Опика) и отправлен в пансион. «Он со стыдом обнаружил свою сирость, – пишет Сартр, – обнаружил, что его существование дано ему просто так»[89]. С тех пор он чувствовал себя под взглядом генерала Опика и под надзором семейного совета. И в то же время одиноким, безвозвратно одиноким. Это состояние можно было бы назвать «синдромом генерала Опика».
Гомбрович I, или Стыд начинающего писателя
Итак, вы наконец доверили свою рукопись некоему X, с которым вас не связывают никакие родственные отношения: вы интуитивно поняли, насколько важно избегать семейного круга, чтобы получить право проникнуть в волшебные сферы литературы. Но вы прекрасно знаете, что на этом трудности еще не кончились. Мистер X, прежде чем вы торжественно разъяснили ему важность своего поступка, наверняка уже прочел на вашем лице следы неловкости. Вот вы даете ему советы по части благоразумия. Вы слышите, как говорите ему: не показывайте это никому, я хочу знать, что вы, именно вы думаете об этом. Все ваши слова сводятся к тому, чего вы не говорите вслух: рукопись – это я. Не потеряйте меня, не бросайте меня где попало, не выставляйте меня под нескромные взгляды – как если бы ваш текст лежал всеми буквами наружу.
Что это – игры нарциссизма? неуместная гордыня? Не только. Отправить кому-нибудь письменное произведение означает обнажить себя. Дать рукопись на прочтение первому читателю – поступок, который делает писателя жертвой стыда, непристойности, сомнений. Кому, как не издателям, знать это, ведь они призваны служить связующим звеном между циркуляцией рукописей внутри более-менее своей среды и будущей публикацией, они непосредственно соприкасаются с муками писателя, его капризами, паранойей и фобиями. Причины подозрительности автора – одновременно гордыня и самоуничижение. Другой человек, читая меня, читая, в сущности говоря. мои недостатки, подтверждает существование первого типа стыда, стыда за себя – пешку в своих собственных руках. Он также возвещает и второй тип стыда, стыд за все остальные мои «я», подкарауливая мое поражение и мои недостатки.
Попробуем описать новые раунды этой борьбы дебютанта против писательского призвания и смеси стыда и гордыни. Восстановим путь, который обычно проходит самая первая рукопись, начиная с ранних опытов молодого писателя, который дает прочитать свои произведения. С этой точки зрения образцовым сюжетом представляется непреодолимый стыд Витольда Гомбровича по отношению к занятиям высокой литературой.
* * *
Гомбрович говорил, что разделял со своими братьями чрезмерное «чувство смешного», избыток иронии и сарказма, убивавший «любой непосредственный порыв». И ничего удивительного, что, когда он показал свои первые писательские опыты старшему брату Янушу, тот высказался прямо:
«– Какой ужас, – сказал Януш. – Выброси эти листки, ведь они покроют тебя позором, не говори никому, что ты запятнал себя, написав подобные вещи, а в будущем постарайся найти себе другое занятие.
– Ты бы лучше побольше охотился, – добавила моя свояченица Пифинка.
В глубине души я признавал их правоту. Я сжег свое сочинение и вернулся к социологии».
Итак, поначалу юный Витольд отказался от писательства и вновь погрузился в изучение социологии: он отступил. Потом он воспротивился и стал вынашивать замысел романа. Это была история бухгалтера, над которой, как Гомбрович впоследствии рассказывал в «Воспоминаниях», он работал «усерднее, чем кучер или повар». Тем не менее его постоянно мучили сомнения: если писательство и заставляло его страдать, то этого было недостаточно, чтобы облегчить его совесть или внушить ему должное уважение к столь тяжелому занятию. Ему понадобилось еще несколько лет подспудного вызревания, или, скорее, какой сам говорил, «незрелости», чтобы действительно войти в литературу.
Теперь писательство стало «ясной и выверенной работой, нацеленной на конкретный результат». Свои короткие произведения, новеллы, он решительно собирался сжечь, если бы они провалились, и начать писать что-нибудь другое. Но они не провалились, напротив: это были его первые произведения, уже очень оригинальные. И тем не менее, когда они были закончены, Гомбрович на этот раз не хотел их никому показывать: «Мне было стыдно. […] Писательская работа казалась мне немного смешной – быть человеком искусства, поэтом, какая бестактность! А первые шаги молодого человека, развивающего свои мысли, были, на мой взгляд, обречены на несмываемое осуждение».
Хранить свои первые рукописи в столе – в этом Гомбрович был не одинок. Что в нем более уникально, так это то, что травма первого опыта и страх поражения внушили ему желание выиграть время. В примерно двадцатилетием возрасте он решил сознательно написать роман, который был бы «плохим», выплеснуть в книге то, что в нем самом было «плохого, постыдного, непристойного». Перепечатанный на машинке экземпляр этого романа он дал почитать одной даме, которой доверял и которая верила в него. Дама прочитала, вернула Гомбровичу текст без единого слова и отказалась когда-либо в будущем его видеть. Охваченный паникой, Гомбрович бросил роман в огонь. Впоследствии, сорок лет спустя, он, однако, спрашивал себя, не был ли это самый дерзкий его проект.
Когда же он наконец представил редактору сборник своих первых новелл (объединенных под заглавием «Воспоминания о временах незрелости»), он делал это еще, как он вспоминал, «со стыдом». Само название отражает отношение автора к своим собственным произведениям. «Я тогда очень стыдился писать, я скрывался, прятал свои бумаги, когда кто-нибудь входил в мою комнату, и до сих пор нахальство начинающих писателей, это их „я – поэт“ беспокоит меня так же, как рисовка, достойная павлина, во всю ширь распустившего свой хвост, демонстрируемая такими признанными поэтами, как Кокто или Арагон со своей Эльзой».
В то же время Гомбрович еще не окончательно отказался от попыток вымолить у членов своей семьи хоть крупицу понимания. Когда вышла его первая книга, он очень хотел показать ее родным. Новое унижение: вокруг него замешательство и молчание. Близкие определенно оказались безучастны. «Я предполагаю, что, если бы я вступил в балетную труппу и принялся полуголым скакать перед публикой, моя семья растерялась бы не больше. Именно это называют „почтенным семейством“, спрашивающим себя, за какие грехи оно оказалось подвергнуто такому стыду».