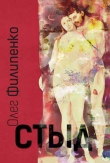Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Французский позор 1870 года, позор разгрома, позор Виши, немецкий позор… В истории постыдные эпизоды сменяют друг друга и нередко друг на друга походят. Память о них чаще всего источает горечь и озлобленность. Они с отвращением смакуются десятки лет, порой переживают века. Со временем, старея в дубовых бочках, они приобретают свой неповторимый запах. В результате получаются самые разные напитки: от обычного отдающего уксусом кислого вина злопамятности и раскаяния до божественного вина литературы, благодаря чему стыдология превращается вэнологию.
Проявления стыда соединяются и вкладываются друг в друга сменяют друг друга и накапливаются; они связаны друг с другом тысячью невидимых нитей, узлы которых образуют вокруг отягченной виной памяти нечто вроде санитарного кордона. Исторический стыд, стыд себя, стыд за себя, стыд себя, разделенный надвое, стыд за другого, стыд себя как другого, стыд другого как себя, стыд стыда: в конечном итоге стыд забывает о своем предмете. Тем не менее он всегда к чему-то привязан. Он имеет не только физиологический и психологический возраст, но также поколенческий и исторический. Ему как будто бы мало его собственного масштаба – нужно еще подавать себя в форме коллективных построений, даже категорий, навязанного оформления и идентичных копий, которые опускают его все ниже, в определенном смысле вульгаризируют его, так что в результате личный стыд смешивается со стыдом других.
Таким образом, на бирже стыдов оказывается очень трудно выторговать себе собственный, четкий и ясный стыд, не испытав при этом ощущения, что ты его уже лишился. Ведь это чувство, будучи личностным, столь же легко приобретает историческую значимость. В этом случае дрожь стыда не ограничивается тем, чтобы наложить отпечаток на социальный, общинный или национальный организм: она способна отметить тот или иной момент Истории, вызвать долговременное чувство.
Неустранимость и непреходящесть стыда, его природа, историческая и индивидуальная одновременно – вот о чем куда лучше, чем любое историческое повествование, нас заставляет задуматься литература.
* * *
Связующее звено между индивидом и коллективным поведением (семьи, социума, нации), стыд никогда не бывает делом, касающимся только меня и меня: попав в эту сеть, каждый оказывается одновременно мухой и пауком. Непосредственным следствием стыда становится появление нити между Мной и Другим, соединение «я» с «мы», «ты», «они» и «кто-то», а следствием долгосрочным – закрепление злопамятства. В своей воображаемой этнографии Робер Пенже прекрасно описывает эту заразительную логику: «Когда они стараются избежать стыда, они превращаются в самых жалких личностей, каких мне когда-либо доводилось видеть. Поскольку прозрачность их душ является не просто основополагающей, но еще и движущей силой, так что они несколько напоминают стекло, которое бы двигалось вперед, чтобы вот-вот разлететься, натолкнувшись на препятствие, никакая низость не остается достоянием только того, кто ее совершил. Она встраивается в сеть мерзостей, связывающую всех этих людей между собой».
Итак, нет ничего удивительного, что стыд – чувство особенно непристойное, одновременно историческое и индивидуальное, личностное и коллективное, быть может, в большей степени, чем любое другое, экстенсивное, экспансивное, заразное, способное охватывать всех людей без разбора, – оказывается чистым спиртом литературы.
Ибо если мы можем сопереживать всякому, кто признается, что ему стыдно, а в особенности тому, кто об этом пишет, это значит, что именно он, будучи какой-то частью связан с нашим коллективным опытом, говорит нам: «Я как вы».
Вечно униженные дети
Мне стыдно за себя, за них. Жорж Бернанос
В 1939 году, разрываясь между двумя войнами, одной минувшей, другой – близкой и неизбежной, Мишель Лейрис предчувствовал, что его пора возмужания не настанет до тех пор, пока он не испытает – в той или иной форме – того, с чем довелось столкнуться его старшим современникам. Но на самом деле наступила ли вообще эта пора возмужания? После войны, в декабре 1945 года, на развалинах Гавра тот же самый Лейрис, перечитав написанное им несколькими годами раньше, признался, что теперь он еще менее способен принять вызов Истории.
Униженный ребенок – вечный ребенок. Попав в сети общего, исторического или национального, бесчестья, он страдает от этого наследия как от собственной душевной раны и приговаривает себя к разочарованию. Чувствуя себя обманутым, ограбленным Историей, наглухо заколоченным в своем времени, он испытывает двойной стыд: индивидуальный – стыд своего детства, и коллективный – стыд целого поколения. Родившийся слишком рано или слишком поздно, между «прошлым, уничтоженным навсегда, и сиянием необъятного горизонта», он оказывается во власти исторического времени, где героизм сопряжен с прошлым: кто лучше, чем Мюссе во II главе «Исповеди сына века», выразил это рассогласование времен? Эпоха вселяет в молодых «неизъяснимое беспокойство». «Все то, что было, уже прошло. Все то, что будет, еще не наступило. Не ищите же ни в чем ином разгадки наших страданий». «Пылкая душа» может лишь «замыкаться в болезненных видениях». Ее порыв гаснет в убогом настоящем, а бездеятельная сила растворяется в «увлечении отчаянием». Впрочем, и сам дух века теперь не более чем призрак: «полумумия, полуэмбрион», этот ангел сумерек «сидит на мешке с мертвыми костями и, закутавшись в плащ эгоизма, дрожит от страшного холода»[15].
Униженный ребенок больше не может сломя голову броситься в Историю. Его ностальгия неизлечима. В его собственных глазах истина такова: что бы он ни делал, время героев прошло безвозвратно. Страдая от избытка рефлексии, он видит себя только как ничтожное передаточное звено в бесконечной цепи бессильных поколений.
* * *
В поколении Мюссе ностальгия униженных детей была окрашена в меланхолические тона. Ее краснота смягчилась до бледности, до чахотки, до болезни века. Она сделалась прекрасной и печальной. Она превратилась в литературный абсолют. В этом заключалось ее спасение. В этом же, после воинственных лет лирической иллюзии, возможно, заключается и наше. В пространстве воображения память может дышать, прошлое – делаться относительным, стыд и неудовлетворенность – иронизировать над собой. Внутри текста разворачивается иное время.
По правде говоря, смотреть ли вблизи или издалека, любой век источает свое зло, и любое зло любого века имеет дело со стыдом. Вот о чем, яснее, чем когда-либо, говорит нам литература. В конечном счете, какое поколение не было потерянным? Какое потерянное поколение втайне не страдало от стыда? Мы все – отвергнутые сыновья, потенциальные Мюссе, раздираемые надвое Лейрисы, дети, стыдящиеся своей неспособности продолжить героическое дело, завещанное нам отцами. Меняется лишь соотношение между нашими двадцатью (или семнадцатью, если говорить о психологическом возрасте) годами и историческим моментом, который то считает себя решающим, то называет себя Слишком Поздно или В Промежутке. Именно поэтому связь между Рембо и Парижской коммуной останется предметом нескончаемой экзегезы.
Для униженного ребенка Великий Стыд Истории так или иначе всегда будет слишком велик. Актер поневоле, герой или неудачник, он смотрит на него, как смотрят на недостижимый горизонт: стыд думает за него и доводит до крайности его субъективность. Его микроскопический стыд, определяющий его сущность, таящийся в его глубинном «я», без следа пропадает в этом океане.
Именно История с очевидностью доказывает относительность стыда. 1917 год. Как мыслить свободно посреди этого варварства? Как реагировать на «стыд, навязываемый людям – людям вообще»? Этим вопросом задается Крипюр, персонаж романа Гийу «Черная кровь». Пока дети идут на смерть, пока их расстреливают как дезертиров, Крипюр, не простив мелкой обиды, собирается решить дело дуэлью. «Дуэль в разгар войны – это конечно же было более чем смехотворно. В конечном счете это было отвратительно. Среди миллионов воюющих он один нашел способ устроить дело и довести его до пистолетов – он был твердо в этом уверен! – вещь настолько неслыханная, что она, без сомнения, становилась просто-таки историческим событием. В грядущие времена о нем будут говорить: это тот псих, который… И позор, смех, нелепица будут сопровождать его имя в вечности».
1940 год. «Мне стыдно за себя, за них», – пишет Жорж Бернанос в своем дневнике «Униженные дети», где, пророча разгром, он возмущается родиной, оказавшейся в смертельной опасности. В 1938 году, незадолго до Мюнхена, этот авантюрист пятидесяти одного года от роду вместе со своей семьей (шестью детьми и племянником) сбежал из «тоталитарной Европы» – сперва в Парагвай, где пробыл всего несколько дней, потом в Бразилию, где прожил семь лет. В его огнедышащих эссе (он больше не может и не хочет писать романы) навязчиво повторяется тема стыда. Укрывшись на фазенде, подобно тому как другие укрываются в лесах, он провозглашает, что эта война – «позор для того поколения, которое участвовало в предыдущей» и к которому принадлежит он сам. Его перо раз за разом выводит слово «стыд»: «Некогда голод и стыд спасли Германию. Пусть же теперь они спасут нас!», «Ибо мы – поколение стыда»[16], «Да, это правда, что преступление рождает стыд. Но иногда, и чаше, чем полагают обычно, стыд рождает преступление». Текст, написанный в сентябре 1941 года, озаглавлен «Позор обходится дорого» – речь идет о позоре Виши. «Из-за позора будет пролито больше крови, чем потребовала бы честь».
Но может быть, стыд, которому до сих пор приписывались почти исключительно пороки, не лишен и некоторых добродетелей? И да, и нет, говорит нам Бернанос. Он не разделяет точку зрения какого-нибудь Жуандо, для которого стыд – это путь, но также откровение, даже богоявление («Внутри стыда мы внезапно замечаем – не знаю уж, при каком свете, – что чувство оттенков рождается вовсе не из Греха. Мы узнаем то, что потеряли, обнаруживаем это и, ликуя, обретаем это вновь, но Чистые никогда не согласятся признать, что мы пришли к тому же, что и они, и что мы избрали другой путь»). По мнению Бернаноса, наоборот, даже если приходится пройти через это моральное убожество, даже если оно может показаться спасительным, чаще всего стыд – это проклятие, непоправимая беда. «И притом только в стыде есть настоящая печаль; только стыд печален, потому что он неисцелим. Из всех человеческих горестей он единственный, от которого не освобождает и смерть. Я не принял стыд, почему я должен принимать печаль?»
* * *
По словам Дональда Натансона, понятие стыда следует считать ключевым для нашей эпохи – подобно тому как для поздневикторианской эпохи ключевым было понятие тревоги. Действительно, политических друзей стыда можно найти повсюду – как среди революционеров, так и среди консерваторов. В этом смысле стыд выступает как окончательная моральная оценка: «У Баттисти нет стыда», – пишет журналист «Стампы»; «От стыдливого расизма к расизму напоказ», – гласит заголовок в «Либерасьон»; «Антисемитизм – это стыд», – говорит премьер-министр. Консерваторы (в моральном или политическом смысле) нередко исповедуют предрассудки, благосклонные к стыду, «потому что в их понимании стыд – это чувство, способствующее сохранению традиционных ценностей, подобно чести или целомудрию». «Но конечно, – добавляет Рювен Ожьян, – для того чтобы быть другом стыда, не обязательно быть консерватором». В действительности можно было бы утверждать совершенно обратное. Ведь для человека Запада стыд выступает еще и как источник солидарности. «Имейте смелость прочитать Фанона, – пишет Сартр, – вам станет стыдно, а стыд, как говорил Маркс, – чувство революционное».
Хорошо видно, что нас все время водят за нос: на политическом поприще все тончайшие нюансы стыда промениваются на морализирующее, легко управляемое чувство, сходное с чувством вины. Для политика изначальный стыд – это тяжкое бремя. «Марксизм останавливается перед внутренней жизнью», – говорит Маргерит Дюрас; не только марксизм, но и всякое политическое мнение, всякая общественная жизнь останавливается перед внутренней жизнью. Категоричность радикала уничтожает навязчивый стыд происхождения, как и стыд телесного несовершенства, или превращает его в инструмент, лишая всякой эмоциональной наполненности, всяких внутренних терзаний. Радикалу, как и политику, требуются не связанные никакими узами, мобилизованные тела, примитивные носители чувства вины, которые, не оглядываясь назад, могут воплощать собой безупречную идентичность.
* * *
Итак, мы должны пойти дальше по пути признания стыда как тайного, двойственного чувства, в котором смешиваются и сталкиваются личное и стадное и которое в конечном счете не в силах найти слова, чтобы выразить себя в сфере социального. Сколь бы всеобщим ни казался порой стыд, он подчеркивает непонимание между Мной и Другим, между моей маленькой историей и Большой. Он выражает неустранимый изъян, неразрешимую противоречивость субъекта, запутавшегося в своих планах, стремящегося принадлежать к общности, сделаться, подобно другим, гражданином или солдатом и одновременно неспособного осуществить это стремление, раздавленного этой неспособностью и превращающего ее в одиночество, в просветленность или в манию преследования.
Так что же, наряду с другими возможностями, может дать эта драма разорванного существа, снедаемого завистью к человеку действия, неспособного вообще удалиться от мира, подобно святому или мистику, против воли находящего убежище в воображаемом мире слов? Помимо других возможностей, она дает существо, которое называется писатель.
Об изобретении литературы как порнографии
(Руссо, Достоевский и другие)
Стыд есть везде, где есть «тайна». Фридрих Ницше
О, если бы все могло быть высказано и таким образом высвобождено: мы можем только мечтать об этом, воображая себе свободное слово! Если бы все могло быть явлено на свет – инцест, изнасилование, траур, онанизм, наслаждение, измена, извращение, грех, бессилие, все нижнее белье Истории и интимной жизни… Intus et in cute…[17] С одной стороны, подобная мечта как раз и стала сегодня мечтой писателя: получив привилегию вызывать на очную ставку свою собственную тайну, он делает нас участниками освобождения. В итоге он выполняет ту задачу проституирования и экзорцизма, которую возлагал на литературу Фрейд: «Создатель литературных произведений дает нам отныне право наслаждаться нашими собственными фантазиями, без упрека и без стыда».
Так ли надежна эта чудесная операция? Тайна кроется в детских годах и в происхождении: Руссо сказал об этом раньше Фрейда и, что гораздо важнее, по-другому. Именно там истоки нашего первородного стыда, ребяческие в обоих смыслах этого слова: детские и незрелые. Но исповедальная литература – это когда о постыдном говорят вслух даже в большей степени, чем держат постыдное в себе, это повествование, воскрешающее давний стыд и пускающее в ход одновременно и силу, и бессилие откровенности. Она уделяет столько внимания возмутительным, непристойным и «зачастую смешным» подробностям – всему тому, что Стендаль назвал «неудачами самолюбия», – не только для того, чтобы углубиться в тайну, но и для того, чтобы восстановить в процессе письма саму ситуацию признания и ту опасность, которую она несет с собой. Эту мысль блистательно выразил Руссо: «…Всякий, кто прочтет мою „Исповедь“ беспристрастно, – если только это когда-нибудь случится, – поймет, что мои признания тем более унизительны и тяжелы, чем если б речь шла о большем зле, о котором не так стыдно говорить; но о нем я не говорил, потому что не делал его»[18]. Время писания было для Руссо временем бесчестья и слабости: тайна останется вне книги, в невозможной и безумной сиюминутности, в неадекватном восприятии.
Постоянно отодвигая границу между благопристойным и тем, о чем говорить нельзя, исповедальная литература придает более склонной к утвердительности мысли философов, антропологов или психоаналитиков форму вопроса. Тайна стыда в том смысле, как я понимаю его здесь, стыда напрасного, невыразимого, вызываемого скорее разорванным сознанием личности, нежели внешними по отношению к ней моральными ценностями, бросает вызов той лаборатории воображаемого, которую мы называем литературой.
У Достоевского она занимает центральное место. Но к самоэкзорцизму у него стремится не столько детство, сколько отрочество. По правде говоря, стыд – это груз наследства, которое подросток (а именно так называется важнейшая книга Достоевского) не перестает оплакивать. Но стыд – это еще и избыток рефлексии, на которую из-за этого обречен герой. «Надо мной смеялись все и всегда, – восклицает смешной человек. – Но не знали они и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я…» С тех пор (особенно в «Братьях Карамазовых») то и дело слышится: «Какой стыд! Просто стыд!» Ведь пока стыд громко заявляет о себе, тайна, как мячик, перелетает от персонажа к персонажу. И от бессилия остается только впасть в негодование или в бешенство.
Прозрачный человек Жан-Жака и подпольный человек Федора Михайловича a priori достаточно далеки друг от друга. Идеал прозрачности, идеал искреннего человека, который мог бы говорить обо всем без утайки, – это утопия эпохи Просвещения. Подпольный человек, пресмыкающийся человек («Подполье, – замечает Рене Жирар, – это утопание, увязание в Другом») тесно связан с исторической судьбой русской интеллигенции в XIX веке. Несмотря на различный контекст, и Руссо, и Достоевский пишут в состоянии параноидальной одержимости унижением. На угрозу со стороны внешнего мира оба отвечают мазохизмом. Один – незаконный ребенок, деклассированный и лишившийся дома сирота, неудачник с манией величия; другой – вечный холостяк, не слишком отесанный подросток, маленький бюрократ (но одновременно демон, игралище бесов). У них есть общий для обоих стыд – стыд безвольного человека, раздавленного властью собственной гордыни, умаленного самой своей чрезмерностью. У обоих стыд вызывает сладострастие. Обязанные своим стыдом преступлению отцов, они освобождаются от него путем парадоксального наслаждения. Руссо (после признания о том, как он обнаружил, какое удовольствие доставляет ему порка): «…Я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности…»[19] Достоевский, «Бесы»: «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение».
У Руссо и Достоевского литература становится как бы апологией первородного стыда – настолько, что становится возможным говорить о героизме стыда. Достоевский, «Записки из подполья»: «…Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться». Это значит, что все пережитые маленькие стыдики ведут к великому стыду, к глубинному стыду – к стыду быть человеком. Мысль Достоевского рассматривает и эту связь: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками».
* * *
Конечно, есть и писатели, которые в нежном возрасте отвернулись от того, что обычно принято называть стыдом. В литературе каждый проявляет свою стыдливость, как может, в том числе и посредством напускной развязности. Положение в обществе, большее или меньшее отвращение к своему фамильному, общественному или национальному происхождению ничего не значат для всеобъемлющего разделения на чемпионов по откровенности и чемпионов по скрытности. Тем не менее отметим следующее: после Руссо, после Достоевского и после Фрейда фантасмагория стыда – больная совесть писателя, но одновременно своеобразная форма его трезвомыслия – нередко оказывается в центре литературного творчества. Стыд терроризирует синтаксис исповедальных книг, он блуждает в их пунктуации. Под властью взгляда другого его отрицательный принцип проходит как некая неразгадываемая тайна через произведения Конрада, Готорна и Кафки, но также Поуиса, Гомбровича, Мишо, Жене, Лейриса, Беккета, Бассани, Рушди, Дюрас, Филипа Рота, Анни Эрно, Мари Ндиай, Мишеля дель Кастильо, Мисимы, Осаму Дадзая, Кутзее, да и многих других – независимо от того, изображают ли они его в явном виде, подобно глазу циклона, или же это чувство просачивается сквозь ткань их произведений, как неодолимое влечение.
Что общего между всеми этими писателями? Может быть, неизбежное, глобальное столкновение с катастрофой Истории? Или жизнь, пришедшаяся на эпоху, когда политическое искушение было особенно сильным («Самой малости не хватило, – признавался Гомбрович, – чтобы я стал коммунистом»), – и, чтобы ему противостоять, им пришлось изобретать новые формы литературного нарциссизма, если угодно, нарциссизма сопротивления тому, что Батай назвал «системами исторического присвоения»?
Могут сказать, что по-настоящему этих униженных детей не объединяет ничто – даже если складывается впечатление, что они связаны общими тайнами мира, который их окружает, и Истории, которая проходит сквозь них, даже если они получили одно и то же литературное наследство. По образу и подобию Достоевского, который «стыдился быть русским, стыдился быть сыном своего отца, стыдился быть Федором Михайловичем Достоевским» (Рене Жирар) и не мог ни к чему прилепиться, писатель стыда – это апатрид, heimatlos[20], сирота, блудный сын, враг семьи, дезертир, одиночка, писатель разрыва. Именно поэтому везде – не исключая и пространства литературы – он чувствует себя чужим, стремясь наслаждаться в отдалении от изящной словесности: «Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе, – пишет Достоевский в начале „Подростка“. – […] Я – не литератор, литератором быть не хочу, и ташить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью».
Для Европы можно даже указать изначальное время этого брака между стыдом и литературой. Конечно же оно неотделимо от того момента, когда благодаря Руссо было изобретено то, что впоследствии назовут автобиографией (момента, продолженного и углубленного особенно в творчестве Лейриса); того момента, когда индивид обнажает свои слабости и свое бессилие, когда он принимает в расчет опасность языка: того момента, когда писатель, извлекая максимум из давнего уже урока, выжимая из него все соки, словно бы говорит нам: это больше, чем книга, это мое тело, мой обнаженный опыт, который текст разоблачает и развращает.
С тех пор спираль обнажения сделалась неотвратимой. Не следовало начинать говорить о чем бы то ни было личном. Не следовало придавать такой размах этому эмоциональному порыву, который, как вполне можно было предугадать, не будучи a priori особенно обольстительным, тем не менее удачно вошел в моду на литературных дефиле – наряжаясь и любезничая, прихорашиваясь и со вкусом гримируясь.
Тем более что внешний декор все больше и больше поддавался такого рода разоблачению: ощущение утраты ценностей словно бы сопутствовало ситуации, мало-помалу включившей в себя самого писателя и всецело зависящей от непрерывно менявшегося imago[21] литературы. Доминик де Ру пишет о Гомбровиче: «Никогда еще бездонная нищета бессилия положения литературы не обнажалась с такой страстью, с такой отточенной элегантностью». Ното, что верно по отношению к Гомбровичу, применимо и к некоторым его выдающимся современникам. XX век, ко всему прочему, был еще и тем историческим моментом, когда осыпалась золотая легенда литературы; когда слова «литература», «писатель», «литераторы» оказались унижены, демифологизированы и десакрализованы; когда свергнутый писатель испытал отвращение от соприкосновения со своими собратьями, именуя их «жанделетрами» (Беккет) или «тщеславными орнаментальщиками» (Мишо); когда Бернанос обрел право, как он с горячностью утверждал, «вместо „литератор“ говорить себе „скотник“», что казалось ему куда предпочтительнее; когда австрийский писатель Карл Краус провозгласил: «Почему человек пишет? Потому что у него не хватает характера от этого удержаться»; когда Селин заявил: «Мне всегда казалось неприличным само это слово: писать!..»[22]; когда Лейрис признался, что стыдится своего «литературного персонажа», все более чувствуя его «отвратительность»; когда Чезаре Павезе в качестве последнего «прости» произнес, прежде чем покончить с собой: «Довольно слов. Дело. Я никогда больше не буду писать»; когда даже сами почести могли порой вызвать у лауреата чувство вины (вспомним Жана Каррьера, получившего Гонкуровскую премию за роман «Ястреб из Мае», не понимавшего, «почему так много людей занято поисками своего собственного памятника», сожалевшего о фальшивых почестях и о том, что он воспринял как сделку с совестью: «Каждый раз, как я перечитывал „Литературу в желудке“, меня охватывал стыд»).
Таким образом, именно XX век был тем самым временем, когда основания писать, основания проходить через эту в конечном счете социальную практику – литературу – затуманились под воздействием нечистой совести. Эта уступка сама по себе показалась постыдной, этот компромисс – неприемлемым. С точки зрения чаемой обнаженности литература выглядела ухищрением: не был ли этот новый вызов, это эксгибиционистское искушение, еще одной ошибкой? Не было ли оно, кроме того, мистификацией? «Рассказать о себе все и все-таки ничего не открыть», – пишет Хандке в своем дневнике «История карандаша», и таков мог бы быть сегодня девиз любого представителя исповедальной литературы.
Иными словами, современная история литературной индивидуальности отмечена не только стыдом из-за имени, из-за тела, из-за семьи, из-за страны, в которой она оказалась заточена, – ни даже стыдом из-за всеобщего кривлянья и поглощения другим, описанного Гомбровичем, как раз в том самом пространстве, которое предпочли бы видеть закрытым: в пространстве литературы. В большей степени, чем с этими вполне исчислимыми несоответствиями, писатель сталкивается со стыдом более всеохватным, внутренним, почти метафизическим – стыдом ограниченности как таковой или, точнее, того остатка, который безграничность литературы не в силах вместить в себя и с которым ей тем не менее приходится иметь дело – там, где разворачивается странная деятельность отдельной личности, которая вписывается в Историю, языкового опыта, который печатается, интимных переживаний, которые демонстрируются, со своими знаками и ритуалами – имя и вымышленность автора, рукопись, изданная книга, легенда о себе.
Стыдом (или тайной, или гордыней) писателя становится не столько нечистая совесть, сколько сверхсовестливость, особая форма трезвомыслия, которая на мгновенье заставляет его колебаться между маскировкой и признанием, чтобы в конечном счете с искусностью и благоразумием выбрать в триумфе языка манеру, свойственную его откровенности и его стыдливости.
Вот так на протяжении последних двух столетий литература словно бы показывает нам череду обнажений. Что остается ей после того, как она сорвала шинель (единственное его богатство) с бедного гоголевского чиновника, лишила тени персонажа Шамиссо, превратила героя Кафки коммивояжера Грегора Замзу в чудовищное насекомое? Ей остается кожа, животрепещущий сюжет, «мучительные мысли» Ницше, те постыдные мысли, которые хотелось бы забыть, запереть в отдельную комнату и там уничтожить. Ей остается принять их, смириться с их выходом наружу.
И мало-помалу, больше чем когда-либо притягиваемая головокружительностью непристойного, литература стала отчасти «порнографией» – в том смысле, который придавал этому слову Гомбрович: одновременно обнажением реальности и постоянным доказательством невозможности даже пытаться сделать это.
Титаны стыда
(Конрад, Готорн)
Только бегство вверх позволяет спастись от унижения. Милан Кундера
Положение выглядит безвыходным: неужели, чтобы дойти до сути, мы обречены пасть так низко, открыть наши слабости, снять с себя все пестрые лохмотья? Это значило бы забыть о парадоксальном величии, которое таится в этом падении. Между стыдом и славой происходит обмен символами. Истории позора – это одновременно и истории героические. Иначе как понять все великие рассказы о потерянной чести – такие, как «Лорд Джим» Конрада, «У подножия вулкана» Лаури или «Алая буква» Готорна?
* * *
Возьмем Конрада. Можно было бы подумать, что судьба человека стыда, подобного Руссо, предопределена свыше. Что, будучи еще совсем ребенком, он носит стигматы своей порочности и своей незаконнорожденности. Ничего подобного, говорит нам Конрад. Стыд может внезапно напасть на человека, который изначально считал себя принадлежащим к породе героев и который внезапно и непоправимо разочаровался в себе. То есть стыд – это ураган, который уносит самых разных существ. Смиренные и хвастливые, смешные и спесивые, гротескные и прекрасные тела оказываются вперемешку, зачастую предоставленные сами себе, на незнакомом песчаном берегу, где они потеряли ориентиры. Их жизнь опрокинулась. И эта катастрофа может произойти в любой момент.
Мысль Конрада-романиста не касается первородного стыда, какого-нибудь постыдного эпизода из детства, который терялся бы в памяти, заставляя персонажа пресмыкаться всю его оставшуюся жизнь. Наоборот, ей интересен стыд как событие, как свершение – внезапная атака на самоощущение.
История Лорда Джима – это история внезапного краха. Его стыд – это позор. Юный Джеймс (будущий Лорд Джим, которого мы вслед за рассказчиком будем называть Джимом) был «высокого мнения о себе»[23]. По слухам, его отец, эссексский пастор, был без ума от сына. Но происходит событие, переворачивающее его жизнь: спасаясь с вроде бы гибнущего корабля, на котором он служит штурманом, он прыгает в шлюпку по призыву капитана и двух старших механиков, которые, озабоченные лишь спасением собственной шкуры, не задумываясь, бросают на произвол судьбы восемьсот пассажиров. В итоге корабль не тонет, пассажиры (паломники) спасены: ситуация становится еще более гротескной и более унизительной. Воспоминание о собственной трусости преследует Джима, как ночной кошмар, от которого ему никогда не проснуться. Стыд внезапно обрел форму внутри него. Он кристаллизовался, выпал в осадок.
Джим прыгнул в шлюпку. Все его несчастья – следствие этого события, образ которого и память о котором он будет хранить как нечто «непоправимое»: этот прыжок стал проявлением слабости, о которой он прежде не подозревал. Отныне он должен взвалить на себя тяжесть этого падения. В то время как капитан пускается в бега, Джим готов принять судебный вердикт: он уже выдвинул обвинение против себя самого. Для него не может быть и речи о побеге. В этом вся разница между совершенной ошибкой и испытанным стыдом: ошибку можно искупить, стыд – нет.