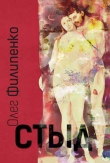Текст книги "Книга стыда. Стыд в истории литературы"
Автор книги: Жан-Пьер Мартен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
В то же время можно было бы считать, что сегодня порог преодолен, и относить признания Руссо и Лейриса на счет стыдливости былых времен. Вроде бы полностью избавившись что от обстановки исповедальни, что от людского суда, писатель, склонный к признаниям, кажется, открывает вам свой потайной ящичек и вверяет свое тело литературе. Хорошо еще, если он не вытягивается у вас на кушетке, хотя ни одному читателю не придет в голову потребовать с него деньги за сеанс. Он по своей инициативе выкладывает вам все без утайки, каждый день своей жизни, с надлежащей дозой вымысла – добровольного или неудержимого. Все: вот ключевое слово для иллюзии полной и бесстыдной откровенности в литературе. За свою личность надо платить, говорит Дубровский.
В книге-событии, в книге-скандале тело писателя предстает обнаженным и описывает само себя. А вы. читатель, неизбежно оказываетесь соглядатаем.
Но в сущности, разве преодоленным оказался стыд вещей, а не стыд слов? Что до переживания, то оно остается в центре повествования как своего рода абсолют, сила, столь же недостижимая, как и прежде, наподобие скрытого божества, намагничиваюшего процесс письма: «Я всегда жаждала, – пишет Анни Эрно в романе „Стыд“, – рассказывать в своих книгах о самом сокровенном, не предназначенном для чужих глаз и пересудов. И как же мне придется сгорать от стыда, если в своей книге я смогу передать всю драму, пережитую мною в двенадцать лет»[63]. Отсюда видно, что литература, находясь между стыдливостью и бесстыдством, бросает себе все новые вызовы.
Литература как путь к бесстыдству
(Дюрас, Жене, Мисима)
Моя повесть, почерпнутая из стыда, раскаляется и ослепляет меня. Жан Жене
В творчестве Маргерит Дюрас возрасты стыда вкладываются друг в друга, словно матрешки. Прежний стыд прочитывается в книгах о детстве, а новый питается как Большой Историей, так и историей личной: «В конечном счете стыд по разным причинам охватывает всю мою жизнь». Мало-помалу на первый план незаметно выходит бесстыдство: «Эта статья по необходимости бесстыдна. И я вижу, что я как раз работаю над этой статьей, хоть она и бесстыдна. Почему же мне на это начхать? Потому что я думаю, что время от времени бесстыдство бывает непреодолимым и полезным».
Но прежде всего – сколько в самом деле разных причин для стыда: Индокитай, мать, брат, Рабье, гестапо, чистки… Сколько упоминаний о стыде у Дюрас: «Стыд исчез из моей жизни», «Тебе стыдно за них, любовь моя?», «– Ах ты, бесстыдник мой маленький, сокровище мое, – едва слышно шепчет она. […] – Вам должно быть стыдно, мадам Дэбаред»[64]. А сколько семейного стыда, перечисленного по пунктам!.. Стыд брата в «Плотине против Тихого океана». Стыд, испытываемый матерью: «Пила даже мать, которая терпеть не могла пить. По ее словам, она пила, чтобы утопить стыд». Стыд матери («Любовник»): «Мать, любовь моя, до чего же она нелепа в бумажных чулках, заштопанных руками До, – здесь, в тропиках, она еще носит чулки, чтобы выглядеть настоящей дамой, директрисой школы; а эти ее жалкие платья, бесформенные; чиненые-перечиненые верной До – мать, похоже, только что покинула свою родную ферму в Пикардии, где у нее полным-полно кузин, она изнашивает платья до лохмотьев, считает, что все нужно заработать, все, а туфли, ее туфли – совсем стоптанные, ей неудобно ходить, она ставит ноги как-то боком, а волосы гладко зачесаны и стянуты в пучок, как у китаянок, – нам стыдно за нее, мне стыдно, когда я вижу ее на улице перед лицеем – она подъезжает в своем „Б-12“, и все смотрят на нее, все, а она никогда ничего не замечает, ничего, ну хоть запирай ее, хоть бей, хоть убей. Она смотрит на меня и говорит: ты, может быть, выпутаешься. Вот ее неотступные думы, ее идефикс. Не важно, достигнешь ли ты чего-нибудь, важно вырваться из этих пут»[65].
Вы считаете, что это просто еще один пример в нескончаемом ряду детских разочарований? Но эта повесть о стыде – больше, чем просто повесть о детстве. Во-первых, потому, что этот стыл матери – уже сам по себе прощание со стылом, со страхом сходства, это претензия на исключительность вдали от взглядов других. Во-вторых – и это главное – потому, что именно стыд лежит в основе ставки на писательство: он проявляется одновременно с литературным призванием.
Что говорит нам Дюрас в начале «Любовника»? Она говорит, и говорит, и говорит нам, что ей пятнадцать с половиной лет. Что она стыдится своей матери. Что она не будет на нее похожа. Что ее, «малышки», лицо уже предвещает то, кем она будет, когда станет взрослой: писателем. Не потому, что она уже что-нибудь пишет, а потому, что это уже написано на ее теле: достаточно надеть на голову совсем юной девушки мужскую шляпу с плоскими полями, «мягкую фетровую шляпу цвета розового дерева, с широкой черной лентой», добавить к ней платье без рукавов с глубоким вырезом и пару туфелек из золотой парчи на высоких каблучках – и дело почти что сделано, потому что она, эта шляпа, меняет все, и отныне лицо несет на себе физический отпечаток страсти к писательству; потому что вскоре, через два или три года, это лицо станет лицом алкоголички (хотя оно «состарилось еще до того, как я начала пить»); потому что писать значило всем телом восставать против окружающей стыдливости: «Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд все же нравственным занятием». Наконец, потому, что обо всем этом можно будет рассказать только после смерти близких, в этом «после», свободном от их взглядов[66].
Вот как стареющая писательница описывает (или выдумывает) «малышку», которой она была: «Пятнадцатъ с половиной лет. Тело худенькое, почти тщедушное, еще детские груди, бледно-розовая пудра и яркая помада. И наряд, который мог бы вызвать смех, однако никто над ним не смеется. Я знаю: в этом я вся. Пока ничего не ясно, но в моем образе уже есть все, чему суждено сбыться, я вижу это по глазам людей, в их глазах – моя судьба. Я хочу писать. Я уже сказала матери: единственное, чего я хочу, – это писать. Сначала она не ответила. Потом спросила: что писать? Книги, романы, сказала я».
Момент, когда заявляет о себе писательское призвание, соответствует этому облику девочки-подростка, открывающей в себе другое тело – хочется сказать «другой пол» или просто «пол», – тело, освобожденное от принужденности, которую навязывает миру его собственная непристойность («даже… ммм… оригинально…» – мужская шляпа на голове совсем юной девушки), тело, которое вскоре станет писательским телом – если только научится выдерживать взгляды других. Малышка только ищет свой стиль, писатель будет живописать ее все более и более обнаженной, «задыхающейся от волнения», но уже есть эта мужская шляпа, с которой тело совсем юной девушки никогда больше не расстанется, шляпы, которая выставляет напоказ и скрывает, которая «не идет к детской фигурке», шляпа-секси, свидетельствующая об отсутствии самой себя, о внешности, созданной взглядами других.
Против всякого ожидания, мать ласково смотрит на девочку в шляпе и туфельках из золотой парчи, на ее «наряд маленькой проститутки»: «У девочки богатая фантазия, думает она, совсем неплохо – надо же придумать так одеться». В романе «Любовник» эта шляпа, этот «шутовской, почти неприличный наряд», одобренный матерью, растягивается на многие страницы: ведь эта невероятная шляпа знаменует собой грядущий уход, окончательный уход дочери, с которым мать в конце концов примирилась, – прочь из Индокитая, навстречу безбрежному морю литературы.
О том, что язык – это что-то вроде симбиоза тела и одежды (более или менее обнажен, более или менее закутан), мы знали и раньше. Но литература необязательно была в этом отношении вопросом стыдливости-бесстыдства, облачения, шутовства или чванливости, способом выставить себя напоказ. Между тем именно это утверждается в начале «Любовника» в качестве своего рода манифеста, продолжение которому можно найти в главке под названием «Тело писателей» из книги «Материальная жизнь»: «Тело писателей напоминает их сочинения. […] Писатели вызывают сексуальное влечение по отношению к себе. […] Я никогда не могла помыслить себе сексуальность без ума и ум без некоторой самоотрешенности».
Историю творчества Дюрас можно представить себе как постоянное, и даже все более интенсивное, превращение стыда в бесстыдство – пресуществление, никогда не достигаемое вполне, непрерывное сражение. В первую очередь она показывает глубокую взаимосвязь, взаимообратимость стыда и бесстыдства. Дюрас может утверждать, с одной стороны: «Писать – это смирение», – а с другой: «Люди, которые говорят, что не любят своих книг, если такие бывают, – это люди, которые не смогли преодолеть притягательность унижения». Ее лицо, подобно лицу пьяной Анны Дэбаред, мало-помалу исказила «гримаса […] признания в какой-то постыдной, непристойной тайне»[67]. Но признания в чем? Что можно по-настоящему раскрыть в тайне мироздания? Жизнь, или, точнее, «медленный труд», могла бы дать возможность начать приближаться к этой тайне, равно как и к ненависти, ибо «за порогом ее [ненависти. – Прим. ред.] начинается молчание». 1984 год. Дюрас уже порядком продвинулась на пути этого «медленного труда», и все-таки она пишет: «Эти одержимые дети так и стоят у меня перед глазами, но я не могу приблизиться к тайне. Я всю жизнь думала, что пишу, но не писала, думала, что люблю, но не любила, всю свою жизнь я только ждала перед закрытой дверью». Эта фраза, часто цитируемая, отсылает одновременно к исходной и конечной ставке на творчество в жизни Дюрас, к приближающемуся бесстыдству (прямо заявленному в первоначальном заглавии романа – «Без стыда»), которое, однако, всегда остается на расстоянии и не избавляет ни от позора, ни от стыдливости, непреоборимой сдержанности, прострации перед лицом тайны. Кажется, что стыд пережил и Дюрас-персонажа, и Дюрас-писателя, словно героя «Процесса» К., – по крайней мере, если мы верим галлюцинаторным пассажам из последней ее книги «Вот и всё», ретранслированным Яном Андреа: «Оставьте меня. Кончено. Дайте мне умереть. Мне стыдно. […] Не осталось ничего, кроме стыда, стыда всего. Я больше ничто. Ничто. Я не могу больше быть. Единственное, что не кончено, – это содержание вашей личности».
Единственное, что не кончено, – это содержание вашей личности, это самоизоляция, невозможное бегство, пусть хотя бы на время, в творческую работу. Есть оправдание бытия в бесстыдстве и стыде, телеология бесстыдства в гримасе литературы, которая все-таки тоже маска и которую смерть срывает, придавая наконец личности, ее содержанию, подлинную наготу. Итак, дайте мне умереть. И все прошлые Дюрас – маленькая жительница Индокитая, Маргерит, Тереза времен чистки, – мое изможденное лицо, мое умирающее тело, всё, всё содержание моей личности, объединяющее их помимо моей воли, все это по-прежнему ждет перед «закрытой дверью».
* * *
Жене относится к тайне совсем иначе. Ему, ребенку-сироте, Жану, родства не помнящему, кажется, нечего беспокоиться о взгляде матери или законе отца. Означает ли это, что он изначально свободен от внутренней скованности? Ничего подобного, ибо стыд родился в нем до Меттре, вместе с первым воровским делом, с первой мелкой кражей, совершенной в десятилетнем возрасте. Пойманный на месте преступления, Жене тогда превратился в предмет, принадлежащий другим. Некий Голос прилюдно сказал ему: ты вор. Отсюда предложенный Сартром анализ «стыда маленького Жене», который «открыл ему вечность»: он вор с рождения, вором он и умрет. «Его риск состоял в том, что его назовут», – пишет Сартр в книге «Святой Жене, комедиант и мученик». Именно стыд заставит Жене взяться за перо, и именно стыд ему придется изгонять посредством надругательства.
Жене заранее ответил Сартру: «…Я доволен, что понимание моей необычности носит название антиобщественного явления – воровства»[68] («Дневник вора»). Итак, писателя будет терзать преступник, его тело сохранит стигматы от этих мук. Для него тайное воровство, само признание этой «скрытности» заключает в себе красоту, но лишь при условии, если порог стыда преодолен: «Возможно, вы будете смущены, потому что именно быстрое, очень быстрое и, главное, невидимое движение (но именно в нем – вся суть) делает вора столь презренным: именно тот миг, когда он высматривает и похищает. Увы, это именно то время, которое нужно, чтобы быть вором, но преодолейте этот стыд, прежде открыв и показав его, сделав видимым. Гордость должна уметь пройти через стыд, чтобы достичь славы», – пишет Жене в «Чуде о розе». Иначе говоря, для Жене воровство – пролегомены к литературе, ее подготовительный класс.
Вначале был стыд, говорит нам «Дневник вора». «Моя нищенская жизнь в Испании была деградацией, смесью падения и стыда. Я стал подонком». Это слово встречается у Жене часто – в силу его состояния «от рождения униженного ребенка». Когда он пишет: «То было время моего стыда», – речь идет не о конкретном, мгновенном переживании, которое он выделяет особо. Речь о подспудном, тягостном присутствии вокруг него взглядов других, присутствии, которому он, низведенный до положения предмета, вынужден подчиняться. Таким образом, стыд становится чем-то вроде ореола, нимба наоборот, эманации, запаха, от которого невозможно отделаться: «Этот стыд никогда не был громким. В моем присутствии никто никогда не повышал голоса […], но стыд окутывал меня подобно некоторым запахам, которые исходят от человека, и окружающим приходится делать вид, что они их чувствуют».
Но этот стыд таит в себе гордость. Погрузившись в грязь самых отвратительных откровений, биография автора, написанная им самим и сделавшаяся золотой легендой, превзойдет краску унижения. Время от времени станут случаться падения без признаков стыда: то будут измены, как правило, совершаемые, чтобы уйти от предыдущего состояния и двигаться дальше. А главное – то, что впереди: Жене спасет писательство, высшая гордость, «словесная победа», выросшая из преступления. В итоге для спасительного писательства стыд станет прошлым, прежней жизнью – но прошлым оберегаемым, воспроизводимым в укладе настоящего. Если он служит одной из программных целей творчества, то именно потому, что творчество возвращается к нему как к истоку. «Этой книгой, – пишет Жене в „Чуде о розе“, – я хотел только явить опыт моего освобождения от состояния тягостного оцепенения, от жизни низкой и постыдной, заполненной проституцией и попрошайничеством и подчиненной авторитетам, захваченной очарованием преступного мира».
Таким образом, книги Жене словно бы последовательно воплощают два противоположных движения: сперва подъем к источникам стыда, потом возвращение во славе. Вначале он упоминает о своих «грязных наклонностях», «униженном повелении», «смутном и неотчетливом нравственном чувстве», «годах слабости», предшествовавших «более достойному повелению». Затем он представляет свою первую кражу как освобождение. Быть вольноотпущенником – это значит освободиться от жизни низкой и постыдной «актом физической смелости». Но еще больше свободы можно обрести, ведя дневник вора, утверждая тождество между приходом в литературу и первой кражей. Вести этот дневник, говорит нам Жене, – не просто «литературное развлечение». Это значит испытывать ощущение власти, проникая посредством взлома в запретные жилища личного мира. Это значит также длить состояние неуклюжести – расплата за отрицание как основу мировоззрения: «Моя власть над собой была велика, но, царствуя над своей внутренней сущностью, я сделался чрезвычайно неловким по отношению к остальному миру» («Дневник вора»).
Итак, у Жене литература становится чем-то вроде плавания галсами. Это наглость, бесстыдство в самом прямом смысле слова. Это акт надругательства, которому писатель подвергает самого себя. Об одном из персонажей «Торжества похорон», Поло, Жене пишет, что, «думая во время траура об утехах сладострастия, мы испытываем некоторый стыд». «Во время прогулок я гоню от себя эти картины, и мне пришлось совершить над собой насилие, чтобы написать эротические сцены, которые приведены выше и которыми, несмотря ни на что, была исполнена моя душа. Я хочу сказать, что, после того как я преодолел смущение, вызванное надругательством над трупом, эта игра, в которой труп служит предлогом, дарует мне великую свободу. Страдание раздуло тлеющие уголья». Чтобы преодолеть, согласно Жене, надо преодолевать силой. Но это преодоление хранит память о смущении, благодаря которому оно стало возможным: «Моя гордость зарделась румянцем моего стыда».
Стыд не должен исчезнуть, он просто-таки необходим – как блокиратор, никогда не стираемый след прошлого, особый знак, ибо виновный «замыкается в своем чувстве стыда благодаря гордости»: «В глубине своего стыда, в своей собственной слизи, он окутывает себя сотканной им тканью, которая не что иное, как его гордость. Это неестественная оболочка. Виновный соткал ее для своей защиты и окрасил в пурпур, чтобы приукрасить себя. Но любая гордость предполагает вину». Трудно представить себе более явственную метафору двойственного самоопределения писателя и двойственной природы книги по Жене: книга-кокон, и одновременно – книга-самообнажение.
В этом самовымысле, соединяющем в себе наготу ребенка и одежды писателя, ничто не избегает воздействия первородного стыда. Никогда гордость за книгу, ее «позорная слава», не дойдет до предела внутреннего бытия. Впрочем, ее тайный взлет, подобно краже, несет в себе скрытность. Мы знаем, что нашел у Жене Батай: произведения, «смысл которых в отрицании тех, кто их читает». Другой в них часто предстает отдаленным «вы», врагом, с которым у автора нет ничего общего. Но порой Жене и сам признает, что в этом заключена крупица мошенничества. Даже если относиться к другому так, именно на него направлено синтаксическое обольщение. «По весомости средств, которые мне нужны, чтобы отбросить вас от себя, посудите, какую нежность я к вам питаю. Оцените, до чего же я вас люблю, по баррикадам, которые я сооружаю в своей жизни и в творчестве». Это значит, что литература для него – еще и операция по присвоению другого, переход от пережитой немилости к милости слова.
Жене, в отличие от Дюрас, не говорит, что он ждет перед «закрытой дверью». Нов заключительных фразах «Чуда о розе» он утверждает, что, несмотря на свой собственный манифест бесстыдства, он сам должен теперь закрыть дверь: «Сказал ли я все, что следовало сказать об этом деле? Если я оставляю эту книгу, значит, я оставляю все, что может быть рассказано. Остальное невыразимо. Я замолкаю и иду босиком». Бесстыдство и тайна в их нераздельности – вот источники этой книги и творческой манеры Жене. «Воплотить в жизнь мой миф» – таков его девиз. Но есть еще, и будет всегда, вне пределов сотворенной легенды и смерти, этот невыразимый остаток, создающая легенду недосказанность – то, что Дюрас именует «содержанием личности».
* * *
Маргерит Дюрас и Жан Жене, два литературных имени, представляющих собой одновременно вымыслы и тела, наглядно демонстрируют двусмысленность положения писателя. Дюрас, Жене, или Литература как путь к бесстыдству? Значит ли это, что бесстыдный писатель никогда больше не испытает стыда, что он вышел за пределы того, что обычно называют стыдливостью? Я вполне могу лавировать между этими двумя полюсами – захлебывающейся откровенностью и благоразумной сдержанностью, самым на первый взгляд абстрактным вымыслом и подчеркнуто личностной исповедальностью, я вполне могу свободно выбирать между прилюдным обнажением и строгим костюмом, и во всех этим случаях я здесь, перед вами, одетый в маску и сбрасывающий маску, играющий роль в этой комедии признаний, которую – вопреки своей и моей воле – представляет собой вся литература эпохи индивидуализма, притягиваемая высшим искушением, искушением расправиться с исключительностью, наконец-то вытащить ее, не зная стыда, на всеобщее обозрение. Самый откровенный писатель-эксгибиционист хранит свою тайну. Самый скрытный писатель – все равно эксгибиционист поневоле. И оба находятся под воздействием двойного императива – подобно Бюнюэлю, испытывавшему, согласно воспоминаниям Катрин Денев, одновременно «своего рола стыд из-за того, что он вставляет в свои картины» вещи глубоко личные, и «чувство, что он должен это делать».
* * *
Никогда творчество не предполагало такой связи с реальной жизнью, как во второй половине XX века, и никогда оно не стояло так близко к хеппенингу. И с этой точки зрения нельзя забывать о синдроме Мисимы, прошедшего этот путь до крайнего предела. Многие скажут: то в Японии, в культуре, противоположной нашей. И жизнь Мисимы действительно закончилась на японский манер. Да, этого писателя можно запереть, как в клетку, в его своеобычность. Но Мисима, великий читатель Достоевского, был проникнут западной культурой. И разве, читая «Исповедь маски», мы оказываемся так уж далеко от тех же Гойтисоло, Жене или Дюрас или даже от какого-нибудь Жида, который в 1914 году писал своему другу Эжену Руару по поводу своего гомосексуального влечения: «Я не хочу чувствовать стыд»?
Как бесстыдно встретить лицом к лицу порыв «мучительного чувства, в котором влечение смешивалось со стыдом»?[69] Необходимо противопоставить прозрачности подростка завуалированность спектакля, обманчивость переодевания. Впервые увидев в театре района Синдзюку представление иллюзионистки Тэнкацу Сёкёкусай, юный Мисима был заворожен. И не столько ее магическими трюками, сколько невероятным облачением: «одеяние великой блудницы из Апокалипсиса», кричащий макияж, вульгарный костюм – все это придавало ей «особую надменность, присущую лишь фокусникам и аристократам-изгнанникам». Однажды он решил сделаться Тэнкацу: взял самое роскошное кимоно матери, накрасился, напудрился и увешал себя всеми подобающими аксессуарами, которые подвернулись ему пол руку. А главное – предстал в этом скандальном маскараде перед глазами матери, заставив ее покраснеть от стыла. Его цель – заставить других опустить глаза и наконец-то увидеть себя самого. Этот экстравагантный наряд напоминает шляпу Дюрас. Но Мисима доводит до крайности агрессивную суть переодевания. Такой способ стать писателем отдает терроризмом, подобно тому как сартровский Герострат, заявляя двумстам двум писателям[70]: сейчас вы увидите то, что вы увидите! – и предрекая своему поступку будущее газетной публикации, в известной мере превращается в автора.
Мисима-подросток пытается изгнать стыд в два этапа. Речь идет о том, чтобы сначала учинить публичный взлом, совершить более или менее безобидный акт несогласия, который можно бросить как вызов плоскому миру благопристойности; затем, таким образом выставив себя напоказ, присвоить взгляд других. Ребенок уже понимает, что жизнь – это театральная сцена, а всякая принятая линия поведения – обман, который разоблачит литература. Но бесстыдство будет длиться на протяжении всей его жизни и творчества, чем-то напоминая «медленный труд» Дюрас, хотя в куда более эксгибиционистской форме, в процессе, где писательство, замешенное на переодевании и обнажении, поиск «языка плоти» будет постоянно находить свой предел. Отсюда потребность в заключительной демонстрации, в спектакле par excellence, в биографическом событии, которое особенно трудно отделить от творчества и лежащих в его основе эстетических принципов, – в самоубийстве на глазах других. Как если бы в миг смерти мы наконец-то переставали ждать перед закрытой дверью.
Портрет автора, застенчивейшего из смертных
Стыд, спутник сознания зла, пришел вместе с годами; он увеличил мою природную застенчивость, сделав ее почти неодолимой… Руссо. Исповедь[71]
Взрослый, сохранивший в себе ребенка, терзаемого взглядом других, и подросток, неспособный совладать со своими эмоциями: что противопоставить этой поглощенности собой? Возможны разные техники. Одна из них заключается в том, чтобы превратить заторможенность в мольбу о любви, обращенную неведомо к кому. Поскольку мир в своем реальном воплощении представляется враждебным, личные письма, исповедь или вымысел, будут обращены к безвестному адресату. Такая практика называется литературой. По крайней мере, не нужно показывать свое истинное лицо; даже самый замкнутый из людей сможет выставить себя в совершенно ином свете, сыграть роль шута, хулигана или эксгибициониста.
«Войти в кафе, в общественное место – это для него пытка, потому что в подобных случаях все взгляды немедленно обращаются на вошедшего, и тот, ошеломленный, еще не привыкший к новому месту, не может защититься, посмотрев на тех, кто смотрит на него. Бодлером владеет маниакальное стремление всюду ходить в компании, и причина не только в „мании поэта и драматурга, которому постоянно нужна публика“, как думает Асселино, но и главным образом в том, что он нуждается в знакомых глазах, в безопасном для него сознании, которое вобрало бы его в себя и тем самым защитило от чужих сознаний. Короче, Бодлер чудовищно робок; хорошо известны трудности, которые он испытывал при публичных выступлениях: читая вслух, он заикался, бормотал скороговоркой так, что его невозможно было понять, не мог оторвать взгляда от конспекта и выглядел невыносимо страдающим человеком»[72].
Так писал о Бодлере Сартр. Но этот портрет приложим ко множеству других писателей: читая их исповеди или их биографии, мы – за вычетом нескольких шутов, лицедеев и горлопанов (да и то не будем забывать, насколько такое поведение может быть обманчивым) – обнаружим уйму бормотателей а-ля Модиано, застенчивых и нелюдимых детей вроде Гари, «чересчур застенчивых подростков» вроде Кено или «пугливых, придавленных несусветной застенчивостью» мальчиков вроде Семпруна. И это помогает нам поверить в себя: значит, не во мне одном сидит неловкий, стеснительный ребенок, загипнотизированный взглядом другого. Но это еще должно было бы дать нам повод задуматься о литературе как возможном превращении одного отношения в другое, ни на что не похожей манере казаться и сознательном изменении условий воплощения и видимости тела.
Можно ли считать историю литературы парадом застенчивых, неуклюжих и косноязычных? Следует ли возводить в общее правило выбора профессии писателя ту личную причину, которую приводит Франсис Понж в обоснование своей одержимости писанием? На устном экзамене в Эколь Нормаль он не смог выдавить из себя ни слова. Его защитой станет писательство; его творчество возведет бункер против несвоевременности слов. Ему хотелось бы, пишет он, затащить слова «вместе с собой в тот стыд, куда они нас ведут, чтобы там они исказились до неузнаваемости». И добавляет: «Никаких других причин писать не существует». В книге «Устное сочинение» он далее уточняет: «Я должен также признаться вам в следующем: что касается именно меня, то я долго думал, что если я решился писать, так это было как раз против устной речи, против глупостей, которые я только что нагородил в разговоре, против неумения находить нужные слова в разговоре, зашедшем хоть сколько-нибудь далеко. Я испытывал чувство неловкости и стыда, и потому’ нередко решался писать именно против устного слова, именно это толкало меня к листу бумаги. Для чего? Чтобы избавиться от этого, чтобы избавить себя от этой слабости, от этого стыда, чтобы отомстить за себя, чтобы научиться излагать свои мысли более связно, более твердо или более сдержанно, может быть, более двусмысленно, может быть, чтобы спрятаться от глаз других и от своих собственных, может быть, чтобы надуть самого себя, чтобы найти аналог молчанию». Отсюда мы заключаем, что стыд по отношению к словам (он же – стыд «всех тяжелых грузовиков, которые проносятся внутри нас»), декларируемый Понжем, скрывает в себе другой стыд – стыд тела и взаимодействия с другим; что эстетический выбор, состоящий в обращении к «безмолвному миру вещей», – это одновременно выбор экзистенциальный и чуть ли не физиологический; что искомая «поэтика» – соединение этих выборов.
Ибо частный стыд произносимых слов отсылает к общему стыду себя. Единичная соотнесенность с голосом есть знак соотнесенности с нашим образом действий и надежностью нашего мира в целом. Мой голос (голос, который я не могу услышать, по крайней мере, если его не запишут) – это я или другой? На что он похож? Здесь-то и разыгрывается драма соотнесенности между мной и мной. Жид рассказывает в своих радиоинтервью, что, впервые услышав магнитофонную запись своего голоса, он счел его чудовищно (он произносил «щуддовищно») неестественным.
Писательство позволяет избежать стыда собственного голоса как слышимой соотнесенности с другим, как устного представления, требующего хотя бы минимальной представительности. Конечно, тело книги будет выставлено на всеувидение и всеуслышание, но тут у меня по крайней мере будет время все заранее обдумать, привести в порядок, скроить книге физиономию. План писать против слов, в известной мере теоретически обоснованный Понжем, – одна из основных движущих пружин литературного труда. У Понжа стыд из-за тона своего собственного голоса, несомненно, лежит в основе гиперчувствительности по отношению к прозвучавшим модуляциям и услышанным интонациям: «Вчера вечером – запись на радио; я познакомился со своим голосом, неестественным настолько, что хотелось дать себе по зубам, мне было стыдно смотреть в глаза другим людям, но они вежливо сказали, что мой голос был хорошо узнаваем». У Лейриса сверхвосприимчивость к телу дополняется сверхвосприимчивостью к голосу, к сказанным словам, стыдом публичных выступлений и страхом потерять лицо: «Обычная моя ошибка: сказал то, чего говорить не следовало. […] Жгучий стыд: тупой варвар, осквернивший священное СЛОВО, забыв сосчитать до десяти, прежде чем что-нибудь ляпнуть. […] Все-таки нелегко уверить себя, что слова не сохраняются: глупость, которую вы сморозили, остается, как ни старайся, глупость, в которой вы сознались, – это пятно, которое, на вашу беду, не загладить никаким раскаянием; вы, слон в посудной лавке, из-за этого потеряли лицо и еще долго будете от этом вспоминать».
Но чемпион по словесной неуклюжести – это, конечно, Руссо, который представляет себя «от природы робким и застенчивым»[73]. Раненный языком, побежденный словом, слишком медлительный в беседе, не знающий, что сказать во время обычных разговоров: «Они несносны для меня уже тем, что я обязан говорить». В силу такой его «неловкости» литература для Руссо – утешение, искусство целительного языка. Возникая из размышлений, чуждых светской жизни, совершая прыжок в мир по ту сторону речи, писательство старается смягчить то, что Руссо называет «стыдом публичного промаха».