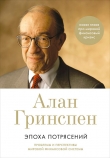Текст книги "Вексель Судьбы. Книга 1 (СИ)"
Автор книги: Юрий Шушкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
– Документы печатями сорок первого года, я думаю, сразу отнесём в музей. Да и деньги вместе с ними. Там же должны быть рейхсмарки, кому они теперь нужны?
– Недооцениваешь ты своих коллег! Кроме рейхсмарок, были суммы в британских фунтах и североамериканских долларах. А на случай, если и те не сработают, – немного золотых червонцев из Гохрана.
– Червонцы – это другое дело, – согласился Алексей. – С ними всегда можно стартовать. Но где гарантия, что тайник до сих пор нас дожидается?
Петрович провёл рукой по лбу, разглаживая волосы, и приглушённым голосом ответил:
– Гарантия, Лёша, в том, что мой напарник по закладке в тот же день героически погиб. А я, как видишь – остался.
– Что же произошло?
– Хорошо, рассказываю. Закладывали мы тайник ночью для лучшей конспирации. Аккуратно сняли снег, потом немецкой мотопилой резали мёрзлый дёрн на кирпичи, чтобы затем так же уложить, и по весне не было бы следов. Даже лишнюю землю – в мешки, и с собой. Тайник был одним из последних, предназначался на случай длительного оставления столицы и должен был ждать до тепла… Когда цепь мотопилы затупилась и больше не могла резать землю, долбили грунт ломом и топорами. Заложили цинковый контейнер, вернули всё в божеский вид. С рассветом возвращаемся в штаб нашей дивизии на стадионе «Динамо» – и вдруг замкомандира батальона видит Фёдора и отправляет его вместо себя командовать группой бойцов, отбывающих в Дмитров на усиление бронепоезда НКВД. Никто не предполагал, что в тот день по Яхромскому мосту через канал прорвётся колонна фашистских танков. А у нас, как ты знаешь, с конца ноября кругом подготовка к контрнаступлению, прикрытия нет, свежая ударная армия застряла где-то на марше, и этому бронепоезду, который по случаю там оказался, приходится в одиночку вступать в бой. Из радиоперехвата потом узнали, что из-за плотности огня немцы приняли тот бронепоезд за артиллерийский полк и, потеряв более двадцати танков, больше за канал не совались. Да и наши позднее к мосту пробрались и взорвали его ко всем чертям. А иначе бы – взяли немцы Дмитров, как пить дать, через день тогда они в Загорске, ещё через сутки – обошли бы Москву с востока, и тогда хана всему нашему контрнаступлению под столицей! Ну а Федя – Федя из того боя уже не вернулся, и отчёта о закладке тайника написать не сумел. Так-то вот, товарищ лейтенант. Я тоже бумаг не оставил, поскольку в случае сдачи Москвы должен был перейти на нелегальное положение и организовать диверсионную группу. Тайник был моим, и я предпочёл до поры никому о нем не сообщать. Поэтому думаю, что он до сих пор меня дожидается.
За грязным и мутным оконцем начинало темнеть и стал накрапывать мелкий холодный дождь. В будке сразу похолодало, Петровичу ещё раз пришлось сходить за водой, чтобы периодически нагревая её до состояния кипятка, можно было обеспечить некое подобие калорифера. Новые планы с неизбежностью оборачивались новыми проблемами, которые было непонятно, как решать. Как добраться в Рублёво? Как найти место тайника, если за семьдесят лет всё могло поменяться до неузнаваемости? Как, не привлекая лишнего внимания, извлечь и вывезти контейнер? И как, в конце концов, воспользоваться его содержимым и для начала обменять на современные рубли эффективную валюту или червонцы? Исправно ли оружие, да и что с ним делать – не грабить же с его помощью магазины и сберкассы!
Ответ на все эти вопросы мог принести только завтрашний день, и лучшим завершением дня сегодняшнего могли бы стать несколько часов отдыха с чтением журналов и газет – однако, к несчастью, у Алексея начала сильно болеть и гноиться ножевая рана, нанесённая во время поединка у киоска, и Петрович, не обращая внимания на уговоры остаться, засобирался «в город». Он сообщил, что намерен сразу же за прудом выйти на городскую дорогу, которая представлялась более спокойной, чем оживлённые улицы в районе станции, и, следуя по ней, попытаться добраться до «настоящей Москвы».
В «настоящей Москве» он планировал найти дежурную аптеку, купить йода и бинтов, а также постараться купить или каким-либо иным образом раздобыть две пары ботинок, куртку или пальто. В этом случае разведчики из сорок второго выглядели бы вполне современно новейшему времени и могли перейти к более активным действиям. При этом вопрос с обувью надлежало решить одним из первых, поскольку допотопные сапоги, на подошвах которых была выбита цифра «1940», оставались наиболее слабым звеном в экипировке обоих.
Алексей попытался было склонить Петровича совершить вылазку на следующий день и вдвоём, однако усилившаяся боль в бедре и возможность под покровом ночи скрыть свой пока что необычный вид не оставляли вариантов: когда в районе восьми часов стало достаточно темно, Здравый оделся в синюю куртку охранника и отправился в путь.
* * *
Оказавшись в одиночестве, Алексей некоторое время продолжал чтение, но затем неожиданно свернул очередную газету и грубо сдвинул ворох прессы в подальше сторону. В висках застучала кровь, а глаза стали неожиданно наполняться влагой, из-за которой тусклый свет лампы начал дрожать и походить на пламя свечи, задуваемой ветром. Видимо, накопившиеся за минувшие двое суток чувства, сомнения и надежды, воспользовавшись минутой одиночества, вдруг все разом пришли в движение и до острой боли, властно и неотвратимо, заставляли сердце переживать.
В этот момент Алексей впервые с отчётливой достоверностью увидел иррациональную реальность творящегося вокруг. Реальность – оттого что абсолютно реален этот новый, пусть пока непривычный, но уже во многом им понимаемый современный мир, раскинувшийся за маленьким чёрным окном. Иррациональную – поскольку весь его мир прежний начинал стремительно рассыпаться. Не погружаться во мрак небытия, а именно рассыпаться, оставаясь лежать на поле прошлого глыбами и осколками образов, мыслей и представлений, когда-то важных, живых и полноводных, а теперь лишённых смысла и на глазах теряющих былую полноту и телесную плотность.
Почему-то среди этих осколков не было знакомых человеческих лиц – ни отца с матерью, ни фиалкоокой Елены, ни друзей, ни товарищей по разведшколе – совершенно никого. Точно все они бесшумно вышли вон из огромного гулкого зала, не прикасаясь к дверям, всегда обозначающим место ухода как место возможного вновь появления, – просто ушли и сгинули без следа. Понимая, что всего этого сонма близких и знакомых людей уже давно нет на Земле, он в какой-то момент также осознал и то, что рядом с ним нет теперь и той неведомой, незримой, но осязаемой в мыслях, переживаниях и тревогах субстанции, которую называют душой минувшего. Души его современников, как и их тела, покинули мир, не оставив никаких чувственных свидетельств. Точно так же и ушедшая реальность не сделалось душой минувшего времени, которое в тех или иных проявлениях ещё иногда способно кого-то изредка волновать и воодушевлять, – она исчезла, растворилось в пустоте, распалась на атомы и призрачные знаки.
Всё его довоенное прошлое вдруг оказалась ненужным и мёртвым. Исчезло, пропало ощущение грядущей жизни, которое наполняло Алексея в прежние годы. Детали быта, занятия и мысли, образы старой Москвы, жгучее предвкушение перемен, особенно ставшее заметным с середины сорокового года, когда неожиданно быстро начали решаться многие жизненные проблемы, когда из-за границы вернулись тысячи образованных и интереснейших людей, с некоторыми из которых он имел удовольствие общаться, когда женщины в столице стали одеваться по-парижски красиво, рестораны и парки наполнялись чарующими остинантами модных танго, а курорты в Юрмале и Ялте вновь приобрели волнующую шикарность, когда «Интернациональная литература», выходившая в Москве сразу на четырёх языках, практически без задержки переводила и перепечатывала западных писателей и философов, а научной монографии, над которой он работал, не покладая рук, все хором сулили признание и успех, – так вот, всё это пространство предстоящей счастливой жизни, которое столь воодушевляло Алексея в предвоенные годы и заполняло черновой набросок его будущего яркими, сочными и живыми мазками, – вдруг в один миг померкло, увяло и сделалось безжизненной выжженной пустыней.
Он отчего-то вспомнил июльский вечер, когда в странном оцепенении прощался с Еленой, необычайную, придавленную тишину прежде бойкого и оживлённого Зарядья, солнечный луч, ударивший по глади Москвы-реки, безлюдную набережную с нелепыми и неуместными электрическими опорами на консолях, трамвай, раскачивающийся на стрелке Астаховского моста… Странное дело – именно этот единственный вечер, не похожий ни на какой другой, вечер дня, когда он, словно потерявшийся и смущённый ребёнок вдруг понял, что больше не сможет управлять обстоятельствами своей жизни и потому с щемящей тоской по отложенным надеждам и делам покорно распахнул грудь навстречу неумолимым переменам, – этот июльский вечер отныне становился его единственной реальностью. Но реальность эта была горька и мучительна. Из груди Алексея вырвался сдавленный стон, а из глаз неудержимо покатились слёзы – да, да, всё именно так, на мёртвом, выжженном поле он нашёл-таки уцелевшую живую лозу, но её плоды оказались отравленными ядом единственного подлинного воспоминания. Единственного воспоминания, в котором не было придуманности и фальши.
Он внезапно услышал, как начало неистово колотиться сердце, видимо, не согласное с такими выводами, и одновременно почувствовал, что отчего-то не может сделать вдох, чтобы напитать его кислородом.
«Вот сейчас я умру, – подумал Алексей, – умру, и будет покой, мой прах покроет родные мне развалины, и всё остановится. Я продолжу жить внутри этого покоя, в мире с собой и со всей этой непонятной, саморазрушающейся реальностью. Если есть вечная память, которую поют умершим, то должен быть и вечный покой – возможно, он ничуть не плох. Кто же о нём мог писать? Лермонтов? Нет, Лермонтов желал, «чтоб в груди дремали жизни силы», как у погребённого под толщей земли титана, а я, похоже, хочу покоя. Именно и только одного покоя…»
Вскоре дыхание восстановилось, но тотчас же всё тело накрыл сильнейший озноб. «Сейчас будет жар… Путь к покою, видно, ещё не завершён, сколько же ещё предстоит пройти? Час, день, месяц? Зачем, зачем меня выбросило в этот чужой и безразличный ко мне мир, что я ещё должен сделать в нём, для чего?»
Не имея возможности ответить ни на один из этих вопросов, Алексей поднялся, выпил кружку тёплой прокипяченной воды, накрыл, не выключая, лампу старым ведром, чтобы её свет освещал лишь кусок пола с импровизированной койкой и не мог быть заметен с улицы через окно. Затем он укутал себя второй фуфайкой, оставленной Петровичем, просунул мёрзнущие ладони под спину, где их было проще согреть, и через несколько секунд забылся неровным, но неумолимым сном.
* * *
Где-то в это же самое время Петрович стремительно удалялся из тёмного Очакова в направлении залитой ярким электрическим светом центральной части Москвы, зажатый между двумя полицейскими на заднем сидении их просторного иностранного автомобиля.
Он был остановлен и задержан патрульным экипажем, не успев пройти и трёхсот метров по пустынному окраинному проезду, и данное происшествие, надо признаться, не прибавляло оптимизма и грозило обрушить все намеченные планы.
В ответ на требование предъявить документы Петрович протянул патрулю удостоверение охранника Козлова. Удостоверение вопросов не вызвало, однако на следующую просьбу показать паспорт ему пришлось отвечать, что паспорт оставлен на дежурстве. Видимо, ответ этот был произнесён не вполне уверенно и смутил патрульных: ему велели проехать в отделение. В довершение всего внимание полицейских привлёк внешний вид Петровича: было заметно, как вытаращил глаза капитан, когда разглядел под элегантной и почти новенькой охранной курткой его потёртые, с подвёрнутым рваным голенищем, допотопные кирзовые сапоги!
В машине Петровича вопросами не терзали: вместо этого один из офицеров, державший в руках удостоверение охранника, с кем-то связался по рации и попросил «пробить ксиву», продиктовав фамилию, серию и номер. Автомобиль энергично нёсся вперёд, вырвавшись на широкую и достаточно свободную в вечерний час дорогу и оставляя позади непривычного вида дома и яркие стойки с рекламой. Следуя профессиональной привычке, Петрович демонстрировал глубочайшее равнодушие ко всему происходящему, однако в то же время цепко запоминал все приметы и повороты на случай самостоятельного возвращения назад. Он также успел оценить силы своих противников и уже вполне понимал, какими именно ударами следует нейтрализовать двоих, сидевших с ним рядом, после чего, слегка придушив водителя, добиться от того остановки автомобиля, чтобы затем – бежать. Поскольку на дороге, оказавшейся Аминьевским шоссе, освещённые участки чередовались с чёрными провалами пустырей и закрытых территорий, он в полной мере приготовился к дерзкой атаке и, вглядываясь вдаль через лобовое стекло, уже подбирал подходящее место и удобный момент.
Внезапно затрещала рация, и из трубки радиотелефона раздалось сквозь помехи: «Десятый? С Козловым порядок, фирма наша. А ещё знаешь новость, десятый? Задержанная твоим нарядом наркоманка оказалась дочкой министра, в отделение уже вызвали генерала, лучше туда не суйся».
Услыхав последние слова, полицейский за рулём присвистнул и резко затормозил. Все трое переглянулись, после чего один из них протянул Петровичу удостоверение охранника Козлова и вполне дружелюбно спросил: «Может, подбросить куда? Далеко живёшь?»
Петрович не знал, где он живёт, и поэтому, поблагодарив полицейского, вежливо отказался, попросив высадить его у ближайшей остановки или станции метро. Однако капитан, запомнивший его кирзовые сапоги, решительно запротестовал: «Куда ж он в таком виде – до первого патруля? Поехали, подвезём домой. Где живешь всё-таки?»
Врать было нельзя, и Здравый признался, что проживает на Остоженке. Именно там, в одном из переулков, в изолированной комнате перенаселённой коммунальной квартиры, он был законно прописан с декабря 1934 года.
Реакция полицейских на эти слова неприятно изумила Петровича, поскольку кто-то в ответ рассмеялся, а другой пробубнил непонятное про «квартал миллионеров». Тем не менее полицейская машина набрала ход, и уже на огромной скорости, оставляя по левую руку сияющую в свете прожекторов потрясающую громадину небоскрёба с различимой золотой звездой на верхушке шпиля, влетала на широкий и высокий мост, с которого открывался поразительной красоты вид на ночной город. После моста удивил до неузнаваемости переделанный Хамовнический плац, сразу же за которым взгляд оказался прикованным молниеносно распахнувшимся ностальгическим видом Москва-реки с изящными острыми пилонами Крымского моста. Спустя уже минуту машина притормаживала на Остоженке.
– У кого служишь, Козлов? Где высадить?
На душе у Петровича полегчало. Он уже понял, что простые граждане в центре Москвы теперь не проживают, и перспектива продолжить играть столь пригодившуюся роль охранника его вполне устраивала. Он попросил притормозить между Померанцевым и Мансуровским переулками, ещё раз сердечно поблагодарил полицейских и тотчас же скрылся за ближайшим поворотом.
«Ну, друг Козлов, спасибо тебе! – наконец-то спокойно выдохнув, произнёс про себя Петрович, воздавая пусть запоздалую, но искреннюю благодарность пьяному сторожу за изъятые у него утром документы. – Куда бы теперь… ведь я ничего здесь не узнаю!»
Действительно, и сама бывшая Метростроевская улица, и её переулки, и здания изменились до неузнаваемости. Когда-то сплошь серые и похожие друг на друга коробки домов радикально поменяли свой облик, фасады заиграли нарочитой индивидуальностью, приобрели глянцевость и пышность. Из-за моросящего дождя асфальт и стёкла ярко блестели. Проезжая часть и стены зданий были эффектно освещены, тротуары выложены гранитной брусчаткой, которую местами подпирали колеса припаркованных дорогих автомобилей, а откуда-то сверху расточался непередаваемый пьянящий аромат дорогой и изысканной кухни.
Остерегаясь новых приключений, Здравый решил не выходить на оживлённую Остоженку и медленной походкой двинулся вдоль переулка, опустив руки в карманы и с интересом разглядывая фасады с многочисленными эркерами и балконами, великолепные оконные рамы, кованные решетки, светильники из венецианского стекла и немногочисленные освещённые окна, в основном наглухо задрапированные разноцветными шторами и портьерами. Возле одного из домов он на несколько мгновений остановился, не без удивления рассматривая необычного каменного купидона над подъездной аркой. Переулок с начала и до конца был безлюден, опасности не предвиделось и он, расслабившись, даже не заметил, как позади отворилась дверь и чья-то рука, ухватив его за рукав куртки, с силой потащила вовнутрь:
– Петрович, Петрович! Ну что ж ты стоишь, скорее, времени же нет!
Он очутился в тёплой и ярко освещённой прихожей и окончательно пришел в себя лишь тогда, когда за спиной негромко клацнул замок тяжеленной двери, отделанной дубом. К своему изумлению он увидел, что затащила его сюда женщина лет сорока в белоснежном атласном платье с оборками и не по возрасту кокетливыми фонариками на коротких рукавах, в синем переднике и белом чепце. У дамы было строгое точёное лицо, она носила округлые очки в довольно толстой оправе, а её густые тёмно-русые волосы были тщательно прибраны посредством многочисленных шпилек.
Здравый едва ли не в первый раз за эти два дня по-настоящему растерялся и, наверное, смотрелся в этот момент беспомощно и даже жалко. Правда, он сразу же понял, что женщина плохо видит даже через сильные очки – видимо, по этой причине она обозналась.
– Петрович! – властно произнесла она, стараясь смотреть прямо ему в лицо. – Где ты полчаса шлялся? Я просила быть на месте ровно в девять, а сколько сейчас? Владлена Марковна звонила, они только что приземлились в Шереметьево, но ещё будут заезжать в к Мариночке в Леонтьевский. Я всё прибрала, но сейчас должна уйти в комнату к себе, прошу меня не дёргать! В третьей уборной течёт унитаз, срочно почини! В гардеробной надо закрепить вешалку, ты её сразу увидишь, как зайдешь. Давай, чего стоишь, до полуночи надо всё привести в порядок!
Здравому, по отчеству оказавшемуся тёзкой какого-то другого то ли слесаря, то ли охранника, ничего не оставалось, как согласиться сыграть чужую роль. Конечно, он понимал, что рискует оказаться разоблачённым в чужой и, по-видимому, очень богатой квартире, полной прислуги, и иметь в связи с этим либо очередное удовольствие от общения с полицией, либо ещё одну проверку ловкости и быстроты ног. С другой стороны, имелся и безусловный плюс: здесь можно было без ущерба для хозяев разжиться кое-какой верхней одеждой и обувью – намётанный глаз разведчика сразу же приметил в дальнем углу обширной прихожей не меньше дюжины различных курток и пальто, вывешенных на длиннейшей штанге. Поэтому, не колеблясь, Петрович извиняющимся голосом спросил:
– Да, всё ясно, а где унитаз течёт?
– Да я ж сказала – в третьей уборной! – одновременно и властно, и немного обиженно ответила дама, и машинально провела рукой в направлении парадной анфилады. Поскольку ясности это не прибавило, Петрович опустил глаза и двинулся следом за дамой, являвшейся, как он теперь понимал, старшей горничной этого дома. Если бы уборная находилась в другом месте, его незнание было бы немедленно обнаружено со всеми вытекающими последствиями, но, к счастью, всё обошлось. За одной из дверей он услышал, как громко сипит подтекающая вода, толкнул дверь за золочёную витую ручку и сразу же оказался в нужном помещении. Горничная, прошедшая чуть вперёд, вернулась, ещё раз, близоруко прищуриваясь, осмотрела место предстоящего ремонта и сказала, что отнесла ящик с инструментом в гардеробную, куда ему потом предстоит отправиться для ремонта вешалки. Она хотела, по-видимому, сообщить или приказать что-то ещё или, возможно, отругать за то, что он прошёл в интимные покои не разувшись, – однако внезапно из соседней комнаты раздался ласковый мужской голос: «Лисёнок! Лисёнок, где же ты? Ну давай же, давай же сюда, Лисёнок! Скорее!»
Краем глаза через приоткрытую дверь Петрович на мгновение увидел чей-то обнажённый торс с накинутым на плечо огромным полотенцем канареечного цвета, быстро скрывшийся за ширмой. Горничная немедленно развернулась на своих изящных туфельках с крошечным каблучком и поспешила в соседнюю комнату, плотно затворив за собою дверь и клацнув защёлкой.
Петрович осмотрелся. Он находился один в великолепном мраморном помещении, в котором располагался внушительных размеров бассейн с нежно-голубой постоянно тёплой водой, за ним в отдалении виднелась вынесенная на постамент ванна удручающе вычурной формы на высоких гнутых ножках, в деревянных кадках росли несколько пальм и совсем рядом со входом сипел, пуская прерывистые струи воды, злополучный унитаз. Приподняв крышку со сливного бачка, Петрович быстро разобрался в конструкции и обнаружил причину течи. Взяв со столика возле умывальника баночку нежно-розовой мази, пахнущей дорогими духами, он нанёс несколько мазков на резиновую грушу запорного устройства. Течь прекратилась.
Петрович вздохнул и вышел обратно в коридор с целью разыскать гардеробную. Позаглядывав в несколько комнат, которые в ещё большей степени поражали своими размерами и небрежной роскошью, он вернулся в прихожую, где обнаружил малозаметную дверь, за которой простирался длинный тёмный коридор. Когда он зажёг свет, то оказалось, что коридор есть ни что иное, как искомая гардеробная комната, с обеих сторон которой за стеклянными дверями шкафов-купе висели бесчисленные пиджаки, сорочки, женские платья, пальто, шубы и спортивные костюмы. В открытых шкафах лежали заботливо сложенные брюки и свитера, на высоких полках в коробках и без оных красовались женские шляпки, а внизу длинными рядами выстроилась превосходная обувь. Одна из штанг действительно была сломана, и снятые с неё предметы одежды были аккуратно разложены на специально принесённых сюда стульях. С противоположного конца комнаты-коридора имелась дверь, рядом к которой была заметна красная кнопка с надписью «For Exit». Нажав на кнопку и приоткрыв дверь, Петрович не без удивления обнаружил, что она ведёт во внутренний двор.
Для починки крепления штанги требовалось заменить два выскочивших из креплений шурупа. Петрович, очень довольный обнаруженной возможностью в любой момент покинуть квартиру через чёрный ход, с охотой решил выполнить и второе полученные им поручений – ведь в этом случае прихваченные им с собой вещи можно было рассматривать как вполне законное вознаграждение за труд. Для этого он начал искать ящик с инструментами, о котором сказала горничная, однако его внимание отвлекла внезапно раздавшаяся из парадной трель мелодичного звонка.
Не успел Петрович переместиться в парадную, как звонки прекратились, и вместо них послышались частые удары в дверь кулаком.
– Люська, открывай! Люська, открывай! – доносилось с улицы.
Петрович прильнул к дверному глазку и увидел грузного мужчину в надвинутой на глаза чёрной шерстяной шапочке. Одет он был точно в такую же, как и Петровича, синюю куртку охранника.
– Она отошла, – спокойно ответил Петрович через дверь. – Что случилось?
– Отошла? Она отошла? Что ты мне несёшь, я что, думаешь не знаю, где она? С хахалем своим рыжим заперлась, а меня по магазинам рассылает! Открывай же! Э-эй!.. А ты сам-то кто такой?
На последний вопрос Петрович предпочёл ничего не отвечать и, оценив критичность ситуации, удалился в гардеробную. С улицы, усиливаемые выведенным в прихожую динамиком громкой связи, продолжали нестись настойчивые требования открыть входную дверь, перемежаемые угрозой «рассказать обо всём Аркадию Борисовичу».
Петрович извлёк из купе объёмистую дорожную кожаную сумку коньячного цвета и проворно сложил в неё два костюма, два плаща, пару мужских туфель для себя и две – для Алексея, поскольку не знал точно размера его ноги, несколько сорочек и джемперов, галстуки, жаккардный шарф, клетчатую кепку и американского фасона шляпу. Он также бегло ощупал карманы остающихся пиджаков и обнаружил в нескольких из них бумажные деньги и документы. Все документы он оставил на месте, а вот деньги забрал, поскольку с учётом становящейся всё более очевидной дороговизны московской жизни привезённых им с провинциального рынка трёх тысяч рублей было явно недостаточно для пребывания в столице. В любом случае, твёрдо решил Петрович, ущерб, наносимый им этому дому, не идёт ни в какое сравнение ни с его богатством, ни с тем вероятным ущербом, который наносит или когда-нибудь нанесёт легкомысленная старшая горничная, не чурающаяся в отсутствии хозяев приводить сюда посторонних. К тому же, как-никак, он отремонтировал в этих стенах вышедшее из строя незаменимейшее из сантехнических устройств.
Застёгивая туго набитую сумку, он услышал, как по гулкой анфиладе на усиливающиеся крики и стук настоящего охранника – правда, скорее всего, не вполне трезвого, – спешит в прихожую озадаченная горничная. Тогда он погасил в гардеробной свет и, освещая путь зажжённой спичкой, бесшумно проскользнул к двери с красной кнопкой «For Exit».
Через пару минут, выбравшись на параллельный переулок и совершив ещё ряд манёвров, необходимых для сокрытия следов своего пребывания, Петрович отыскал укромное и надёжно прикрытое от посторонних взоров место. Там он расстегнул сумку, извлёк из неё туфли, потом – снял свою старую, истлевшую местами до ниток рубаху и заменил её на свежую накрахмаленную сорочку, надел новые брюки с ремнём из мягкой и нежной кожи, затем – пиджак, плащ и кепку. Свою старую одежду и рваные сапоги он завязал в узел, но вместо того, чтобы выбросить в стоящий неподалёку мусорный куб, спрятал в дорожной сумке.
Пройдясь по бывшей Кропоткинский улице, преображённый Петрович, словно нарядный состоятельный москвич, собравшийся на ночь глядя в поездку, перекурил на углу Зубовской площади и двинулся далее по Смоленскому бульвару. Обнаружив по пути дежурную аптеку, он попросил флакон йода, бинт и стрептоцидную мазь. Молодая провизорша предложила приобрести также неизвестную Петровичу мазь из современной номенклатуры, на что он с лёгкостью согласился. Дойдя затем до Смоленской площади и постояв в сени невероятной высоты здания с вывеской Министерства иностранных дел, изумившись переменами, произошедшими с Арбатом и осмотрев ярко освещённые витрины нескольких магазинов, он затем поймал такси и велел везти его в Очаково. Заранее расплатившись за поездку, он приказал изумлённому шофёру высадить его на глухом тёмном пустыре Очаковского шоссе, хлопнул дверью и тотчас же исчез в ночном мраке.
Спустя пятнадцать минут Петрович уже был в знакомой железнодорожной будке, где, первым делом подогрел «индукционным кипятильником» запас воды, потом развесил перед постелью Алексея его новую одежду, разбудил своего товарища и помог обработать загноившуюся рану. Проспав несколько часов крепчайшим сном, Алексей забыл про свои невесёлые мысли и искренне обрадовался возможности переодеться. Какое-то время друзья ещё разговаривали на отвлечённые темы, потом Алексея вновь потянуло в сон, а Петрович, готовый прободрствовать ещё некоторое время, решил заняться самостоятельным чтением журналов и газет новейшего века.
Наутро, около восьми часов, их разбудил гудок тепловоза лязг двух вагонов, которые локомотив куда-то тащил по «их» ветке. Начало понедельника сразу же огласилось заводским грохотом, далёким уханьем дизеля и свистом пара. Облачившись в свою новую одежду и постояв у в коридоре у окна, выходившего на задворки промышленной зоны, в накинутом на плечи почти новом твидовом пиджаке, Алексей поздравил Петровича с началом трудовых будней.
– Итак, нацеливаемся на Рублёвскую водокачку? На тайник?
– А что нам ещё остаётся? – ответил Петрович. – Правда, деньжат у нас теперь чуть более – почти тридцать тысяч рублей и вот, посмотри, полторы тысячи каких-то новых денег – евро. Насколько я смог разузнать ночью по твоим газетам, это деньги некоей «объединенной Европы».
– Да, да, я тоже вчера встретил упоминание об этих новых деньгах. Так что про рейхсмарки из тайника можно забыть. Но, что бы там ни было, на первое время принесённого тобой нам хватит. Кстати, ты же их не у пьяных москвичей изъял?
– Что ты, Лёш! У того, в чьей квартире я побывал, эти бумажки были как карманная мелочь. А сама квартира – две или три наши коммуналки, объединённые в одну. Вместо ржавой ванны, полной тараканов, – бассейн с пальмами. Комнат столько, что горничная там с лёгкостью любовников прячет. Так что можешь поздравить меня с законной экспроприацией излишков.
– А что ты оправдываешься? Я же тебя нисколько не осуждаю. Я даже думаю теперь, что поскольку нашего прошлого отныне больше нет, причём нет не только для окружающих, но также и для нас самих, мы первое время должны руководствоваться очень простой и жёсткой моралью. Не трогать беспомощных, женщин, детей и стариков. И – всё на этом. А в остальном – в остальном нам пока что всё должно быть позволено. Пока мы не найдём своё место в этом новом мире и не научимся маскироваться под его законы.
– М-да… А ты не перегибаешь? А если в этом новом мире убивают и насилуют беспомощных – мы что тогда, тоже это примем?
– Нет. Я же не сказал, что мы законы этого мира непременно должны будем признать? И у меня есть чувство, что мы их и не признаем. Будем маскироваться, будем лишь делать вид, что их признаём. Ведь мы терпели несовершенства своего времени в надежде на то, что вскоре будет построен лучший мир. Теперь же оказалось, что мир построили совершенно другой, к счастью, без нас. Свой прежний мир мы уже никогда не восстановим, поэтому всё, что нам остаётся, – это быть честными и порядочными в отношениях между собой и с близкими нам людьми, а также – не творить зла в отношении беспомощных.
– Отлично, но то, что ты сейчас провозгласил, лейтенант – это и есть закон жизни при капитализме. Между собой мы все джентльмены, а дальше – трава не расти, наплевать!
– Не совсем. При капитализме продаётся и покупается абсолютно всё. Нет ни дружбы, ни любви. А я же утверждаю, что по крайней мере во взаимоотношениях между нами и близкими нам людьми должен продолжать действовать нравственный закон, иначе нам не удержаться. Ты же не против этого?
– Нисколько, – согласился Петрович. – Только для того, чтобы нравственный закон не зачах, нам не мешало бы отсюда поскорее выбраться. Но чтобы ехать за нашим скарбом в Рублёво, нужна карта. Как думаешь действовать?