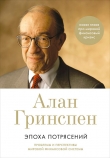Текст книги "Вексель Судьбы. Книга 1 (СИ)"
Автор книги: Юрий Шушкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
Тогда я озвучил «план Тропецкого» – вступить в негласные переговоры с Германией по вопросу совместного использования царских векселей в интересах гипотетического альянса наших стран, способного потеснить англо-американский капитал и на продолжительной перспективе решить наши экономические проблемы. Ответ Николая был быстрым и поразил меня своей продуманностью – словно подобный вариант уже обсуждался Совнаркомом и все решения по нему приняты, а разъяснения – даны.
Как не сложно было предположить, советник Молотова решительно отказал этой идее в праве на жизнь. Гитлер, объяснил он, окончательно утратил возможность являться для нас стороной переговоров: если свою войну с Западом он начинал во имя стяжания Германией части мировой финансовой власти и в момент подписания пакта в августе тридцать девятого ещё можно было вести речь об «экономическом альянсе» между Германией и СССР, то затем в фюрере возобладала патологическая страсть к уничтожению «неполноценных» народов. И изменить отныне эту установку невозможно никакими резонами, кроме военных. Николай подтвердил, что в Москве отлично осведомлены о существовании в высшем руководстве Рейха оппозиционных Гитлеру сил, однако ни в коей мере не планируют их поддержки, поскольку в случае захвата оппозиционерами власти прогнозируется, прежде всего, неизбежное и быстрое примирение Германии с Англией. В этом случае для новых руководителей Рейха выгоды от возможного перехода в их руки контроля за мировыми финансами будет заведомо менее значимыми, чем реальная возможность вермахта, уже занявшего Украину, Белоруссию, Прибалтику и почти весь наш северо-запад, при переключении в пользу Германии ресурсов англичан и американцев уже от имени объединённого Запада добить и оккупировать Россию со всеми её народами и богатствами целиком и навсегда.
Моим третьим предложением была мысль – почему бы и нет? – обратиться напрямую к Сталину и предложить «красному царю» вернуть обратно в Россию императорские векселя, а вместе с ними – и зависимые от них богатства и активы мировых финансов. Помимо очевидных долгосрочных выгод, подобное решение помогло бы и скорее завершить кровопролитие.
Советник второго лица в СССР достаточно долго думал над этим моим последним предложением. Затем он произнёс в ответ примерно следующее:
«Исход войны, которую ведёт Советский Союз, сегодня совершенно не зависит от денег и материальных ценностей, за исключением оружия. Однако нужного для победы оружия в свободном рыночном доступе нет – его мы должны либо изготавливать сами, либо покупать у наших англо-американских союзников. Но те, как мы с тобой уже выяснили, не продадут нам ни одной лишней винтовки, сколько бы мы не были готовы заплатить. Так что финансы, по большому счёту, в этой войне не нужны. Сталин прав: эта война – священная, и народ отлично понимает, что ведётся война эта не за какие-то блага, а за первейшее право жить, дышать и разговаривать на родном языке. Поэтому, Платон, твоё предложение Иосиф Виссарионович в лучшем случае отложит в долгой ящик. И вернётся к нему не раньше, чем будет добыта наша окончательная победа».
В принципе, мой высокопоставленный приятель на сказал ничего нового, все услышанные от него доводы я так или иначе множество раз воспроизводил и осмысливал в своёй голове сам. А то, что бушующая за этими окнами война не описывается обычными законами и не подчиняется им, я отлично уяснил во время короткого, но богатого на события и встречи «русского этапа» своего путешествия. Я лишь никак не мог подобрать правильного определения – и вот теперь оно, наконец-то, прозвучало: Священная война. Поэтому пока Священная война не завершена, всё то, что из Европы предстаёт рациональным и очевидным, под этим небом работает по совершенно другим правилам.
Я сознательно решил не беспокоить Николая просьбами о содействии в моей реабилитации, поскольку прекрасно осознавал, что тем самым ставлю под угрозу его служебную репутацию. Одно то, что он пустил меня в свой дом, выслушал, принял и сделался хранителем полученной от меня информации, было выше любых похвал.
Если не считать перехода на нелегальное положение, то у меня оставалось только два пути: отправляться на Лубянку в надежде, что в связи с военной обстановкой меня простят и предложат какую-нибудь новую работу, или уходить в ополчение, где не спрашивают документов. Шансы на успех по первому варианту были следующие: пятьдесят процентов на то, что не простят, и пятьдесят процентов, что простят, однако затем я погибну в каком-нибудь очередном шпионском омуте. Итого общий шанс на выживание – двадцать пять процентов. В ополчении же шанс на выживание – один процент, не более. Тем не менее я однозначно выбрал ополчение. При этом я отказываюсь считать себя самоубийцей – ибо подлинным самоубийством для меня являлось бы возвращение к моему прежнему бытию, в котором не имелось успокаивающего чувства завершённости пути и познания высших земных тайн.
Я также незаметно выбросил в мусоропровод бывшую при мне вторую ампулу с ядом, которая могла бы помочь избавиться от страданий при смертельном ранении. Ведь если я – не самоубийца, а лишь следую по пути, указанному судьбой, то я могу надеяться, что она, многим меня одарив, не забудет проявить ко мне и свою последнюю милость.
Конечно, у меня сохранялась ещё одна возможность спастись – позвонить работающему на англичан адвокату Первомайскому. Были бы с ним, уверен, и новые документы, и кров над головой. Однако я не буду метаться: спасение моего физического ego мне неинтересно, а разрушать новый и великолепный мир, который я завершил строить внутри себя, я не позволю никому.
О самом Первомайском я также решил никому не сообщать, пусть живёт спокойно: всё-таки его хозяева – пока наши союзники…
Да, я едва не забыл про переданное через Рафа предложение Валленбергов. На сей счёт я составил небольшой меморандум, который вручил Николаю Савельевичу. Он сразу сказал, что предложение интересное и он обязательно ознакомит с ним руководство Государственного комитета обороны.
Что ж, если хотя бы это одно удастся – моя миссия будет считаться не напрасной.
9/XI-1941
Ранее ноябрьское утро. За окном, если отогнуть полог светомаскировки, ещё царит ночь, но по отсветам низких облаков видно, что день будет промозглым и хмурым. В доме я один – Николай ночью сообщил по телефону, что заночует на работе, а Евдокия Семёновна по-прежнему дежурит в своём эвакуационном комитете.
Одно слово: «нам утро скорбный мир несёт…». У меня действительно на душе скорбно, но мирно. Последние сомнения улеглись. Всё, что необходимо было передать Николаю Савельевичу Гурилёву, я сделал и передал. Этот дневник, который я сейчас дописываю, будет лежать у него на столе. В прихожей оставляю лишнюю одежду и вещи из Европы – время непростое, могут ещё пригодиться.
В своём архангельском ватнике я имею абсолютно законченный рабоче-крестьянский вид с которым, уверен, без помех доберусь до сборного пункта ополчения. Дворничиха в подъезде вчера сказала, что после того, как в ополчение пришли записываться несколько «высокопоставленных», на Грузинской начали смотреть документы. Бедная женщина, она никак не может понять, зачем этим «высокопоставленным» сбегать из тёплых квартир на смерть! Думаю, что у них – именно мой случай.
Я решил ехать на сборный пункт в Сокольниках – там большой заводской район и там, я уверен, меня примут в ополчение без лишних формальностей.
Записку для хозяев, чтобы не вздумали учинить розыск, я приколю на двери. Ключ мне не понадобится – английский замок отворит мне дверь только в одном направлении.
Пожалуй, это всё. Я всё понял, всё сказал и объяснил. Единственное, что продолжает волновать меня безусловно и навязчиво с детской безыскусной искренностью – это Новое небо и Новая земля. Нынешние мною исчислены и более неинтересны.
Для грядущих же – я сделал всё, что мог. Внутри меня теперь остаётся только одно желание – сохранить надежду когда-нибудь разглядеть их торжествующий свет из моей приближающейся инфернальной пустоты.
Поэтому – в путь.
A Dieu Vat!»[29]
Глава шестая
Естественная связь времён
Дочитав тетрадь, Алексей долго не засыпал, одновременно пребывая в восторженном и отчасти опустошённом состоянии. Едва ли не первой мыслью, которая посетила его, явилось понимание неслучайности произошедшего с ним и с его товарищем чуда пробуждения спустя семьдесят лет после войны. Второй мыслью стало острое сожаление о судьбе отца, которая, не окажись он на злополучном эсминце, могла бы с учётом произошедшей осенью 1941 года встречи сложиться совершенно по-другому. Третья мысль была о том, что попавшие в руки отца тайные сведения могли, напротив, сослужить ему плохую службу, поскольку за ними с восемнадцатого года тянется не пересыхающий кровавый след.
Но если это действительно так, то гибель в морской пучине несравненно лучше ареста, тюрьмы и расстрела по приговору тройки ничего не соображающих статистов с оловянными глазами. С другой стороны, Молотов отцу безмерно доверял. Его знал и похоже ценил также сам Сталин, поэтому как знать – может быть, именно отец сумел бы грамотно, тонко и незаметно для врагов вернуть в ведение государства неожиданно всплывшие сокровища, в которых Россия столь нуждалась. Ведь как бы там ни выходило, с лишними деньгами было бы и в войне проще победить, и быстрее восстанавливать повреждённое хозяйство. А затем, глядишь, и направить на строительство справедливой жизни в мировом масштабе.
С другой стороны, какой именно мир и какую именно жизнь предстояло строить? Имелась ли у кого ясность на сей счёт, были ли готовы люди? По какому пути надлежало идти – заниматься созиданием нового в отдельно взятой стране, к чему до войны явно склонялся Сталин, либо сделаться равным по статусу партнёром ведущих мировых держав? А может быть, возглавить какое-то новое общемировое движение – правда, последнее смахивает на троцкизм, однако почему бы и нет – ведь Троцкий мёртв, и всё когда-то задуманное и начатое им теперь вполне могло быть возвращено под советский контроль…
«Хотя о чём это я? Какой советский контроль? На дворе совершенно другое время, другая страна, другой мир… Никаких «если бы да кабы…» Надо что-то предпринимать, и предпринимать сегодня. Нужно понять, в чём состоят проблемы сегодняшнего мира. Выяснить, какие решения возможны. Определить, что именно эти решения дадут стране. Ах, чёрт, я опять говорю про страну и забываю, что моей страны больше нет, а ту, что существует сейчас, я совершенно не знаю. Значит – что нужно не стране, а людям. Людям… да, именно людям. А люди, если захотят, построят такую страну, которая им нужна. Только вот захотят ли? А если они захотят чего-либо другого или даже противоположного? Господи, как же всё это сложно и запутанно…»
Алексей не заметил, как заснул. Сон был глубокой, крепкий и спокойный. Петрович, вставший в районе десяти утра, не стал его будить, и Алексей очнулся только в полдень.
На кухне, прибранной и вновь чистой после сокрушения стены, за накрытым к завтраку столом их уже ждали Борис с Марией. Имелось, правда, лёгкое опасение, что после завершения бурного ночного знакомства хозяин квартиры, поразмыслив на теперь уже трезвую голову, запросто может предложить им покинуть гостеприимный кров или, не дай бог, сообщит о произошедшем куда следует. Однако Борис, как выяснилось, сам, похоже, побаивался подобного рода мыслей у своих новых друзей. Поэтому едва его сестра принесла Петровичу чай и сварила Алексею чёрный кофе, он сделал следующее предложение:
– Ребята, пока вы отдыхали, я тут вот что подумал. Вам надо легализоваться. Вам нужны паспорта. Пока у вас нет паспортов, лучше оставайтесь здесь и не высовывайтесь на улицу.
Петрович внимательно посмотрел на Бориса, словно пытаясь понять, насколько можно доверять услышанным словам и не кроется ли за ними подвох. Например, желание надолго заточить их в квартире наркома.
– Спасибо, я тоже начал думать об этом, – ответил Алексей, запивая своим кофе бутерброд с ветчиной на свежем хрустящем багете. – Мы совершенно нормальные люди и нам нужны такие же возможности, как и у других.
– А какие могут иметься варианты? – поинтересовался Петрович. – Я имею в виду паспортизацию? В домовом комитете ведь нас явно не ждут.
– Пока вы отдыхали, я навёл кое-какие справки, – ответил Борис. – В Москве паспорт получить трудно. Однако есть несколько мест в России, где это можно сделать.
– За красивые глаза?
– За красивые глаза будет скидка. А так, товарищи, привыкайте, что в нашем нынешнем государстве теперь за всё приходится платить.
– Платить всегда приходилось, – согласился Петрович, – просто раньше платили трудом, верностью, а иногда – и жизнью. Ну а теперь деньгами – что ж с того? Найдутся ли у нас деньги, товарищ лейтенант?
– Кое-что найдётся. Сколько будут стоить два паспорта?
Борис немного замялся и ответил, что за паспорта с полной и подлинной регистрацией придётся заплатить по миллиону рублей.
Петрович, хотевший что-то сказать и даже слегка привставший для этого со своего стула, сразу осёкся и присвистнул.
– Ну что ж, – ответил после некоторой паузы Алексей. – Это будет шестьдесят тысяч долларов или сорок тысяч фунтов. Немало. Сможем потратиться из «диверсионных»?
– А куда нам деваться, – мрачно согласился Петрович. – Только не окажутся ли эти паспорта фуфлом?
– Нет, исключено. Я знаю людей, и если они берутся, то всё будет честно.
– Ну, совсем, чтобы честно, положим, не будет, – Петрович улыбнулся. – Придётся совершить диверсию против государственной паспортной системы. Как ты на это, Алексей Николаевич, посмотришь?
– А вот никак и не надо на это смотреть! – вступила в разговор Мария, не позволив Алексею ответить. – Ребята, вы не жулики, и нечего вам мучить себя подобными вопросами! Вы за Родину кровь проливали, и потому имеете право. Паспорта по последним указам раздают сегодня всем кому не попадя, так что не волнуйтесь, на вас нет никакой вины! А что, Борь, никак нельзя их сделать за меньшие деньги?
– Российский общегражданский – нельзя. Я с Михельсоном говорил, а он врать не будет: если делать быстро, то миллион. Можно, правда, сделать загранпаспорт российского гражданина из Абхазии, это обойдётся в три раза дешевле. Но такой паспорт будет датирован 2008-м годом, ведь потом, после признания абхазской независимости, их бросили выдавать. Стало быть, на следующий год паспорт придётся менять – а никто не знает, где да как. И за границу с таким паспортом не съездишь, ведь для визы нужна копия общегражданского.
– Тебе виднее, – дружелюбно ответил Алексей. – Выбираться за границу нам обязательно придётся, так что на паспортах лучше не экономить. А как сделать заграничный паспорт?
– Его придётся оформлять в том же далёком месте. Но с ним будет проще. Я уговорил Михельсона оформить загранпаспорта в подарок.
– Михельсон не разориться, – со знанием дела подтвердила Мария. – Как скоро он это сделает?
– Обещал, если запустим всё сегодня, успеть до праздников…
Так было решено, не мешкая, приступить к легализации. Правда, срезу же возникла заминка – Петрович решительно возразил против того, чтобы оплачивать аванс довоенными долларами. Поэтому Борису пришлось изрядно помотаться по столице, обменивая небольшими суммами доллары 1934 года на банкноты нового образца или на рубли. На вопросы удивлённых менял Борис неизменно отвечал, что «обнаружил на даче загашник прадеда». Попутно он выяснил, что имеющийся в «диверсионном фонде» довоенные британские фунты теоретически можно обратить в современные деньги через процедуру экспертизы и направления соответствующего требования в Банк Англии. Поэтому было решено, что Мария объявит эти фунты семейным кладом и официально отвезёт их в специализированное банковское учреждение. А вот советские довоенные рубли и рейсхмарки годились только для нумизматов.
Вечером Борис сводил Алексея с Петровичем в крошечное фотоателье, разместившееся в подсобке продовольственного магазинчика, где были сделаны необходимые фотографии, которые затем он отвёз вместе с авансом «куда надо». Паспорта обещали сделать не позднее девятого мая.
Приступив к решению паспортного вопроса, вспомнили и о паспорте Марии, оставшемся у работодалетей-бандюганов. Борис настоял, чтобы сестра написала заявление о пропаже документа и без задержки собрала для получения нового документа все справки.
Завершающую апрельскую неделю и первомайские праздничные дни наши друзья безвылазно провели в квартире Бориса, где к их распоряжению были библиотека, рояль и превосходная еда, которую Борис специально заказывал у какого-то знакомого ресторатора. В первые дни Мария почти не покидала квартиру, в изобилии снабжая своих гостей свежей прессой и обучая компьютерным премудростям. И если у Петровича общение с цифровыми технологиями сразу же не заладилось, то Алексей, напротив, оказался более чем способным учеником. Уже на следующий день он умел свободно пользоваться интернетом и отправлять – пока что, правда, самому себе – электронные письма. Особенно же полюбилось ему рассматривать на экране компьютера детальные космические фотографии земной поверхности, выискивая знакомые холмы и излучины рек.
Алексею не терпелось поскорее вырваться из пусть гостеприимной, но ставящейся с каждым днём всё более тесной и невыносимой от воспоминаний прошлого собственной квартиры и хотя бы мельком пройтись по знакомым московским местам, где, как он был уверен, ещё можно было встретить следы былого. А вот от намерения посетить бывшую родительскую дачу пришлось отказаться, поскольку на её месте теперь находился закрытый санаторий, пруд был засыпан, а на месте старой липовой аллеи космическая фотография показывала теннисный корт.
Встречать когда-то столь любимый праздник Первого мая тихо, буднично и заурядно, без повсеместного трепещущего кумача знамён и проникающих в распахнутые окна задорных звуков песен было непривычно, и Алексей даже посетовал Борису, что его современники становятся скучными и даже не хотят радоваться весне. Борис, поначалу готовый согласиться с этим утверждением, затем неожиданно возразил в том духе, что теперь «эмоциональная кульминация» сместилась на День Победы.
– С некоторых пор девятого мая у нас, – пояснил он, – это вроде светской пасхи, праздник жизни и воскресения. Войну, конечно, теперь никто не знает по-настоящему, фронтовиков практически не осталось и если среди них ещё и найдутся единицы, которые прошли через настоящий ад, то они, скорей всего, давно заменили его в своей памяти каким-нибудь не рвущим душу мифом… Но тем не менее большинство из нас чувствует свой долг перед воевавшими. Люди понимают, что жизнь устроена не вполне справедливо: мы вот живём и наслаждаемся, а те – сгинули, ничего от жизни не вкусив и не узнав. Девятого мая это чувство выходит из подсознания и люди об этом могут если не говорить вслух, то хотя бы задумываться. А так, конечно, ты прав, прежнего духа сегодня нет и в помине. Однако если народ когда-нибудь забудет и про День Победы – то всё, ему конец…
– А почему ты сказал про праздник воскресения? – поинтересовался Алексей, глядя сквозь давно не мытое оконное стекло на крыши домов, освещённых склоняющимся к закату солнцем. – Ведь люди даже прежде не очень-то в христианское «воскресение мертвых» верили, а тут, сегодня – неужели они что-то подобное имеют в виду?
– Ну как же? Вот вы вдвоём уже взяли – и воскресли, – решил отшутиться Борис.
– Может быть… Но ведь нас, похоже, никто тут не ждал и не ждёт. Я просто хочу понять, за что сегодняшние люди, как ты говоришь, любят День Победы. За то, что теперь нет войны и что ни тебя, ни близких твоих не убьют? – вряд ли, слишком много времени прошло. В благодарность я тоже не очень верю. Искренняя благодарность живёт лишь у поколения современников и очевидцев, а затем исчезает без следа. За три века Россия, кажется, с одной лишь Турцией воевала не менее десятка раз, там тоже были страшные жертвы, но разве кто-то их сегодня вспоминает?
– Правильно, никто не вспоминает. А эту войну – вспоминают. Даже я так скажу – целый год почти не помнят, а вот в этот день вспоминают. Самое удивительное – вспоминают сами, без чьей-то подсказки. А знаешь – почему?
– Нет.
– Потому, что в той войне с Германией мы реально должны были погибнуть, сгинуть. Германия должна была победить, истребить всех нас, здесь живущих, а потом, помирившись с Англией и США, править миром. Тысячелетний рейх не был бредом Гитлера, к нему Европа продвигалась на протяжении всех своих веков… На нас обрушилась мощь невиданная, они всё знали и просчитали, осечки не должно было выйти… Ведь под Москвой и Сталинградом, Алексей, наша судьба висела даже не на волоске! И тут случается чудо, это железный каток ломается и Россия, которую уже похоронили, вдруг воскресает! И поэтому теперешние люди, за исключением законченных циников и негодяев, нутром чувствует, что своей нынешней жизнью они обязаны исключительно этому чуду, этому невиданному в человеческой истории жертвоприношению, которое совершили наши деды. Разве не так?
– Не обижайся, – ответил Алексей, – но мне трудно об этом судить. Я ведь на той войне ни разу даже не выстрелил в сторону врага. Да и задание, с которого мы исчезли и каким-то образом попали к вам сюда, как я сейчас понимаю, тоже не было связано с военной необходимостью. Я даже про Сталинград-то узнал-то только из твоих, Борь, книжек… По сути своей – я остался довоенным человеком. Излишне экзальтированным, доверчивым и немного сентиментальным. И в отличие от него, – Алексей кивнул в сторону утонувшего в глубоком кресле Петровича, всецело погружённого в чтение, – жившим не реальностью, а в основном идеями. Идеями, которые сегодня мертвы.
– Ничуть нет! – как всегда неожиданно, включилась в разговор вошедшая в комнату Мария. – Ты просто не получил в полной мере от войны травму. Её все тогда получили, и теперь эта травма у детей и внуков в подкорке сидит. Недаром же говорят, что в России пить водку – именно пить, как пьют сейчас, – начали только после войны, и всё так случилось именно из-за той страшной травмы.
– А ты, товарищ лейтенант, напрасно считаешь меня реалистом, – отозвался из дальнего угла гостиной Петрович, который, как оказалось, внимательно следил за разговором. – Думаешь, что все, кто снаряжал бомбы и прочие спецсредства для врагов государства, не могли быть романтиками? Мы-то как раз и были самыми большими романтиками тридцатых годов!
– Это интересно, поясните! – удивлённо произнесла Маша, присев на подоконник.
– Ничего сложного, – Здравый кашлянул и отложил книгу в сторону. – Мы уничтожали врагов не только без сожаления, но даже со светлым чувством радости. Ведь радуется же хирург, когда удаляет из раны гной и даёт больному возможность выздороветь, чтобы затем – счастливо жить! Вот сегодня у вас все подряд про НКВД пишут невесть что и называют нас извергами и палачами. В этом есть своя правда, ближе к войне в органы действительно натекло много мутного народа. И эти, вновь пришедшие, всех романтиков первыми же взяли в расход. Остались считанные единицы, и из них последний – вот он, перед вами.
– Последний романтик эпохи Большого террора, – тихо и задумчиво произнёс Борис.
– Да не совсем. Я и мои товарищи работали в основном по загранице. К тем репрессиям, о которых у вас сегодня не пишет только ленивый, мы прямого отношения не имели. И это – чистая правда, поскольку если бы имели – меня бы уже шлёпнули давно и я бы не мог сейчас разговаривать с вами, читать ваши газеты и пить ваш коньяк. Кстати – за книжку воспоминаний Судоплатова огромное спасибо!
– Понравилась?
– Нет, конечно. Как может понравиться, когда узнаешь, как скверно сложилась жизнь практически у всех, кого я знал и с кем работал… Шпигельглас расстрелян, Мельников в конце войны застрелился… А у выживших – дети и внуки либо стали капиталистами, либо сбежали из страны.
– А вот у меня, – ответил Борис, – вы только не удивляйтесь, от воспоминаний Судоплатова осталось почему-то очень светлое впечатление.
– Почему?
– Потому что книгу написал человек, с начала и до конца веривший в то, что он прав. И когда всё у него пошло прахом – не разочаровавшийся и не озлобившийся. Один лишь эпизод, когда ему в тюрьме по распоряжению Хрущёва прокалывали спинной мозг, а он, чтобы избежать расстрела, делал вид, что сошёл с ума и не чувствует боли – одно это чего стоит! Хотя к тому времени Судоплатов уже успел побывать на самом верху, почувствовать себя небожителем – и тут вдруг падение, позор, неизвестность. Другой бы сломался, пожелал бы себе скорой смерти и получил бы её – а он предпочёл побороться с судьбой. Хотя понимал, что жаждущий его смерти новый генсек пришёл надолго и шансов – почти никаких.
– Да, та прав, пожалуй, – помолчав, согласился Петрович. – То, что начал Ежов, Хрущёв довёл до конца. Извёл последних, кому было не наплевать.
– Хрущёв, конечно, законченный негодяй, – возразил Борис, – но люди начали костенеть и разочаровываться немного позже. В семидесятые годы и, особенно, в начале восьмидесятых. А при Хрущёве всё-таки мы полетели в космос.
– Из того, что я успел прочесть, могу судить, что полетели – на старых дровах….
– Ладно, мальчики, давайте закончим этот спор, – решительно заявила Мария. – А то мы словно на похоронах. Идеи мертвы, люди мертвы… Ничуть не мертвы! И люди живы! Это же ведь настоящее чудо – вы явились, как среди ясного неба гром, пришли, откуда никто не приходит, и теперь находитесь здесь, среди нас, со всеми своими эмоциями, переживаниями, со всей вашей верой!.. Чем не чудо? И ведь это чудо не могло произойти просто так. Значит, нам всем что-то предстоит сделать, сделать что-то очень важное. Ведь так? Или я не права?
На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Алексей неторопливо достал сигарету, потеребил её в пальцах, всем своим видом давая понять, что собирается что-то сказать. Однако вскоре он молча положил её на стол и опустил взгляд, словно не находя подходящих слов или не решаясь их произнести.
Затянувшуюся паузу разрядил Петрович:
– Если мы начнём искать ответ на подобные вопросы, то вскоре все сойдём с ума. И доказывать этот факт не придётся, особенно когда мы с Алексеем получим паспорта и уйдём с нелегального положения. Как только вы кому-то расскажете, что общались с ним, лично знавшим Тухачевского, либо со мной, осенью сорок первого года минировавшим Москву, – так всех нас быстренько определят на излечение и хорошо, если в одну палату, где мы сможем продолжить обмен мнениями. Поэтому я считаю, что подобные разговоры нужно прекращать и начинать жить настоящим. Мы – такие же люди, как и вы. Вот ещё немного почитаем современной литературы, освоимся – и никто больше не скажет, что между нами есть разница.
– А если мы живы, то продолжат жить и наши идеи, и наши замыслы, – поддержал товарища Алексей. – Может быть, со временем это к чему-то приведёт. Интересно только знать – к чему именно?
Мария слезла с подоконника и направилась к двери, выходящей в коридор.
– Не одно лишь это интересно, – сказала она, прислонившись к старому деревянному косяку с потёршейся краской. – Интересно то, что будет завтра. Что произойдёт в мире, произойдёт у нас в стране, с нами… Каждый прожитый день – это чудо, и любой неглупый, что-то представляющий собой человек – тоже чудо. А мы в кои веки собрались в такой замечательной компании – разве не чудо и это? Поэтому всё – заканчиваем философию, сегодня – праздник, и я иду накрывать на стол!
Предложение было более чем уместным, поскольку с самого утра никто не ел. Все перешли в соседнюю комнату, по центру которой был выставлен большой овальный стол, покрытый тёмно-зелёной старинной скатертью. После череды пусть сытных, но сооружённых на скорую руку перекусов на кухне парадный вид этого стола вызывал настоящее предощущение торжества.
Правда, не менее сорока минут пришлось довольствоваться лицезрением пустых тарелок и нетронутых приборов, поскольку заказанные из ресторана блюда никак не везли. Наконец, около семи вечера раздался звонок в дверь, и курьер доставил в квартиру дюжину картонных контейнеров с салатами, холодцом, маринованным грибами и многочисленными мясными деликатесами. Откупорили шампанское, и комната постепенно наполнилась негромким, но не умолкающим ни на секунду шумом дружеского застолья.
Первый тост подняли за праздник, второй выпили за здоровье собравшихся. Выждав необходимую паузу, Борис поинтересовался, не будут ли его гости возражать, если третий тост, следуя традиции, будет провозглашен за Сталина.
Однако на это предложение Здравый ответил, что ему всё равно, а Алексей сказал, что не стоит пить за здоровье того, кого давно нет на земле. Возникла секундная неловкость, которую удалось преодолеть, когда Алексей, поднявшись из-за стола и держа перед собой высокий хрустальный бокал, произнёс:
– Поскольку у нас в бокалах шампанское, а шампанское, как известно, – вино праздника, то пить за ушедших и, прежде всего, за невернувшихся с войны мы сейчас не станем. Да и для нас с Василием Петровичем это как-то неловко: ведь чуть больше недели назад мы числились среди пропавших без вести, были одними из них… Поэтому сегодня и сейчас предлагаю выпить за Родину. В наше время мы называли её Советским Союзом, теперь это Россия. Может быть, когда-нибудь завтра стране дадут другое имя – кто знает? – неважно. Важно другое. Наша Родина – это не просто определённая территория с известными границами, ландшафтом и климатом. И даже не страна, в границах которой проживают те или иные народы. Наша Родина – это прежде всего мечта. Мечта о прекрасном доме, который мы когда-нибудь создадим. Мечта о справедливости. Мечта о правде. Мечта о вечном свете и о том, что именно с ним возможно человеческое бессмертие, о котором мечтали поколения наших пращуров. В своей истории мы совершали много ошибок и выбирали неверных путей. Однако именно эта мечта объединяла и продолжает объединять всех нас с нашей Родиной. И именно она является единственным оправданием наших ошибок и заблуждений. Поэтому прошу вас, друзья, поднять бокалы и выпить за нашу великую мечту. Которая есть наша Родина, есть наша правда и есть наше оправдание!
– Браво!
– Великолепный тост!
– Присоединяюсь!
Содвинутые разом бокалы напевно зазвенели, ледяные искрящиеся брызги, высоко подпрыгивая, защекотали у кончика носа и затем, орошая горло, весёлым и лёгким возбуждающим хмелем разнеслись по телу. Вскоре завязалась приятная и беззаботная беседа.