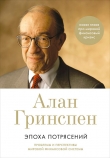Текст книги "Вексель Судьбы. Книга 1 (СИ)"
Автор книги: Юрий Шушкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
– Я не знал, – подчёркнуто вежливо ответил Петрович, поднявшись со скамьи. – А какое именно оружие?
– Да всё буквально. Лучшая военная электроника. Лучшие беспилотники. Система ПВО «железный купол».
– А что это за система?
– Неужели вы не знаете? Самая совершенная в мире система ПВО. Гарантированно сбивает всё, что в её сторону летит – от ракеты до артиллерийского снаряда.
– И как же эта система работает?
– Просто до гениальности. Радар сканирует небо, компьютер классифицирует цели, выдает команду – и всё, что находится в воздухе, поражается противоракетами.
– То есть на каждый летящий снаряд приходится выпускать ракету? – не унимался Петрович.
– Да, разумеется. Но у нас этих умных ракет предостаточно. Наша маленькая страна, в которую бабуля всё никак не хочет переселяться, со всех сторон окружена дикарями. Но это не мешает ей процветать. Несмотря на постоянные обстрелы и неистовое желание отсталой части мира сбросить нас в море.
– Мы, например, этого совершенно не желаем, – примирительным тоном ответила Якову Мария.
– А я и не обвиняю вас. Но я же выражаюсь образно: есть, есть прекрасный, совершенный, имеющий будущее и обласканный Всевышним новый человеческий мир. Израиль – лишь его малая, но очень важная часть. А есть, простите, мировая помойка. На которую можно было бы закрыть глаза, плюнуть – если бы не исходящее из её недр перманентное желание этот наш лучший мир изгадить и уничтожить. А нанести ущерб в подобной схватке можно только грубой силой, физической агрессией – все остальные-то карты ведь теперь у нас! И военная, к слову, карта – у нас тоже. Вот почему я терпеть не могу эти брутальные майские празднования в Московии. Припёрся сюда лишь из-за уважения к бабушкиным сединам.
Яков закончил свою речь эффектным театральным поклоном в сторону старушек. Бабушка Мария Вениаминовна, не проронив ни слова, взглянула на него своими чёрными грустными глазами, а её подруга непонимающе покачала головой. Разговор оборвался, и в небольшом пространстве возле скамейки под зацветающей яблоней воцарилась тишина. Вокруг же продолжала шуметь и многоголосо переговариваться пёстрая праздничная толпа, со стороны площади, с эстрады, доносились звуки «Синего платочка», а где-то рядом за театральным фонтаном играл аккордеон.
Петрович, не скрывая своего смущения, наморщил лоб и слегка тронув Якова за локоть, предложил отойти от скамейки на несколько шагов.
– Так что же, Яков, – спросил он спокойно негромким голосом, – вы видите место нашей страны на этой самой мировой помойке?
– Я же вам всё объяснил, – выдохнул Яков, добродушно улыбнувшись. – Однако если хотите – повторю ещё раз: существуют два мира – высший и низший. Можете злиться, можете негодовать, но это – необсуждаемый факт, который необходимо признать и успокоится. Согласитесь! Ведь вы же неглупый человек!
– За комплимент благодарю. А вот чтобы успокоиться – то вряд ли. Знаете, Яков, я не имею ничего против того мира, частью которого вы себя считаете, и против той страны, под флагом которой вы, как я понимаю, сегодня живете. Я против и всяких дикарей, в том числе и тех, которые, как вы говорите, к вам лезут и мешают жить. Но только не надо объявлять подобным тоном, что вы можете абсолютно всё, не надо!
– А чем вас мой тон не устраивает?
– Только тем, что вы плохо знаете жизнь и живёте в полностью выдуманном мире.
– Ха! Чем докажите?
– Хотя бы тем, что любой «железный купол» захлебнётся, если, не дай бог, против него ударит беглым огнём всего лишь один артиллерийский дивизионный полк по штату одна тысяча девятьсот сорокового года. Тридцать шесть гаубичных стволов с практической скорострельностью пять выстрелов – это, простите, две тысячи снарядов за десятиминутное артнаступление, сто восемьдесят за минуту или по три каждую секунду! Боюсь, не справится ваш радар с таким ульем.
Помрачневший Яков метнул на Петровича недовольный взгляд. Затем несколько раз кашлянул и коротко ответил:
– Ну, положим, не справится. Тогда что?
– Да ничего. Просто будьте сдержаннее в ваших оценках.
– А вот и не буду! Есть цивилизация, а есть варварство. И вы со своими друзьями, уважаемый товарищ, я вижу к огромному своему сожалению – на стороне варварства. Ишь ты – артиллерийский полк вспомнил! А если тыщу артиллерийских полков собрать, а? Миллион снарядов, миллиард! Разрушать, только разрушать умеете! Всю свою историю только знали, что разрушали и крушили всё вокруг и у себя внутри. Проклятая, проклятая страна! Неужели так и не надоело вам крушить?
Яков почти перешёл на крик, и многие, стоявшие или проходившие рядом, недоумённо оглянулись. Бедные старушки, пришедшие на праздник, однако оказавшиеся участниками совершенно неуместного в этой день спора, незаметно сместились на дальний край скамейки. Обе смущённо отводили взгляд в сторону и старались делать вид, что ведут между собой посторонний разговор.
Петрович в ответ на эскападу Якова ухмыльнулся, пожал плечами и произнёс неожиданное:
– А ведь вы, пожалуй, будете правы. Мы действительно всегда были безжалостны по отношению к самим себе. Есть, есть в нас страсть не только строить, но и уничтожать построенное. Но уничтожать, заметьте, не чужое – а своё.
– Ну вот же! Вот вы и согласились со мной, что внутри России сидит звериный комплекс – крушить и разрушать! – замотал головой неожиданно просветлевший Яков.
– Нет. Я не это имел в виду. Я имею в виду вечное, как мне кажется, живущее в нас желание переделывать и создавать что-то другое. Новое и более совершенное, потому что то, что есть – ни к чёрту не годится, в этом я с вами согласен. Здания, дороги, заводы, человеческие отношения – всё абсолютно. Если уж говорить о каких-то древних родовых чертах, скрытых в нашем русском народе, то одна из главнейших – это поиск правды, которой почему-то всегда нет. Но ради которой не жалко ни себя, ни других. Правильно я говорю, Алексей?
Алексей, настроившийся на скорое завершение пустопорожнего и утомительного препирательства, уже не ожидал услышать ничего важного и оттого заметно напрягся, пытаясь проанализировать слова Петровича и понять, стоит ли включаться в новый виток спора.
Яков, к своему изумлению обнаруживший в молчаливом Петровиче готовность хотя бы в чём-то с собой согласится, уже приготовился было заговорить, как внезапно со стороны весёлого искромётного фонтана, необъяснимым образом одновременно просочившись через плотную толпу, рядом с ними образовалась стайка из четырёх низкорослых смуглых молодых людей азиатской наружности. Соединившись на пятачке, они что-то быстро обсудили между собой на непонятном наречии и один из них, громко и коряво выкрикивая нечто-то вроде «люди пусти меня», вплотную подошёл к Марии с Борисом. После этого, демонстративно выставив вперёд своё плечо, он начал проталкиваться к скамейке. Недоумевающая Мария, растерявшись, сделала шаг назад и уткнулась спиной в точно такого же типа. Не обращая ни малейшего внимания на сидящих напротив старушек-ветеранок, незнакомец принялся перелезать через скамью, беспардонно наступив истёртой длинной туфлей на край шифоновой юбки Василисы Прокопьевны.
– Что вы творите! – гневно крикнул Алексей.
Однако негодяй уже заносил вторую ногу на спинку скамьи и, спустя мгновение, перемахнул через неё; второй азиат, вклинившись между изумлёнными фронтовичками, проделал то же самое, и спустя мгновение уже бежал по газону к тротуару Моховой.
– Хам! – в бессильной ярости метнула ему вслед Мария.
В этот момент послышалось громкое оханье – это грузный Яков, схватившись за одной рукой за живот, а другой нелепо и немного смешно помахивая куда-то вверх, начал оседать и заваливаться на землю. Алексей мгновенно схватил его за плечи и помог удержаться от падения.
– Ограбили! Меня ограбили… Мой планшет!.. – застонал Яков жалостливо, громко и протяжно.
Стало понятно, что остальные два злоумышленника, воспользовавшись тем, что внимание было отвлечено на хамские скачки их дружков, взяли Якова в тесные «клещи», ударили кулаком в живот и отобрали чёрную сумку, в которой находились документы и деньги. Чтобы без следа раствориться в праздничной толпе, запрудившей Моховую, им оставалось преодолеть несколько метров газона с цветущей посередине яблоней.
Внезапно раздался похожий на пистолетный выстрел громкий треск рвущейся ткани. Переведя взгляды от несчастного Якова, все увидели, как азиаты во всю прыть улепётывают к спасительной для них толпе, а возле яблони разворачивается Петрович, сумевший в немыслимом прыжке дотянуться до одного из них. В поднятом кулаке он сжимал отбитую сумку.
– Всё в порядке, – сказал он, возвращая сумку Якову.
Опешивший Яков глядел на Петровича большими перепуганными глазами. Сделав несколько неровных вдохов и выдохов, он принял сумку и зашептал слова благодарности.
– Всё в порядке, – снова повторил Петрович, снимая пиджак. – Кроме вот этого…
Рукав дорогого итальянского пиджака был вчистую оторван, и помимо того подрукавный шов разошёлся до самой талии.
Вокруг сразу же образовалась толпа сочувствующих. Звучали возмущенные голоса, сетования на бездействие полиции и гневные призывы гнать в шею понаехавших в столицу гастербайтеров. Обе старушки поднялись и наперебой начали предлагать Петровичу отремонтировать пострадавший пиджак.
– Не надо, милые, не надо, – отшутился он. – Эта пижонская материя того не стоит. А вот ваша бы не подвела!
С этими словами он коснулся и любовно провёл ладонью по выцветшему рукаву гимнастёрки Марии Вениаминовны. Видавшая виды белёсая хлопчатобумажная ткань с ровным и плотным саржевым плетением была по-прежнему прочна, пригодна и величественна в своей продуманной неизменности.
Петрович опорожнил карманы разорванного пиджака, переместив их содержимое в карманы брюк и отдав что-то из своего добра Алексею, после чего скомкал его и затолкал в мусорную урну.
– Ну, так-то даже будет поинтереснее! – сказал он, разминая плечи. – Сорочка вроде бы не порвалась?
– Увы, – ответил Алексей. – И сорочка пострадала.
– Что ж! Тогда, наверное, будем прощаться – и по домам.
Оправившийся от удара Яков подошёл к Петровичу и протянул руку.
– Не подберу слов, чтобы вас отблагодарить. Спасибо, господин… не знаю, как вас зовут, вы не представились.
– Зачем «господин»? Есть же другие слова. Зовите меня – товарищ Василий.
– Спасибо вам… Василий.
Инцидент был полностью исчерпан. Все ещё раз поздравили друг друга с праздником, Алексей немного церемонно поцеловал ручки восхищённых старушек, и на том распрощались.
Потерянный в схватке с грабителем пиджак и разорванная сорочка разом изменили все планы, имевшиеся на предстоящую часть дня. Гулять по праздничному городу, слушать концерт на Поклонной или даже просто посидеть в ресторане было теперь нельзя, поэтому решили возвращаться в квартиру.
Движение по Тверской оставалось перекрытым, поэтому в Большом Палашёвском, куда наши герои свернули по пути домой, в ожидании разрешения на проезд скопилась целая очередь автомашин. Внимание Алексея приковал роскошный спортивный автомобиль ярко-алой расцветки: как зачарованный, с давно забытым для себя детским простодушием, он рассматривал его, покуда они не поравнялись – после чего по-прежнему задерживать, оглядываясь, на чужой машине восхищённый взгляд становилось не вполне прилично. Однако обернуться пришлось – с лёгким и звонким щелчком отворилась дверца чудо-родстера, и из его кабины выскочил импозантный гражданин средних лет в белоснежном чесучовом пиджаке и с впечатляюще высоким коком чёрных набриолиненных волос.
– Боря, здорово! – заорал он что было сил.
– Саня, ты?.. Привет! – остановившись, ответил Борис. – Застрял, что ли?
– Да, застрял, как видишь! – автовладелец, оказавшийся приятелем Бориса, обречёно махнул рукой. – Гуляете?
– Да вроде того… Давай тебя познакомлю: это Маша, моя сестра. Мои друзья – Алексей и Василий.
– Очень приятно. Я – Штурман. Александр Штурман.
– А я вас помню, мы как-то пересекались, – сказала Мария, пока мужчины пожимали руки друг другу.
– Ну, это немудрено. Корпоративы, шоу, балаганы…
– Всё продюсируешь? – поинтересовался Борис.
– Понемногу. Жить-то надо!
– Вне всяких сомнений! Сегодня, поди, тоже на посту?
– А як же ж! Эх, дёрнула меня нелёгкая свернуть к Тверской… Подскажи-ка мне лучше, ты ведь здешний старожил, – как бы мне переулками просочиться к Гнесинке?
– Думаю, что никак. Никитская тоже перекрыта часов до двух. Ступай пешком.
– Жесть! Поздно уже. Не успею, значит, одну деваху прослушать.
– Пусть подождёт. И ты отдохни в праздник.
– Отдохни! Это ведь моя работа – чтоб другие отдыхали! Срывается выступление…
– Ну и пусть срывается, мало ли что! Устрой замену.
– Нельзя замену устроить, Боря, никак нельзя! Правительственный концерт!
Не на шутку опечаленный Штурман поведал, что одна из солисток, два номера которой он согласовал для предстоящего в сегодняшний праздничный вечер правительственного концерта, накануне куда-то исчезла, и лишь сегодня утром, ответив на телефонный звонок, как ни в чём ни бывало сообщила, что отбыла в Милан петь на вилле какого-то украинского банкира. «Перекупили, сволочи! – сокрушался Штурман, потрясая своей роскошной причёской. – Какая подлость! Оставила меня в дураках, опозорила перед первыми лицами государства! А что я могу сделать – там ей по сорок штук евро отваливают, а у меня утверждённый бюджет, не свои ж докладывать! За шальные деньги люди готовы последнюю совесть продать!»
– Ты не кипятись, – принялся успокаивать приятеля Борис. – У нас, как известно, рыночная экономика, и первые лица государства прекрасно об этом осведомлены. Сделай замену, и они всё поймут.
– Думаешь?
– Ну а что в том сложного? Что именно твоя изменщица должна была петь?
– «Утомлённое солнце» со старыми словами. Что-то вроде: «Это было на юге, возле Чёрного моря» – если знаешь…
Борис, улыбнувшись, взглянул на Алексея, и тот в ответ немедленно подмигнул ему в ответ.
– Знаю, конечно. Текст можно уточнить в интернете, – с показным спокойствием продолжил утешать приятеля Борис. – А что касается вокала, то ведь это – обычный шлягер на полторы октавы. Спустись в метро – там каждая вторая его исполнит.
– В том-то и дело, что не исполнит! – продюсер грустно усмехнулся. – Вторым номером у неё идёт концерт Глиэра для колоратурного сопрано. Так что я, как видишь, попал…
Борис присвистнул и с изумлением взглянул на продюсера. Потом он перевёл взгляд на Алексея, но тот глазами дал понять, что с этой вещью Глиэра не знаком.
«Ну да, всё верно, – подумал про себя Борис, – знаменитый концерт Глиэра, посвящённый жертвам войны, был написан ближе к её концу, мои спутники его просто не слышали… Да и если б знали – разве смогли помочь? Предложить спеть Маше – вряд ли, там сложнейшая тесситура, у неё не хватит времени на подготовку… А всё-таки – может попробовать? У Сашки положение, похоже, безвыходное, а для сестры после провала в Питере – чем не шанс?»
Ещё раз оценив в уме все за и против, Борис решил предложить несчастному Штурману этот вариант. В конце концов, подумал он, «Утомлённое солнце» Мария однозначно споёт, и споёт неплохо.
– А какой формат концерта запланирован? – издалека поинтересовался он, наспех выстраивая в голове план, как склонить Штурмана собственноручно сделать ангажемент сестре.
– Праздничный концерт для ветеранов, – уныло и немного раздражённо отрезал тот.
– А поконкретней?
– Конкретнее? Одно отделение, длительность не более ста минут… Сначала должна быть представлена, так сказать, довоенная ностальгия. Песни тридцатых, то да сё… Потом – песни военных лет. Только без особо печальных интонаций, такое было пожелание сверху. Затем всё завершает огромный военный хор с какой-то современной величальной кантатой – но эта тема уже не моя.
– А зачем тогда Глиэр? Ведь его концерт – по сути реквием погибшим, вещь предельно камерная. Мне кажется, что исполнять её на твоём мероприятии – не совсем по профилю.
Штурман многозначительно поднял глаза к небу.
– Ты Усманчика знаешь?
– Того, что курирует твой бизнес из Кремля?
– Не из Кремля, а со Старой Площади. Так вот, сбежавшая солистка – какая-то его родственница, типа троюродная сестра. То ли она его просила, то ли он сам придумал – но было решено с помощью Глиэра раскрутить девочку перед первыми лицами. Так сказать – и шлягер, и бельканто, всё умеем, нате!
– Но тогда зачем было сбегать на виллу в Милан? Я бы на её месте остался и спел. Всё-таки не часто предстаёшь перед царскими очами!
– Всё не так просто, Боря. Предполагалось, что на концерте, помимо первых лиц, будет один тип из Министерства культуры, от мнения которого для неё что-то предметно зависит. Но этот тип умотал за границу. И она, не будь дурой, тоже свалила за баблом.
– Дело житейское. Я бы на месте Усманчика согласовал замену, и делу конец.
– Нельзя, Боря, нельзя!.. Если убрать концерт Глиэра, то из программы выпадает восемь минут. Для замены нужны два довоенных шлягера. Причем таких, чтобы были в тему, ибо про колхоз или Днепрогэс тут не споёшь. Самые классные песни, которые ветераны помнят, – из старых кинофильмов. Мы уже вытащили из фильмов всё, что могли. Но на эти восемь минут нет ровным счётом ничего, хоть самому выходи и пляши!
– Неужели так ничего и нет?
– Да, ровным счётом ничего. Всё перерыли – «Волга-Волга», «Цирк», «Светлый путь», «Истребители». Бравурные марши не годятся. Концерт ведь у нас по жанру лирический, а с лирикой во времена товарища Сталина, ты же понимаешь, были проблемы.
– Странно, – с задумчивостью в голосе ответил Борис, переводя взгляд на Алексея. – А вот ты, Лёш, как историк – что считаешь?
– Я считаю, что та эпоха, это правда, не вполне располагала к лирике. С середины тридцатых предчувствие большой войны было абсолютно реальным, весь выбор состоял лишь в том, начнётся она завтра или послезавтра. Но вот через фильмы люди как раз и старались снимать это напряжение. Поэтому кинотеатры никогда не пустовали.
– А какие фильмы у нас крутили перед войной?
Алексей немного подумал и ответил:
– Самой популярной, кажется, была «Музыкальная история» с молодым артистом Лемешевым. Но там репертуар, я понимаю, не вполне ваш… Затем был какой-то комедийный фильм про пастуха и свинарку, но он тоже вряд ли подойдёт. К столетию гибели Лермонтова сняли «Маскарад» – его начали показывать в сентябре, когда немцы рвались к Москве, и смотреть его, должно быть, было ужасно…
– Ну вот! Всё правильно твой друг говорит! – оживился продюсер, – Какая там к чёрту лирика! Драма, да и только!
– Нет, постойте, – возразил Алексей. – Не может так быть. Что же ещё… Ну да, я же совсем забыл про «Большой вальс»! Великолепный фильм, его крутили с лета сорокового. Люди покупали билеты на несколько сеансов подряд!
– Ну так то же был фильм американский! – ответил Штурман, снисходительно посмотрев на Алексея.
– Да, но это ни о чём не говорит. Мне кажется, что именно он занимал в довоенном прокате твёрдое первое место. Об этом у нас нигде не сообщалось, однако ощущение было именно таким – в кинотеатры очереди стояли. Ведь фильм заряжал какой-то неистребимой надеждой и жаждой жизни. К тому же и сделан он был хорошо, и актёры подобрались великолепные. Одна Милица Корьюс чего стоит – восемь минут квинтэссенции Штрауса!
Штурман уже открывал рот, чтобы, по-видимому, в очередной раз высказать возражение, однако внезапно задумался, упершись взглядом в асфальт под ногами и скрестив руки на груди.
Алексей, вполне довольный доставшейся ему ролью историка, решил этой паузой воспользоваться:
– Милица Корьюс – из семьи русского офицера. Она начинала учиться в Москве, в гимназии на Большом Казённом. Моя ма… моя прабабушка ту же гимназию заканчивала и сохранила воспоминание о первокласснице с необычным именем, данным в часть нашей великой княжны. Многие москвичи помнили о происхождении этой в ту пору уже американской актрисы и оттого относились к ней с особенной теплотой. Но дело не в происхождении. Она была действительно великолепной – и на сцене, и в пении!
Штурман медленно оторвал взгляд от земли и внимательно, широко раскрытыми от изумления глазами, посмотрел на Алексея.
– Умопомрачительный вариант! Ведь если ту её арию… ту знаменитую песню из фильма поставить в программу… Нет, это же гениально придумано! Действительно, я припоминаю, – то был довоенный супершлягер! Его ведь и по радио должны были крутить, – обратился он к Алексею, – вы не знаете, его по радио крутили?
– Нет, по радио его почему-то не крутили. Тем не менее эту вещь знали абсолютно все.
– Нет, правда же! Это гениально!.. Рождение вальса… Большой вальс!.. Как там: та-та, та-та… А перевод в фильме был?
– Нет, Корьюс пела в фильме на английском. Но, уверяю вас, переводы имелись.
– Кто же их автор?
– Многие переводили сами.
– А вы откуда знаете?
– Как вам сказать? Просто знаю, и всё.
– Правда?
– Да вы не сомневайтесь! Если покопаться, то я один из них, возможно, для вас разыщу. Только найдите подходящего исполнителя.
– А у вас, у вас, – тут Штурман с нескрываемым уважением посмотрел в лицо историку, – есть какие-то варианты по исполнителю?
Алексей внезапно и решительно перевёл взгляд в сторону Марии. От неожиданности та встрепенулась и резко опустила руку с мобильным телефоном, с которого собиралась куда-то звонить. Отошедший в сторону на несколько шагов Петрович вытащил из сжатых губ сигарету и, выпустив клуб дыма, развернулся к разговаривающим. При этом оторванный рукав сорочки, который ему до этого удавалось маскировать, неожиданно отвалился вниз, обнажив поцарапанное плечо.
– Я могу спеть, – спокойно сказала Мария, выступив на полшага вперёд.
– Ты уверена? – озабоченно спросил сестру Борис, который теперь, оказывалось, был не вполне рад тому, что вместо несложного номера, исключительно на исполнение которого он намеревался уговорить Штурмана, петь его сестре придётся вещь искусную и технически весьма непростую. – Там ведь, кажется, надо брать самый верх третьей октавы?
– Ну и что? Возьму.
– Маш, ты уверена? Ты подумала хорошо? Времени репетировать нет, если провалишься – считай, конец карьере…
– Не волнуйся, не провалюсь. А насчёт третьей октавы ты даже не волнуйся – у меня получалось и в четвёртой.
Борис присвистнул.
– Когда ж ты успела?
Мария, слегка улыбнувшись и лукаво посмотрев на Алексея, ответила:
– Наверное тогда же, когда он делал свой перевод!
Взбудораженный продюсер, разумеется, намёка не понял, и с неистовой скоростью прокручивая в своей голове все варианты и исходы предстоящей в его судьбоносном концерте замены, незаметно сделал несколько шагов назад, после чего, упёршись спиной в крыло своего автомобиля, сначала инстинктивно отскочил, а затем подтянувшись на руках, молодецки запрыгнул на капот.
Борис, не желая, похоже, смириться с неотвратимостью рискованного предприятия, в которое внезапно перетекла его безобидная идея пристроить сестру на простенький и выигрышный номер, попытался отыграть назад. Взглянув на часы, он громко произнёс, обращаясь к Марии:
– Ну, положим, ты эту штуку выучишь и даже споёшь. Но оркестр! Как он-то успеет подготовиться? Даже если они всё сию минуты бросят и займутся тобой!
– Ах, оркестр… – с нескрываемым разочарованием выдохнула Мария. И на какое-то время воцарилась тишина.
Паузу прервал Штурман. Картинно тряхнув головой с неопадающим коком, он спокойно сообщил:
– Оркестр – сможет. Партитуру сделают на компьютере с фонограммы минут за пять. Сыграют с листа. Дирижёр, если надо, пойдёт за голосом. Могут сымпровизировать.
– Где это ты таких способных отыскал? – с лёгкой иронией в голосе поинтересовался Борис.
– Обижаешь! Это же «Кремлёвские виртуозы»!
Борис понимающе развёл руками и кивнул головой.
– Теперь всё ясно, извини. Ну что ж! Тогда – почему бы не рискнуть!
Продюсер спрыгнул с машины и продолжил теперь уже стопроцентно деловым тоном:
– До концерта – меньше семи часов. У меня есть кое-какие дела, но я перенесу их на последние часы. Сейчас нужны текст, звукоряд из интернета, ну и фоно, чтобы сделать пару проб. У меня нет вариантов, я в пробке. Какие есть у вас?
– Ко мне на квартиру. Десять минут – и мы там.
– Отлично. Только бы вот машину с дороги отогнать…
– Кажется, вон возле той помойки слева есть местечко, – подсказал зоркий Петрович.
Штурман не без труда развернул свой сверкающий спорткар в забитом машинами переулке и в районе Сытинского проезда буквально втиснул машину в узкий проём между каменной оградой и ржавым коммунальным контейнером. Последовательно приведя в действие две или даже три сигнализации, он с деловой целеустремлённостью догнал немного ушедшую вперёд компанию, и сразу же огорошил Марию вопросом:
– Ты уверена, что точно не провалишься?
Снова все остановились.
– Не провалюсь, – спокойно возразила Мария. – Неужели я похожа на дуру или самозванку?
– Нет, конечно, – ответил разволновавшийся продюсер и, обращаясь к Борису, уточнил: – Но мы же все должны понимать, что если будет провал, то я лишь слегка попаду на деньги и пару извинений, а вот для неё – для неё тогда захлопнутся все двери!
– Ну и пусть, – ответила Мария спокойно. – Только ты, если пообещал, сегодняшнюю дверь не захлопывай!
Уже в квартире на Патриарших, где под аккомпанемент Алексея Мария быстро разучила и с изящной лёгкостью исполнила перед Штурманом наиболее сложные и «улётные», с его слов, пассажи из штраусовской «квинтэссенции», тот, наконец, успокоился и умиротворенно попросил принести выпить «граммов пятьдесят». Однако немного поразмыслив после бокала кубинского рома, он вдруг поморщился и заявил, что заезженное «Утомлённое солнце», предваряющее «Большой вальс», – «не катит», и потому первый номер нужно срочно менять. Стрелки часов между тем приближались к половине шестого, и по постоянным трелям мобильного телефона продюсера можно было заключить, что его уже заждались в концертном зале.
Со Штурманом неожиданно согласился и Алексей, сообщивший, что по мнению его как историка довоенной эпохи все три русские текста «Утомлённого солнца» – и тот, где лирическому герою «немного взгрустнулось», и менее известный про «встречу на Юге», и где, наконец, «листья падают с клёна» – надуманны и немного нелепы. Причину этого Алексей объяснил тем, что в Советском Союзе никто не осмелился обратиться напрямую к первоначальному польскому тексту первоисточника – танго To Ostatnia Niedziela, что означает «Последнее воскресенье». В польском же оригинале рассказывалось не просто о погибшей любви, а едва ли не о последних минутах жизни, которая без этой погибшей любви делается невозможной.
Алексей даже вернулся к роялю, подобрал тональность и пропел по-польски:
…Dzisiaj sie rozstaniemy,
Dzisiaj sie rozejdziemy
Na wieczny czas!
[41]
Потом, помолчав, добавил, что ему известно, что в СССР это танго даже намеревались запретить, поскольку в довоенной Польше оно породило настоящую эпидемию самоубийств. Бывало, что оркестр ещё доигрывал концовку, а варшавские студенты и офицеры с пугающей лёгкостью стрелялись сразу же за порогом ресторана или танцхолла.
Затем он тоже налил себе немного рома и, глядя на его обжигающий лучистый янтарь, пояснил:
– Эта вещь появилась безошибочно точно в своё время. В конце двадцатых, когда в Европе веселились, на неё даже бы не обратили внимание. После войны – то же самое, но только по другой причине. А эта песня из второй половины тридцатых, как никакая другая, оказалась созвучной предчувствию войны. Любовь, потерянная навсегда, потерянная абсолютно без каких-либо надежд на возвращение, утрата в едва ли не самый прекрасный день – ведь по-польски niedziela – это наше воскресенье, – одним словом, весь этот бульон эмоций был тем же самым, что и уходящая в небытие довоенная жизнь. Но просто взять и высказаться об этом – тривиально, ведь так чувствовали в ту пору почти все. Поэтому человек, написавший стихотворный текст, совершил гениальный ход – он вернул эту навсегда потерянную любовь лишь на один короткий воскресный вечер. Живая пришла к уже неживому. Оттого слушать оригинал было больно до нестерпимости – даже если на твоём персональном личном фронте всё обстояло великолепно.
Закончив свой комментарий, Алексей залпом допил ром и отставил бокал на крышку рояля.
– Вот это мозги! Потрясающе! – воскликнул продюсер. От волнения он стал поглаживать сверху вниз подбородок, отчего его узкое лицо с умными серыми глазами, казалось, ещё более вытянулось и стало напоминать иконописный лик. – Нам с вами обязательно нужно поговорить! Но теперь и ежу понятно, что старый номер надо снимать. Имеется ли что-то взамен? Думайте скорее, у нас всего десять минут, я должен уезжать!
– Не надо ничего снимать, – неожиданно возразил Алексей. – Просто надо спеть перевод с польского.
– Ну как же это – «не надо»? Не снимать? Зачем же рвать сердца ветеранам? Вдруг кто-то из них действительно перенесёт себя в прошлое и ему станет плохо прямо в зале?
– Никому не станет плохо, поверьте мне. Всё, о чём я только что рассказал – больше никогда возвратится. Если этим людям посчастливилось пережить войну, то, значит, они – живые, разве не так?
– Разумеется, но только что из того?
– А из этого следует то, что гениальная уловка того поэта… его звали, кажется, Луи Фокс, – сегодня не сработает. Живая придёт к живому, у которого в сердце всегда отыщется надежда, и всё будет хорошо.
– Так уж и всё?
– Да. Старики вспомнят свою довоенную молодость и улыбнутся. И даже если эта улыбка окажется грустной, убить она уже никого не сможет.
– Ну и ну, – покачал головой Петрович.
– Думаешь, что так? – бросил Штурман Борису.
– Думаю, что можно попробовать. А русский перевод оригинального текста имеется?
– Надо поискать, – ответил Алексей и удалился в комнату.
Спустя несколько минут он вышел с листом бумаги и протянул его Штурману. Тот быстро пробежал текст глазами и заключил коротко:
– О'кей. Играем «Утомлённое…», то есть – как его? «Последняя неделя», «Последнее воскресенье». Короче, играем оригинальный вариант на два припева. Я уехал. Жду не позднее семи, скажите охране, что идёте ко мне, вас проведут.
* * *
Когда закончили репетировать «Последнюю неделю», Мария поинтересовалась у Алексея, в чём состоит причина его интереса к польской музыке – не жил ли он там перед войной и нет ли у него польских корней. Алексей в ответ покачал головой.
– Это музыка – польская только по месту рождения, а по сути она – наша.
– Как же так?
– Очень просто. Несмотря на политическую трескотню и убийственный национализм, довоенная Польша, равно как и Прибалтика, долгое время оставались продолжением России. Причём если у нас революция весьма многое поломала и изменила, а белая эмиграция, как ни пыжилась, в европейских столицах была обречена ютиться на задворках, то в довоенной Польше наш «серебряный век» не прерывался и оставил после себя много удивительного. Он был лишён страстности нашего красного пожара, но зато пожары человеческих страстей распалять умел по-настоящему. Когда-нибудь историки это оценят.