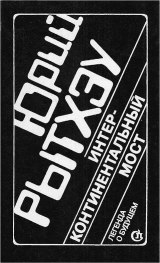
Текст книги "Интерконтинентальный мост"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Метелица уже сделал движение, чтобы заняться едой, но как будто что-то вспомнил:
– А насчет решения социальных проблем для наших северян, дорогой мистер Дуглас, то начало этому мы положили еще в тысяча девятьсот семнадцатом году, И вы это прекрасно знаете. Уэленцы, как и все другие жители Чукотки, верят в то, что мост еще теснее укрепит дружбу между жителями Берингова пролива!
Громче всех аплодировал Адам Майна. Он пришел позже и, несмотря на настойчивые приглашения, отказался занять место среди почетных гостей. Он сел за другой стол, где вместо тарелок и столовых приборов стояло длинное деревянное блюдо, лежали остро отточенные охотничьи ножи.
Свадебное торжество началось в небольшой церкви из сборного железобетона (подарок библейского общества новому эскимосскому поселению). Затём свадебная процессия направилась на берег, где на воде качался вельбот. На носу его, на особой подставке, в каменной плошке горел смоченный моржовым жиром мох. Бледное пламя дрожало – льды толкали лодку. В старинном обряде чувствовалось нечто уходящее в сумерки прошедших веков.
Со школьного крыльца доносилось тихое песнопение.
Ник Омиак и Джеймс Мылрок несли длинное деревянное ритуальное блюдо с кусками вареного тюленьего мяса. Водрузив блюдо на вельбот, они помогли молодым взойти на лодку и оттолкнули ее от берега. Лодка медленно поплыла меж льдин, повинуясь прибрежному морскому течению.
Мылрок шептал заклинания, удивительный набор слов, смысл которых даже ему был не совсем понятен. Он только знал, что эти слова непременно надо сказать, произнести именно в такой обстановке, чтобы укрепиться в мысли, что все будет хорошо, что впереди у молодых счастливая, мирная и долгая жизнь. Он хорошо знал своего сына, а Френсис была ему как родная дочь. Но именно знание их характеров, привычек, направления мыслей заставляло его сомневаться, что все будет хорошо, так, как хотелось, как желалось в древних словах заклинания.
В свете мерцающего жирника отцы опустили меж льдов жертвенное блюдо, дав ему возможность плыть так, как укажет морское течение. Потом взялись за весла и подгребли снова к берегу.
Далее церемония продолжалась в мэрии, где Ник Омиак закрепил брак Перси Мылрока-младшего и Френсис Омиак согласно законам штата Аляска.
И уже после всего этого гости и хозяева направились в спортивный зал школы, где были накрыты столы.
Всю церемонию Френсис провела как во сне, иногда как бы пробуждаясь, стряхивая с себя состояние полузабытья… И тогда она приходила в себя, начинала осознавать, что это вовсе не сон, а начало совсем другой жизни, конец грезам и смутным мечтаниям. И становилось так страшно и горько, что она заставляла себя снова думать, что все это сон и рано или поздно она пробудится и возвратится в привычную жизнь, в настоящее, которое было полно ожиданий, неразрешимых загадок и надежд…
Перси чувствовал настроение Френсис, ее отчуждение, но приписывал это обычному волнению молодой девушки, выходящей замуж. Раз она исполнила священный танец, возврата назад уже нет, и, успокаивая себя этим, он тем не менее тревожился, и предчувствие беды сопровождало его на всем протяжении долгих церемоний, жертвоприношений и свадебного приема, который грозил затянуться до утра.
Но где-то около полуночи Джеймс Мылрок встал и объявил, что молодые могут отправляться в постоянное свое жилище – в дом мужа.
Френсис и Перси встали, и им пришлось пройти сквозь толпу восторженно поздравляющих гостей и земляков, прежде чем выйти на волю.
Поднявшийся с моря ветер с ледяной крупой ударил в лицо, заставил отвернуться.
И снова к Френсис вернулось сознание того, что все случившееся – явь и она никогда не пробудится к другой жизни, оставаясь до конца дней своих женой Перси Мылрока-младшего. Студеный ветер так прояснил сознание, что она заплакала, стараясь скрыть слезы от Перси.
Он-то в чем виноват? Лишь в том, что любил ее всю жизнь, с того самого мгновения, как понял, что она не просто товарищ по детским играм, не просто надежный друг, а нечто большее, судьбой предназначенное на всю жизнь, и так было всегда до того самого мгновения, пока не пришла весть о строительстве Интерконтинентального моста, когда затеяли книгу, до появления Петра-Амаи…
Тогда Перси и заметил впервые, что Френсис совсем другая, часто далекая от той, к которой он привык. Ну что же, это только прибавило страсти Перси, затаенного желания открыть все загадки юной души и сделать эти открытия частью своей жизни.
Молодые шли, подгоняемые ветром, вдоль новеньких, сверкающих широкими окнами домиков Кинг-Айленда. Окон и света было так много, что пробитая в снегу дорога освещалась, как в большом городе.
Джеймс Мылрок построил большой дом. Он сам выбрал проект, держа в памяти просторное и удобное жилище Ивана Теина в Уэлене.
Осторожно придерживая ее за локоть, Перси провел Френсис в свою половину дома, состоявшую из комнаты-гостиной, обставленной примерно так же, как и общая комната, рабочей комнаты и спальни, к которой примыкала ванная.
Френсис высвободила локоть и прошла прямо в ванную, оставив Перси в спальне.
Она зажгла свет и поглядела в зеркало. Она увидела утомленное, заплаканное лицо, и к ней снова вернулось ощущение нереальности и призрачности происходящего. Впрочем, это всегда случалось с ней, когда она подолгу смотрела на свое отражение. В какое-то мгновение возникало странное, почти жуткое ощущение отъединения от самой себя, ухода от действительности в Зазеркалье, в другой мир. Но теперь хотелось лишь возвращения в прошлое, в состояние беззаботной юности.
Первым со свадебного пира засобирался домой Ник Омиак.
Весь этот день он был не в себе от горького сознания утраты своей дочери. Умом понимал, что это рано или поздно должно случиться. Но так вдруг, неожиданно. Для него Френсис по-прежнему оставалась маленькой девочкой, нежной радостью, светлым лучиком в туманной погоде Берингова пролива. А теперь она ушла из родительского дома навсегда.
Ник останавливался, посматривал в сторону моря, непривычно чужого, пустого. Там, в Иналике, даже в ненастье, в густой туман, чувствовалось присутствие острова Большой Диомид, и ветер приносил его запах, его тепло.
А здесь – голо и пусто, горизонт далек и недостижим, и оттуда мчится вольный ветер, несущий твердую солоноватую крупу.
Почему-то в спальне Френсис горел свет.
Сердце тревожно сжалось, и Ник Омиак шагнул в дом, тщательно прикрыв за собой наружную дверь.
Он направился прямо в комнату дочери, надеясь, что Френсис в свадебной суматохе забыла выключить свет.
Но в комнате была сама Френсис.
Одетая, она лежала на кровати, отвернувшись к стене.
– Френсис, что случилось? – встревоженно спросил отец.
В ответ было глубокое молчание.
Ник Омиак присел на край постели.
– Тебя обидели?
– Нет, меня никто не обидел, – ответила Френсис.
– Тогда что же случилось? – недоумевал Ник Омиак.
– Я решила вернуться домой, – тихо промолвила Френсис.
– Но почему? – продолжал недоумевать отец.
– Не могу я там быть.
– Почему?
– Не могу.
– Но ты умная девочка. Я понимаю тебя: трудно уйти из родного дома, но это когда-то должно случиться. Я помню, как ты исполняла ритуальный «Танец Предназначения». Перси тебя любит.
В ответ Френсис лишь глубоко вздохнула.
– Ну давай, вставай, умывайся, и я тебя провожу к Перси, – ласково предложил Ник Омиак.
– Ни за что! – неожиданно воскликнула Френсис. – Ни за что не вернусь к Перси!
– Я ничего не понимаю, – сокрушенно произнес Ник Омиак. – Ну тогда хотя бы объясни толком, что же все-таки случилось?
– Это невозможно объяснить, – тихим голосом ответила Френсис.
– А я настаиваю, чтобы ты объяснила!
Ник Омиак чувствовал в себе нарастающий гнев, но старался сдержать его.
Френсис молчала.
Тогда Ник Омиак решительно взял ее за плечо и с силой повернул к себе.
– Я не хочу! Я не хочу за него замуж! – заплакала Френсис. – Не могу!
– Но ты уже его жена! По всем законам: нашим древним, перед богом и законом штата Аляска – ты жена Перси Мылрока-младшего! – закричал Ник Омиак. – И я требую как твой отец, чтобы ты вернулась к своему законному мужу!
Всю эту сцену молча наблюдала жена Омиака, сочувствуя и дочери, и мужу одновременно.
– Может быть, все это из-за Петра-Амаи? – подала она робкий голос.
Слышал что-то об этом Ник Омиак, но мало ли какие увлечения могут быть у молодой девушки? Разве ей не хочется, пока она свободна, погулять, пообщаться с другими молодыми людьми, даже поиграть в любовь? Это все так естественно, согласно природе человека… Но неужели у нее так серьезно с этим советским парнем?
– Да ты знаешь, что это невозможно! – убежденно заговорил Ник Омиак. – Ты не сможешь даже выйти за него замуж! У них совсем другая мораль и другие законы. Неужели ты сама добровольно захочешь в совхоз? Это же все равно что самому, безо всякого принуждения отправиться в тюрьму. Ты потеряешь не только свою родину, но и свободу. Ты будешь жить по пятилетним планам до самой своей смерти, и каждый шаг твой на каждые пять лет будет рассчитан и размечен Госпланом! Тебе не разрешат посещать церковь, слушать музыку, какую хочешь, читать книги и смотреть телепередачи… Ты просто с ума сошла! Немедленно вернись к Перси! Я требую этого как твой отец!
– Все, что ты сказал, – вдруг заговорила Френсис, – это неправда! Я была в Уэлене и никакого Госплана там не видела. Я ночевала в древней яранге, в меховом пологе, и это было – так прекрасно!
– Ну вот! Соблазнилась пологом! – усмехнулся Ник Омиак. – Да если ты хочешь, я тебе здесь, прямо на берегу, вырою старую землянку-нынлю, заполню ее полусгнившим моржовым жиром, и наслаждайся запахом древности, сколько тебе влезет!.. Давай вставай! Пошли к Перси!
Он решительно взял за руку дочь и потянул к себе.
Но Френсис вырвала руку и снова отвернулась к стене.
– Никуда я не пойду.
Ник Омиак в отчаянии посмотрел на жену.
Та лишь пожала плечами.
– Ты меня опозорила, Френсис, – снова заговорил Ник Омиак. – Ты губишь мою карьеру. Из-за всего случившегося меня больше не выберут мэром. Неужто это тебе так безразлично?
– Но я не могу! Не могу! – Френсис повернула заплаканное лицо к отцу. – До самого последнего мгновения я надеялась, что пересилю себя, забуду все, начну заново жить, – но не могу! Сил у меня нет на это. Если хотите, я лучше умру…
– Что ты говоришь! – в ужасе воскликнула мать. – Френсис, подумай о том, что ты сказала!
– Она больна! – вдруг сказал Ник Омиак. – Она точно больна. Нормальный человек этого не сделает и не совершит того, что ты совершила, Френсис. Завтра же вызовем из Нома врача!
– Никакого врача не надо! – сказала Френсис. – Я просто не люблю Перси!
– А твой танец?! – закричал в отчаянии Ник Омиак.
– Я была как во сне, – сказала Френсис. – И проснулась лишь тогда, когда вошла в дом Мылрока.
– Вот что! – Ник Омиак решительно поднялся. – Вставай! Я тебя силой отведу в дом Мылрока, ибо, повторяю, ты принадлежишь той семье по закону. Пусть они там разбираются! Пошли!
На этот раз он сильным рывком поднял с постели Френсис и потащил ее за собой, упирающуюся, плачущую навзрыд.
Утро уже занималось широкой, бледной полосой зари.
С береговой площадки улетали вертостаты. Сквозь снег было видно, как они поднимались и расходились в разные стороны: одни улетали на запад, в сторону советского берега, другие – на Американский материк.
Но все маленькое селение еще спало, и никто не видел, как Ник Омиак силон тащил свою дочь в дом Мылрока.
Глава десятая
Петр-Амая шел со стороны мыса Дежнева, с кромки твердого припая, тянущегося от берега как раз в том месте, где начинался створ Берингова пролива. Он знал, что на южной, тихоокеанской стороне пролива твердый лед не держался, ежедневно разрушаемый многочисленными ледокольными грузовыми судами, безостановочно подвозящими материалы на стройку – на Большой и Малый Диомид. Тем же курсом следовали грузовые дирижабли, вертостаты и другая летающая техника, часто поразительная по своему внешнему виду, заставляющая вспоминать давние, появившиеся в начале космической эры предположения об инопланетных пришельцах на летающих тарелках.
Но северный створ пролива оставался в привычной для него тишине и спокойствии, и даже ледовая кромка была такой же твердой и надежной, как это было испокон веков. После трагической гибели Глеба Метелицы работы, связанные с взрывами, строго контролировались и производились с величайшей осторожностью.
Петр-Амая шагал между торосов, держа направление на скалу Ченлюквин. Скала сливалась с темным высоким берегом, исполосованным снегом и замерзшими потоками. Над берегом синело небо, и вдали угадывалось солнце, еще зимнее, далекое, прячущееся за южными отрогами хребта.
Плетеные лыжи-снегоступы хорошо держали охотника на нетвердом насте. На длинном ремне сзади волочилась убитая нерпа. Она скользила по снегу, и Петр-Амая шел легко, вдыхая холодный, освежающий воздух и с нетерпением думая о возвращении к своей работе.
Книга разрасталась, расширялась, и уже шла речь о том, чтобы делать не одну книгу, а несколько, чтобы уложить в них весь собранный, угрожающе растущий материал. Работа доставляла громадное удовольствие. Надо было не только собирать и систематизировать материал, но и погружаться в прошлое, читать массу старых изданий, журналов, газет, чтобы осмыслить настоящее.
Петр-Амая вошел в тень скал и вдоль берега, по ясно видимой тропе, пробитой в твердом снегу машинами, направился в сторону Уэлена.
Он шел не спеша, наслаждаясь ощущением физических усилий, воздухом, окружающим пейзажем. Отсюда, с этого берега, мост не будет виден, и суровые очертания этой части побережья Чукотского моря останутся такими же, какими они были всегда. И то, что будет видеть охотник, возвращающийся с моря, будет точно таким же, каким оно виделось отдаленнейшему предку, впервые вышедшему на охоту у берегов Берингова пролива.
На горизонте замаячили ветродвигательные энергетические установки, а чуть ближе – сферические антенны связи, информационных каналов и разных навигационных служб.
Яранг еще не было видно. Они стояли на низкой галечной косе, накрытые снегом, и лишь вблизи можно было увидеть два ряда уходящих вдаль крыш из моржовой кожи, переплетенных толстыми ремнями.
Когда Петр-Амая вышел из-под скал, на его лицо брызнул слабый солнечный луч уже уходящего за горизонт зимнего красного солнца. Он недолго ласкал остуженную кожу, угас, и все вокруг погрузилось в густую синеву наступающего долгого зимнего вечера.
Нерпа оставляла на снегу гладкий след.
Петр-Амая вышел к своей яранге, отцепил нерпу, вошел в чоттагин[4]4
Чоттагин (чук.) – холодная часть яранги.
[Закрыть] и снял с себя охотничье снаряжение. В жилище было холодно, меховая занавесь полога высоко поднята, постели из оленьих шкур свернуты… Мало кто отваживался ночевать в яранге зимой: ведь прежде надо нагреть полог, выветрить запах нежилья и зимней стужи. Снимая с себя охотничью камлейку, кухлянку, нерпичьи торбаза, Петр-Амая с грустью вспоминал, как в пологе ночевала Френсис.
Переодевшись, Петр-Амая приторочил к снегоходу нерпу и помчался через лагуну к большим домам Уэлена… Видимо, мать увидела его издали. Она вышла с ковшиком воды и проделала древний обряд, прежде чем внести добычу в жилище, – облила голову нерпы водой, а остаток дала выпить охотнику.
Растянувшись в кресле в своей комнате, Петр-Амая включил музыку. Это была короткая симфония Моцарта «Кавалер», которую впервые услышал в старинном белом концертном зале в Ленинграде. Кто-то сказал о музыке, что это воспоминание о чувствах. Как верно сказано! Однако вспоминаются не только чувства, но и с необыкновенной яркостью в памяти вспыхивают обстоятельства, сопутствовавшие этим чувствам, места, разговоры, голоса и даже запахи… Но теперь Петр-Амая вспоминал чувства, которые сопровождали его на сегодняшней охоте, с того самого момента, когда он, облаченный в охотничью одежду, вышел из яранги и, пройдя с полкилометра, спустился на лед и пошел на северо-запад, туда, где на морозе парили широкие разводья.
Мать разделывала нерпу на кухне.
Приоткрылась дверь, и Петр-Амая увидел отца.
– Как в море?
– Сильное течение, – ответил Петр-Амая. – Лед несет, как на весенней реке. Едва нашел место. Ветер небольшой, а в створе пролива его почти и не чувствуется.
– Много нерпы?
– Не так много. За все время – три. Две далеко от моего берега, не стал даже целиться.
Кивнув на заваленный книгами и рукописями стол, отец спросил:
– Как с первой частью?
– Чем ближе к нашему времени, тем занятнее, – ответил Петр-Амая. – Две недели перечитывал старые газеты и журналы. Просто поразительно! Удивительное все-таки было время!
– Что ты имеешь в виду?
– Ну… Понимаешь, такое, как бы тебе сказать… Нет, не неуверенность… тревога, колоссальная опасность ядерного конфликта. Ведь чуть что – и от нашей планеты остался бы лишь обугленный радиоактивный шарик. И вот тогда в наших газетах – спокойный уверенный тон, терпение, непоколебимая вера в разум человеческий. В этих условиях наша страна, наша партия работали на будущее… Удивительно!
– Именно спокойствие и реализм нашей политики удержали кое-кого от провокаций, – заметил Иван Теин.
– И еще одно поразительно: тогда как бы писали обо всем. О плохих строителях, о любви, тосковали об уходящей деревне, а вот о грядущей катастрофе – почти ничего. И это в то время, когда в Америке и в других западных странах десятками выходили книги и фильмы о будущих войнах то на Аляске, то где-то еще… Излюбленным полем боя был космос… Звездные войны и разные там суперлетяги… Но более всего – якобы уцелевшие после ядерной войны остатки человечества, начинающие заново жить… Знаешь, отец, мне порой кажется, что это была какая-то психическая эпидемия.
Иван Теин слушал с легкой усмешкой.
– Никакая это не эпидемия, хоть и похоже, – сказал он спокойно. – Вот что я тебе скажу: удивляться, конечно, твое право. Но пойми одно: человечество еще так молодо и так неопытно на Земле, что, конечно, есть множество вещей и нерешенных проблем и в наше время… А в то время их было гораздо больше. Вот, казалось бы простые вещи, над которыми бились все люди, общества, расы и народы: мирная жизнь и справедливая доля человека в распределении жизненных благ. Эти проблемы возникли почти одновременно с осознанием человеком себя как человека. Может быть, мысли именно об этом и сделали его, наряду с трудом, настоящим хомо сапиенс. Но прошли тысячелетия, а этих целей человечество не достигло. И не потому, что человек сам по себе плох, неумен, вообще мало приспособлен к жизни или, как всерьез еще в прошлом веке утверждали буржуазные ученые, мы – вообще ошибка эволюции… А все дело в том, что человечество только начинает жить, находится, быть может, еще только на самой ранней ступени своей молодости. Ведь когда появился научный коммунизм? А первое социалистическое государство? Было бы вообще прекрасно, если бы восхождение человечества к своему идеалу было прямым. Но так, к сожалению, в природе не получилось. И все же мы движемся к идеалу – и чем дальше, тем труднее и сложнее. Ведь без всего этого – зачем человек! Зачем разум? Зачем красота и разума, и человека?
Иван Теин помолчал и продолжал:
– Не забывай, что и полувека не прошло с той поры, когда не только человечество, а вообще вся жизнь на Земле могла быть уничтожена, испепелена не один раз! И находились люди, которые считали более или менее нормальным такое положение в мире, утверждая, что чем больше оружия, тем меньше возможности пустить это оружие в ход.
– Это все же был бред, – сказал Петр-Амая. – Сумасшествие.
– А все-таки человечество вышло из состояния этого сумасшествия. И главная заслуга в этом принадлежит нашей партии коммунистов и Советскому правительству.
В полуоткрытую дверь из кухни уже доносился запах свежей нерпятины, сдобренной ароматными тундровыми травами, собранными загодя поздней осенью.
– Я пригласил на обед Сергея Ивановича, – сказал Иван Теин. – Он должен сейчас подлететь.
Метелица стал частым гостем в доме Ивана Теина. Бывало, что и оставался ночевать, а рано утром улетал на своем вертостате на мыс Дежнева.
Обычно машина садилась на южном берегу лагуны, как раз напротив дома, и сейчас в широкое окно хорошо было видно, как в сгустившихся сумерках ярко мигали сигнальные огоньки вертостата. Они затуманились поднятым винтами снегом, затем снова ярко вспыхнули; это означало, что винты остановились.
Иван Теин встретил гостя, провел в гостиную.
Поздоровавшись, Метелица сразу же заговорил, видно, еще не остывший от недавней встречи.
– Только что с того берега. Пришлось серьезно потолковать с мистером Хью Дугласом и с некоторыми высокопоставленными чиновниками из Вашингтона. Ведь экономический смысл строительства Интерконтинентального моста заключается в том, чтобы пустить через него транспортное движение. Между прочим, когда мы строили БАМ до станции Дежнево, уже существовало предположение о том, что когда-нибудь будет либо построен мост, либо прорыт туннель. А вот наши соседи об этом не подумали. Железная дорога у них доходит лишь до Фербенкса. Да и то, как оказалось, колея в плачевном состоянии. Мы ведь строим не просто символ, не бесполезный памятник техники, а реально действующий транспортный мост. Много ли найдется охотников кататься на машине из Азии и Европы через Берингов пролив в Америку? Пришлось расшевелить американцев. Обещали дотянуть дорогу до Уэльса… Дай им волю, они бы вообще ограничились символическим соединением острова Большой Диомид с Малым Диомидом…
Петр-Амая засмеялся.
– Я только что читал о таких вещах, – объяснил он причину неожиданного своего смеха. – Это называлось – даже такое слово существовало, я нашел его в словаре с пометкой «устаревшее» – «показуха».
– Как? Как вы сказали? Показуха? – Метелица расхохотался. – Точнее не придумаешь слова!.. А как дела с книгой? Нужна помощь – обращайтесь, не стесняйтесь. Нужны еще помощники, средства – не ограничивайтесь. Дело стоит этого.
– Иногда мне кажется, – задумчиво сказал Петр-Амая, – вместо тех двух-трех томов, которые мы собираемся выпустить, написал бы кто-нибудь поэму или роман…
Иван Теин сделал вид, что не понял намека, и сказал:
– Пока Петр-Амая ищет исторические подступы. Знакомясь с прошлым, удивляется, что еще совсем недавно в нашем обществе приходилось бороться с нечестными людьми, терпеть неумелых работников, обманщиков, жуликов…
– Не совсем так, – возразил Петр-Амая. – Может быть, и сейчас кое-где можно найти не очень честных людей… Меня удивило, что литература, уже к тому времени такая мощная, многонациональная, так много внимания уделяла этим темам.
Метелица слушал и улыбался. Он еще помнил фильмы, которые смотрел в детстве. Суждения Петра-Амаи во многом напоминали суждения Глеба, заставляя снова и снова болеть сердце о невозвратимом…
Тем временем Ума накрыла на стол, поставила длинное деревянное блюдо с вареным нерпичьим мясом. Она знала, что гость любит именно такую сервировку, тот способ еды, который исстари существовал на Чукотке. Вокруг блюда поставила чашки с бульоном.
– Да, кстати, я видел в Номе Френсис Омиак, – вдруг сказал Метелица. – Спросил ее о семейной жизни и понял, что задел больное… Она чуть не заплакала и пробормотала, что ее семейная жизнь – это ее личное дело. Видимо, что-то неладно у нее там.
Иван Теин улыбнулся:
– Бывает… Вон Петр-Амая у нас разведенный.
– А-а, – протянул Метелица. – Интересно, раньше у чукчей и эскимосов бывали разводы?
– Конечно, бывали, – ответил Иван Теин. – Может быть, не так много, как у других народов, но бывали. Чаще всего как раз по самой уважительной причине – из-за отсутствия любви. Причин имущественных не существовало. Ну, случались измены, обиды. Так что все как у других людей.
– Странно, – пробормотал Метелица.
– Да ничего странного, – продолжал Иван Теин. – Жизнь есть жизнь. Повсюду… Вот вчера двое уэленских охотников ушли работать на строительство моста.
– Да, я знаю, – кивнул Метелица. – Ну что же, ребята они молодые, пусть попробуют. Стройка ведь не на всю жизнь: закончится, и вернутся они снова к исконному делу своих предков.
Семен Аникай и Михаил Туккай закончили Магаданский политехнический институт. Первый по специальности «Чистые природные источники энергии», а второй – «Консервация продуктов морского зверобойного промысла». Получение высшего образования даже с таким определенным уклоном вовсе не означало, что они непременно должны работать в той отрасли, по которой специализировались. В середине двадцать первого века высшее образование в Советском Союзе хотя и не было обязательным, но каждый стремился к нему. Причем большинство получало дипломы об окончании университетов и институтов, уже имея работу и специальность, полученные в средней школе. Основную массу студентов, постоянно посещающих занятия, составляли люди, по-настоящему увлеченные наукой и готовящие себя к исследовательской, теоретической работе. Многие же получали высшее образование по системе телевизионного обучения, широкой сетью охватившей всю страну.
Для уэленцев наличие высшего образования не играло особой роли в их основной работе – охоте на морского зверя. Это не значит, что среди уэленцев не было людей, занятых на работах, непосредственно не связанных с морским промыслом, таких было довольно много. Но вместе с тем считалось, что занятие исконным делом – это высшее качество жизни, удел, достойный настоящего человека.
Часто бывало так, что молодой человек в поисках настоящего дела уезжал куда-нибудь, устраивался на работу, но, как правило, неизменно возвращался в родной Уэлен. Лишь единицы уэленцев жили в больших городах – в Магадане, Анадыре, да и то избранные в областной Совет и другие выборные органы.
И все же уход на мост Аникая и Туккая Иван Теин воспринял без особой радости. За каждым таким уходом ему чудилось если не предательство, то временная измена.
Свои же социологи-прогнозисты и сам Петр-Амая утверждали, что морскому зверобойному промыслу, искусственно поддерживаемому в традиционном виде, со временем придется уступить другому способу ведения хозяйства. Такие же прогнозы существовали и для оленеводства, хотя там это было несколько сложнее: олень оставался таким же, каким был тысячелетия назад, разве только стал намного крупнее в результате селекционной и племенной работы. Он оставался вольным тундровым животным, не терпевшим над собой мелочной опеки и близкого присутствия человека.
Время от времени тревога за будущее охватывала Ивана Теина, и он подозревал, что такая же тревога смутно таилась в душе многих.
После ужина пошли пить чай к знаменитому художнику-косторезу Александру Сейвутегину, прямому потомку Ивана Сейвутегина, чукотского художника, прославившегося во второй половине прошлого века.
Александр Сейвутегин жил на краю нового Уэлена, и его мастерская нависала на железобетонных сваях над замерзшей лагуной.
Художник встретил гостей на пороге мастерской, представляющей собой довольно просторную комнату, три стены которой – окна. Когда гости уселись за чайным столом. Метелица заметил:
– Такое впечатление, будто летишь.
– Мне тоже иногда это кажется, – улыбнулся художник.
Он отошел к двери и включил освещение. Стена, где была входная дверь, сплошь была в черных стеклянных полках, затененных черным бархатом. На них располагались изделия из белой моржовой кости, слегка пожелтевшей старинной и совсем темной, видимо, ископаемой или мамонтовой.
Метелица подошел к ним.
– Это все ваши произведения? – с изумлением спросил он.
– Нет, здесь моих немного, – ответил Сейвутегин. – Эту коллекцию начал собирать еще мой дед Иван. Вот видите эти гарпунные наконечники? Говорят, что еще в бытность деда их просто выкапывали недалеко от старого Уэлена, на южном берегу ручья.
Моржовая кость, особенно старая, как бы светилась изнутри теплым сиянием, отблеском древнего светильника – ээк.
– Чукотско-эскимосская резьба по кости началась давным-давно, – рассказывал Александр Сейвутегин. – Посмотрите, даже на этом гарпунном наконечнике нанесен орнамент.
Он вынул из-за стеклянной перегородки наконечник и подал Метелице.
И вправду, изделие древнего мастера поражало законченностью форм и удивительно нежным орнаментом, нанесенным на гладко отполированные плоскости.
– Поразительно! – произнес Метелица.
– А затем люди, видимо, начали искать способ запечатлеть не просто орнамент, линии, а нечто реальное, настоящее, окружающую жизнь и память о прошлом. Собственно, с этого и начинается любое искусство: с попыток отобразить реальность. Вы, наверное, хорошо знаете, что в прошлом веке в искусстве было много попыток уйти от реальной жизни, найти художественные направления, якобы выражающие лишь чистые эстетические ценности. Но ничего не получилось, ибо, как можете видеть даже по моей скромной коллекции, искусство начинается с отображения реальной жизни, выражения реальных человеческих чувств и движений души…
За стеклом лежали огромные моржовые бивни с нанесенным на них рисунком.
Художник достал один из них.
– На этом бивне, разрисованном одним из первых советских художников Онно, изображена древняя чукотская легенда о происхождении Берингова пролива.
– Да, да! – оживился Метелица. – Я слышал эту легенду… Какое мастерство, какая выразительность и лаконизм!
– Это как бы отдельные кадры легенды или события, то ли созданного воображением сочинителя или же в действительности случившегося. По такому принципу работали впоследствии многие знаменитые уэленские художники – Эмкуль, Тынатваль, Емрыкаин… А вот это узнаете?
Бивень был расписан с двух сторон.
– Это Уэлен конца семидесятых годов прошлого века. Видите, какие уродливые дома? А вот эти сооружения, тянущиеся по всему селению, – это так называемые короба. В них были заключены трубы отопления. Тепло добывали примитивно: жгли уголь в котельной, и оттуда горячая вода по трубам, спрятанным вот в такие короба, расходилась по домам. А вот это старая мастерская. Тогда не было индивидуальных мастерских. Все работали вместе, часто мешали друг другу… А вот на другой стороне. Видите?
– Это старый Уэлен! – воскликнул Метелица. – Вон яранга Ивана Теина!
– Верно! – улыбнулся Александр Сейвутегин. – Только здесь изображен не старый сегодняшний Уэлен, а самый что ни на есть старый Уэлен тысяча девятьсот двадцать шестого года. Писатель Евгений Таю привез из Нома фотографию, а наша художница Таня Печетегина изобразила на одном бивне и старый и новый Уэлен.
Осмотр коллекции занял часа полтора, и Метелица с удовольствием слушал объяснения художника.
– Очень интересно, – сказал Метелица. – А вот молодежь знает обо всем этом?







