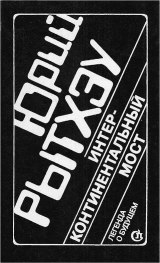
Текст книги "Интерконтинентальный мост"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Перси хмуро поздоровался, и в его взгляде Петр-Амая вдруг заметил что-то новое.
Перси занялся бубном, а Петр-Амая уселся напротив и принялся наблюдать за ним. Длинные волосы парня упали на лоб, мокрая кожа слегка поскрипывала в его сильных руках, непослушно, неподатливо занимая место под тугим ремнем. Работа достигла такой стадии, когда отвлекаться нельзя было даже на секунду, нельзя ослаблять пальцы, сдерживающие выползающую из-под ремня упругую кожу. Но вот Перси захватил последний лоскут, просунул его под сдерживающий ремень, затянул его и, облегченно вздохнув, поднял разгоряченное, с бисеринками пота на крыльях носа, лицо и улыбнулся.
И снова Петр-Амая заметил в этой улыбке что-то новое, неуловимое, отчего ему стало неприятно.
Перси несколько раз повернул бубен, щелкнул пальцем по его поверхности, и новый сягуяк[2]2
Сягуяк (эск.) – бубен.
[Закрыть] отозвался очень глухо, словно сердясь за насилие над собой.
– Ничего, к вечеру высохнешь и будешь греметь так, что слышно будет в Номе, – сказал Перси и ушел мыть руки.
Возвратился он уже как будто другим, и Петр-Амая не увидел ничего такого особенного в выражении его лица: просто человек работал. Петр-Амая хорошо знал, как трудно и мучительно натягивать новую кожу на ярар[3]3
Ярар (чук.) – бубен.
[Закрыть].
– Ну, как вам показалось новое селение? – спросил Перси.
– Такое впечатление, что Иналик целиком перенесли сюда, – ответил Петр-Амая.
– Таково было пожелание стариков, – небрежно усмехнулся Перси. – Но если уж начинать новую жизнь, надо было все делать не так. Зачем снова селиться на крутом берегу? На острове есть отличное место. Так нет, выбрали самое крутое и неудобное. Мне иногда кажется, что старые люди возвращаются в детство. Свидетельством этому их упрямство и непоследовательность в поступках. Как вы думаете?
– Мне трудно судить со стороны, – подумав, ответил Петр-Амая. – Правда, наш народ пережил нечто похожее, когда Наукан переселили в Нунямо. Я читал об этом в старой книге. Сначала люди даже радовались, держались друг за друга, пытались сохранить и образ жизни, и связи, и язык… Но это было трудно в чуждом языковом окружении. Ведь Нунямо-то было чукотским селением. Потом люди разбрелись по другим местам. Многие уехали в Уэлен. Здесь жили родственники – уэленские парни обычно брали жен в старом Наукане…
– Когда же это было? – спросил Перси.
– Около ста лет назад.
– Но ведь это уже при социализме! – удивился Перси.
– Ну и что? – пожал плечами Петр-Амая. – И при социализме люди ошибались.
– Да я не об этом, – Перси замялся. – Разве тогда брали жен в других селениях?
– А почему нет? – удивился в свою очередь Петр-Амая.
Распахнулась дверь, и показался Джеймс Мылрок:
– Молодые люди, к нам пришел гость.
Старый Кристофер Ноблес, щуря выцветшие, но еще определенно голубые глаза, уже пил кофе и громко рассуждал:
– Да мог ли я, молодой человек, не искушенный в международных делах, во многом наивный, можно сказать, до смерти перепуганный участием в непонятном секретном совещании, дожить до той поры, что показавшееся мне утопией вдруг стало реальностью? Это удивительно, друзья! Удивительно! И это полно глубокого смысла! Маленький эскимосский народ вносит свой весомый, можно сказать, видимый всему человечеству вклад в новый климат в отношениях между странами и народами планеты! Вот что впечатляет и удивляет!
Перси и Петр-Амая переглянулись между собой: им, воспитанным в сдержанности, трудно было воспринимать такое бурное проявление чувств.
– Молодые люди! – продолжал Кристофер Ноблес. – Я вам завидую, и в то же время, как бы глядя на себя со стороны, горжусь и самим собой: я был у истоков всего того, что сегодня дает плоды, – истоков мирной жизни Человечества!
Площадка, где должна была состояться песенно-танцевальная церемония по поводу основания нового эскимосского селения, находилась возле школы. Сама школа была прекрасна – небольшое на вид, но очень вместительное здание, полное света и воздуха, как бы плыло над морем, над простором. Со стороны берега оно было поставлено на высокие сваи.
На эту площадку собирались бывшие иналикцы, ставшие жителями Кинг-Айленда. Женщины нарядились в матерчатые балахоны, украшенные простым орнаментом по подолу, рукавам и капюшону. Но яркость расцветок была поразительной! Иногда казалось, не женщина идет, а живой букет цветов. Большинство мужчин было в коротких белых камлейках, надетых на тонкие куртки: на воле уже было прохладно. То и дело прорывались какие-то отрывки бравурных мелодий: это школьный духовой оркестр репетировал на широком крыльце.
Среди зрителей был заметен Адам Майна. Старик был в старом замшевом балахоне из тонко выделанной оленьей кожи, чудом сохранившемся от прошлого.
С материка летели легкие вертостаты и садились на посадочной площадке, увеличивая число гостей.
Мэр селения Ник Омиак в сопровождении членов мэрии поднялся на школьное крыльцо и объявил начало празднества. Школьный оркестр исполнил американский гимн. Детишки промаршировали по крутой тропе на галечный пляж, где уже растягивали полусырую моржовую кожу, готовясь к традиционным прыжкам.
Френсис в легком пыжиковом костюме, плотно облегающем стройное тело, взлетала вверх, переворачивалась под одобрительные возгласы зрителей и тех, кто подбрасывал девушку в воздух. Каждый раз Френсис вставала на ноги, и это считалось высшим достижением в этом древнем упражнении эскимосов.
Несмотря на холод, Джон Аяпан скинул с себя камлейку, теплую куртку и, похлопывая себя широкими сильными ладонями по плечам, груди и животу, стал вызывать соперников на состязание по борьбе. Поначалу охотников не находилось.
– Мне уже холодно! – кричал Джон. – Неужто так и придется одеться? Вы знаете, что по олимпийским правилам неявка засчитывается как поражение. Значит, я всех вас победил! Эй вы, белые! Или вот вы, гость из Уэлена!
Пришлось Петру-Амае скинуть верхнюю одежду и выйти в круг.
– Коммунизм против капитализма! – закричал кто-то. – Мирное спортивное соревнование!
Студентом Петр-Амая увлекался спортивной борьбой, да и в детстве, и в школьные годы прошел суровую школу эскимосского спортивного воспитания у своего отца. Однако и Джон имел свои преимущества. Прежде всего он был морским охотником, человеком, обладающим редкой выносливостью.
Петр-Амая обхватил тело противника, его крутые плечи и с внезапной радостью почувствовал, что Джон рыхл и его мускулы, казавшиеся издали такими внушительными, жидковаты.
Он легко кинул Джона на землю, аккуратно положив его, как требовалось по правилам, на обе лопатки.
– Коммунизм победил! – послышался знакомый голос. – Ну, кто еще?
– Минутку! Подождите!
Это был Перси.
Петр-Амая сразу же почувствовал силу противника, едва только Перси обхватил его за плечи. На этот раз он почти не слышал, что кричали зрители. Он лишь чувствовал силу, которой он должен был сопротивляться, одолевать ее. Горячее дыхание Перси жгло ухо, цепкие его пальцы впивались в кожу, словно стараясь ее разорвать, проникнуть в глубину. Оба противника медленно передвигали ноги, как бы врастая в землю, в скалистую почву.
Чувствовалось, что Перси не очень силен в технике, хотя физически был мощнее, чем Петр-Амая, да и ростом повыше. Прежде чем попытаться швырнуть противника, Перси бесхитростно расслаблялся, чтобы потом напрячься изо всех сил. Этим и воспользовался Петр-Амая и в следующее мгновение увидел расширенные, удивленные глаза Перси, так и не понявшего до конца, как это он оказался на земле, если по своим собственным ощущениям он должен торжествовать победу.
Петр-Амая слышал одобрительные возгласы. Одеваясь, он поймал взгляд Френсис и в ответ улыбнулся ей. Теперь он понял, кто ему помог побороть Перси: в глубине сознания ему прежде всего не хотелось выглядеть поверженным перед этими нежными, полными затаенного тепла глазами.
Зрители и гости снова поднялись к школе. На сцене-крыльце, прислоненные к грубо сбитой деревянной скамейке, предназначенной для певцов, стояли древние бубны-сягуяки. Среди них были старые, может быть, даже столетнего возраста, помнившие еще знаменитых певцов прошлого века чукчу из Уэлена Атыка, эскимоса из Наукана Нутетеина и, конечно, своего земляка, прославленного иналикца – Дуайта Мылрока!
Здесь же лежали танцевальные перчатки: расшитые бисером, украшенные орнаментом из белого оленьего волоса и цветных ниток.
Певцы и танцоры занимали свои места: почти все жители бывшего Иналика – мэр Ник Омиак, и Джон Аяпан, и Перси, и сам Джеймс Мылрок, человек, которого по праву считали преемником его знаменитого деда – Дуайта Мылрока.
Позади мужчин заняли места женщины, чтобы своими высокими голосами смягчить грубость мужского напева. Когда грянули первые звуки и Петр-Амая услышал старые, знакомые с детства популярные напевы, душа у него всколыхнулась, наполнилась необъяснимым чувством тихого торжества. В этих древних напевах он как бы слышал голос веков, смутное воспоминание пережитого предками, но переданное ему вместе с кровью. Этот танец исполняли дети и подростки, как бы подготавливая и настраивая взрослых.
Но сначала были групповые танцы, которые очень понравились зрителям: это сидячие женские танцы, рисующие древние виды труда, иные уже забытые и оставшиеся в пантомиме, в строгих движениях рук.
Время от времени певцы смачивали водой поверхности бубнов, и лишь бубен Перси, покрытый свежей кожей моржового желудка, неустанно и ровно гремел, выделяясь своим особым, присущим только ему тоном. Это был прекрасный инструмент, и Петр-Амая понимал его ценность.
И вот вышел Джеймс Мылрок. Он медленно натягивал перчатки под тихий гул настраивающихся сягуяков, что-то мурлыкал себе под нос, а потом, обращаясь к зрителям, как бы выйдя на минуту из состояния приближающегося танца, объявил, что сейчас он исполнит танец-прощание с Иналиком.
Это был танец-смятение, танец-воспоминание, танец-плач о невозвратном, о том, что невозможно воскресить и потеряно навсегда. Это было горькое сожаление об утраченной утренней радости пробуждения на родном берегу.
Все пели эту песню. Она проникала в душу каждого, исторгалась из самых сокровенных глубин сердца, из камней, из редких пучков жесткой травы, чудом выросшей и пожелтевшей в короткое северное лето, ею был наполнен дующий с севера студеный ветер и крики чаек:
Покидая туман, что покрыл наш любимый остров.
Покидая прах своих предков и ветер родной.
Мы уносим в сердцах свой Иналик, остров родной.
Образ твой, уходящий вдаль от нас.
Мы уходим, Иналик, чтобы сберечь в веках тебя,
Воспоминанием ты будешь жить в сердцах у нас,
Вместе с вечным туманом, зимней пургой и солнечным днем.
Наш Иналик родной, ушедшая наша жизнь.
Ты прости нас, Иналик, что ушли от тебя.
Что оставили, верность твою обманув.
Ты прости нас, Иналик, наша родная земля.
Родина, честь и гордость наша в веках…
Тихо рокотали бубны, лицо исполнителя было обращено вдаль, поверх голов зрителей, мимо их взоров, туда, где за морским простором, за волнами и идущими к югу ледовыми полями, укрытый ласковым туманом, тихо лежал в проливе Иналик.
Этой песне-танцу никто не аплодировал. Унесся последний горестный вскрик, умолкли бубны и голоса поющих, и наступила тишина, в которой слышались лишь крики чаек и тихий прибой холодных волн.
Ничто уже не могло переломить настроения, созданного песней-прощанием. На глазах многих эскимосов блестели слезы, и никто не стыдился их, никто не вытирал их украдкой.
Последним исполнялся ритуальный «Танец Предназначения».
Поначалу Петр-Амая не понял, в чем дело, но когда увидел, как перед зрителями встали Френсис и Перси, кровь бросилась ему в сердце, омыла его и с бешеной скоростью кинулась в голову, заставив его покраснеть до мочек ушей. Это был старинный и полный значения танец. Его исполняют девушка и молодой человек, как бы объявляя о том, что они предназначены друг для друга.
И Перси и Френсис были прекрасны.
Стоящий рядом Кристофер Ноблес не сдержался и довольно громко произнес:
– Какая красивая пара!
Петр-Амая понимал, что ему надо бы уйти отсюда, потому что мучительно видеть это, но, казалось, его ноги приросли к скалам Кинг-Айленда.
А танец продолжался, продолжалась песня, возвещая людям, что жизнь все равно берет свое, продолжается и здесь, на берегах Кинг-Айленда, ибо предназначение человека – быть сеятелем жизни повсюду, где бы он ни появился: на теплой земле, в арктической пустыне, на лунной станции, на покинутом и вновь заселенном острове.
И все же Петр-Амая нашел в себе силы сделать шаг назад, потом другой, и вот он уже спустился на берег, где на тихой волне качалась его лодка.
Два стареньких самолета, тарахтя древними бензиновыми моторами, летели со стороны Нома. Они сделали круг над островом, и показалось, будто пошел снег: но это был не снег, а листовки. Одна из них упала на нос лодки. Петр-Амая выбрал якорь, поднял парус, уселся на корму и взялся за листовку.
Он думал, что это приветствие по поводу празднества. Но на сероватой, дешевой бумаге крупными буквами было напечатано:
«ВОН С НАШЕГО ОСТРОВА! КИНГ-АЙЛЕНДЦЫ НИКОГДА НЕ ПРИМИРЯТСЯ С ТЕМ, ЧТО ИХ ОСТРОВ ОБМАНОМ БЫЛ КУПЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ПЕРЕПРОДАН ВАМ! ВОРЫ! УБИРАЙТЕСЬ НА ВАШ ВОНЮЧИЙ ИНАЛИК!:»
Глава восьмая
Иван Теин ехал впереди на электрическом вездеходе. Пересекли ручей, поднялись на невысокий холм и оттуда уже взяли курс на яранги.
Глебу Метелице отвели место в середине каравана. Сегодня выпал свободный день, и Иван Теин позвал молодого человека на охоту на свежий лед.
Третьим ехал Сергей Гоном, парень примерно одного возраста с Глебом, круглолицый, шутник и балагур, но сдержанный в присутствии Ивана Теина.
Было бы лучше пойти на охоту вдвоем с Глебом, но так уж повелось, что новичка выводил в море сам Иван Теин. Так было когда-то и с Сергеем Гономом, когда он возвратился после учения в Дальневосточном университете и занял пост хозяйственного советника в Уэленском совхозе, проще говоря, экономиста. Работа не из легких, ибо спрос на продукты морского зверобойного промысла из года в год возрастал, а ограничения на добычу оставались жесткими, строго соблюдались рекомендации ученых, определяющих, сколько и какого зверя бить.
Гоном направился к своей яранге, где у него, как и у всякого жителя Уэлена, хранилось охотничье снаряжение.
Теин же дал Глебу Метелице то, что имел для Петра-Амаи.
Когда Глеб оделся в белую камлейку, обул кожаные непромокаемые торбаза, надел нерпичьи рукавицы, закинул за спину эрмэгтэт – с мотком тонкого кожаного ремня, деревянной грушей-закидушкой и еще какими-то неведомыми для него предметами и приспособлениями, взял в руки копье и посох-багор, Иван Теин глянул на него и удивился сходству со своим сыном.
У самого берега Иван Теин остановился и сказал:
– Машины оставим здесь. Лед тонкий, ненадежный. Дальше пойдем на снегоступах.
Глеб взял лыжи-снегоступы, похожие на продолговатые теннисные ракетки, и с помощью Теина прикрепил их к ногам.
Сергей Гоном спускался первым, осторожно ступая по скользкой наледи, намытой осенними штормовыми ветрами. Дальше шла неширокая гряда торосов, за ней простиралась удивительно ровная гладь только что замерзшего моря.
– Через день-два, – сказал Иван Теин, – все это переломает и перекорежит сжатием. Тогда и появятся торосы. Вообще Чукотское море замерзает так лишь в редкие годы. Чаще ледовое поле подходит с севера, и мороз припаивает его к берегу до следующей весны…
Идя чуть впереди Глеба Метелицы, он еще и успевал следить за дорогой, не переставая говорить:
– Раньше для такой охоты использовались санки с полозьями из моржовых бивней. Теперь, конечно, никому не приходит в голову использовать драгоценный бивень для санок. Это все равно что облицевать им опору Интерконтинентального моста. Но времена меняются, меняются и представления о ценности вещей. Тогда охотник становился ногами на санки и с силой отталкивался палками с острыми наконечниками, развивая такую скорость, что нерпа не успевала соскользнуть со льда в лунку…
Глеб внимательно слушал.
Иван Теин достал лазерный бинокль и обозрел поверхность гладкого льда. Нерпы виднелось довольно много. Но трудно подойти к зверю, чутко улавливающему любой незнакомый запах, по малейшему шороху или колебанию льда чующему опасность.
По знаку, поданному Теином, охотники рассредоточились, отошли друг от друга.
Глеб Метелица старался подражать каждому движению старого охотника. Низко пригнувшись, он медленно шагал вперед, к чернеющей на припорошенном снегу точке. В правой руке наготове держал копье, а в левой посох-багор, острым концом которого пробовал прочность льда.
Когда Теин и Гоном отошли, Глеб почувствовал некоторое беспокойство. Ему показалось, что лед слегка прогибается под ним. Воображение нарисовало всю толщу холодной зеленой воды в несколько десятков метров до темного дна, куда не доходит свет скупого зимнего солнца.
Справа шел Гоном, а левее – Теин.
Теперь они целиком поглощены охотой, и Глеб почувствовал себя покинутым.
Вдруг он услышал короткий, полный яростного чувства вскрик и увидел метнувшегося вперед Гонома. Глеб достал бинокль и ясно и Отчетливо увидел, как, перебирая руками ремень, Гоном быстро приближался к нерпе. Животное пыталось уйти в лунку, находящуюся рядом, но безуспешно.
Послышался такой же вскрик слева. Теперь удача посетила Теина.
А впереди, где предполагалась добыча Глеба, уже было пусто: чернел кружок лунки и вокруг нее – мятый снег.
Глеб остановился, отер пот со лба. Белый матерчатый балахон-камлейка непривычно сковывал движения, было жарко и тяжело после часового подкрадывания в полусогнутом состоянии.
Теин приблизился, таща за собой скользящую по льду убитую нерпу.
– Устал?
– Жарко, – вздохнул Глеб.
Подошел Гоном.
– Ну, а теперь будем тебя учить, – сказал Теин. – Ты, видимо, удивляешься, почему мы охотимся таким древним способом? Во-первых, эта охота не столько добывание зверя, сколько физические упражнения для человека. Питательность нерпичьего мяса такова, что позволяет охотнику, съевшему на завтрак небольшой кусок, проходить огромные расстояния по торосистому льду! Конечно, лазерным ружьем легко убить зверя даже на расстоянии нескольких километров. Но, как, наверное, ты знаешь, лазерное ружье даже для спортивных целей запрещено. А, главное, какой смысл в охоте, если ты даже не вспотел? Ну как, отдохнул?
Глеб молча кивнул.
– Возьми копье в правую руку, – скомандовал Иван Теин. – Вот так. Держи крепко, как бы наливая древко силой своих мускулов. Вон видишь ту точку? Это твоя нерпа. Иди осторожно, не спеши. Никуда она не уйдет: она тебя не видит и не чует. Но старайся ступать так, чтобы не тревожить лед. Пусть тебя не беспокоит, что он слегка колышется… Это ничего…
Охотники, ступая на переплетения своих снегоступов, увеличивающих площадь опоры на лед, снова расходились в разные стороны. Так что если нерпа что-то и заметит, то ее внимание будет как бы рассеиваться.
Иван Теин остановился чуть поодаль и в лазерный бинокль принялся наблюдать за Глебом. Парень ему нравился. Сильный, несколько застенчивый. По приезде он сразу же проявил самый неподдельный и живой интерес к Чукотке и ее древним обитателям.
Глеб был очень похож на Сергея Ивановича, и, глядя на него, можно легко представить, каким был в молодости его дед. Чувствовалась сохраненная на протяжении веков истинно русская натура: стать, основательность и удивительная приветливость и открытость.
Глеб уходил все дальше, и, видя в бинокль его напряженную руку на древке, Иван Теин не сомневался, что он добудет зверя.
– Низкое солнце стояло прямо на юге, над Уэленом. Оттуда, по направлению к проливу, обычно летели грузовые дирижабли. Но сегодня их почему-то не было, хотя погода летная и ветер тихий.
Сначала Ивану Теину показалось, что он попал на тонкий лед и он содрогнулся под его тяжестью. Потом до слуха донесся отдаленный, низкий, раскатистый гул. Вдруг по всем направлениям, словно живые, побежали трещины, и вода хлынула на поверхность. Иван Теин плашмя бросился на лед. Холодная вода обожгла руки, но он продолжал держать в поле зрения Глеба Метелицу.
Парень обернулся, и тут Иван Теин, во всю силу своих голосовых связок закричал:
– Ложись! Ложись на лед!
Он видел, как к Глебу быстро полз Сергей Гоном, отцепив от себя нерпу.
Ивану Теину некогда было думать о происхождении странного сотрясения льда. Он только заметил, что удар шел откуда-то из самых глубин, из пучины морской. Все его внимание теперь сосредоточилось на растерянной фигуре Глеба, который в удивлении озирался вокруг, следя взглядом за расходящимися от него и убегающими вдаль трещинами.
– Ложись, ложись на лед! – продолжал кричать Иван Теин, скользя к нему по льду.
– Ложись, ложись! – кричал и Сергей Гоном, который был ближе.
Иван Теин скорее почувствовал, чем услышал второе сотрясение, и в это мгновение Глеб упал. Показалось, что он наконец-то внял крикам и распластался на льду.
Иван Теин перевел дух, приподнял голову и не поверил глазам: на том месте, где должен был быть Глеб, ничего не было, кроме расходящихся трещин.
– Глеб! – закричал Теин. – Глеб, где ты?
– Он исчез подо льдом! – услышал он голос Сергея Гонома.
– Не может быть! – закричал Иван Теин. – Он же умеет плавать! Глеб! Глеб!
Он обшарил взглядом успокаивающуюся поверхность льда, каждое пятнышко, каждую трещину, не переставая кричать, звать, но Глеба нигде не было. Тогда Иван Теин замолчал, постарался унять свое шумное дыхание и прислушался. Собственная кровь билась в ушах, заполняла голову, зловеще поскрипывал трущимися изломами лед. Было так неправдоподобно страшно, что у Ивана Теина потемнело в глазах, и он на секунду потерял сознание. Придя в себя, он снова оглядел то место, где только что был Глеб.
Позади тяжело дышал, почти всхлипывая, Сергей Гоном.
– Он исчез сразу, я видел, – выдохнул с трудом Гоном. – И даже не вскрикнул, не взмахнул рукой.
Не ответив ничего на слова Гонома, Иван Теин изо всех сил пополз вперед, на то место, где исчез Глеб. Он не думал об опасности, о том, что каждое мгновение его тоже может втянуть под лед. Следом, не переставая всхлипывать, полз Сергей Гоном и повторял:
– Где же он? Где же он?
Онемели пальцы в заледенелых рукавицах, сырость проникала в штаны, в обувь, камлейка разорвалась в нескольких местах, лицо расцарапалось об острые обломки льда, но ничего этого не замечал убитый горем Иван Теин.
Он сделал несколько кругов, пересекая трещины распластанным телом, стараясь заглянуть сквозь толщу льда: но море замерзло несколько дней назад, да и соленый лед не так прозрачен, как пресный. Он видел лишь тень собственного отражения, свои прежние следы, отмеченные яркими, тут же замерзающими капельками крови на льду.
У Гонома тоже искровянились пальцы, но он неустанно полз в поисках хотя бы малейшего следа присутствия Глеба. Иногда в путающихся мыслях возникало сомнение: а был ли он вообще здесь? Такое впечатление, что померещилось, показалось, что Глеб был с ними на охоте. А на самом деле он там, у себя, на острове Ратманова, на самом верху растущего огромного сооружения одной из главных башен-опор Интерконтинентального моста. Работал Глеб Метелица верхолазом-монтажником.
Странное дело: такая же мысль возникала в воспаленном мозгу Ивана Теина, настолько чудовищно нелепым казалось ему происшедшее.
А внутри, в сердце, росла боль, она распространялась по всему телу, охватывала каждую частицу, проникала в кончики пальцев. Это была новая, незнакомая боль, боль-сострадание, боль-сопротивление разума случившемуся, нежелание примириться со страшной бедой.
И Иван Теин, и Сергей Гоном, не сговариваясь, кружили и кружили на том месте, где стоял Глеб Метелица, осматривались вокруг, изучали каждую трещину, пытались что-то услышать, заметить во льду.
И все чаще представлялось уходящее в непроглядную холодную темноту тело, бывшее только что живым, горячим, полным сил; ведь парню еще не было и тридцати… Смерть понятна, когда она завершает долгую жизнь, становится достойным окончанием многолетнего пути. И против такой смерти никто не возражает. Смешно было бы возражать против окончания дня, наступления вечера и ночи… Но когда обрывается молодая жизнь, это так же противоестественно, как если бы вдруг, сразу же за утром наступила ночь…
Иван Теин и не замечал, что, кружа на одном и том же месте, он рассуждал вслух и то, что казалось ему невысказанными мыслями, он произносил довольно громко и внятно, пугая своего молодого спутника.
– Дядя Иван! Дядя Иван!
Это был голос Сергея Гонома.
– Что ты сказал?
– Дядя Иван, – прохрипел, еле ворочая непослушными замерзшими губами, Сергей Гоном. – Мы уже два часа крутимся на одном месте и ничего не можем найти. Наверное, нам лучше вернуться за помощью.
Иван Теин остановился. Теперь все стало ясно. Ясно до рези в глазах: ничего не сделать. Вслед за утром наступила ночь.
Надо искать тело, если его удастся найти под сплошным покровом льда.
Оба охотника, оглядевшись, но не поднимаясь на ноги, ползком двинулись к берегу, пересекая трещины.
Что же это было?
Сколько помнил себя Теин, сколько слышал, читал о прошлой жизни, никто никогда не упоминал о таком. Где-то произошло землетрясение? Где-нибудь на Аляске, поближе к Алеутским островам? Там это бывает. Но какой же силы должен быть подземный толчок, чтобы волна его добралась до северного берега Чукотского полуострова? А может, такое и случалось раньше, но в те годы, когда море покрывал пришедший с севера движущийся лед, а не такой гладкий, как сейчас?
Каково ему будет смотреть в глаза Сергея Ивановича Метелицы?
Боль вины сжимала сердце, и казалось, что оно бьется в каком-то железном капкане.
Ему уже хотелось самому погибнуть, сгинуть в морской пучине. Он встал и пошел, волоча на ногах полусломанные снегоступы. Следом шел Сергей Гоном и беззвучно глотал катившиеся по щеке слезы.
Сергей Иванович Метелица стоял на наблюдательной вышке, оборудованной на первом этаже островной башни-опоры. Но даже самый нижний этаж будущего грандиозного сооружения так высоко вознесся, что у края, огороженного стальными канатами, захватывало дух.
Работы успешно шли и на Малом Диомиде, и отсюда, с Ратманова, хорошо была видна нижняя, начальная часть второй главной башни-опоры, которая вместе с башней-опорой на Ратманова, на мысах Дежнева и Принца Уэльского должна взять на себя главную нагрузку.
Кроме того, подготавливались промежуточные башни-опоры, которые должны были встать из воды между мысом Дежнева и островом Ратманова, а также – между Малым Диомидом и мысом Принца Уэльского. Работы шли слаженно, точно по графику. И на азиатском, и на американском берегу работали гигантские плавучие заводы строительных конструкций. Оснащенные мощными энергетическими установками, обладающие громадными цехами-трюмами, они становились на якорь где-нибудь у берега, где находились запасы строительного сырья, и принимались за работу. Железобетон практически весь делался на месте, привозным был только металл.
Тяжелогрузные дирижабли и вертостаты, летающие краны в назначенное время подвозили нужные конструкции.
Людей для такой стройки было немного. Все делали механизмы и роботы, а операторы находились в закрытых помещениях. На открытом воздухе работали лишь монтажники-верхолазы, и их работа была воистину опасной и физически тяжелой. Рабочий день у них длился не более четырех часов, и даже это считалось много, хотя сами рабочие изъявляли готовность работать больше.
Северный ветер набирал силу; термометр, выставленный за ограждение, показывал восемнадцать градусов ниже нуля по Цельсию.
Метелица был в легкой кухлянке. Одежда для строителей Интерконтинентального моста разрабатывалась Институтом функциональной одежды имени Зайцева, и на зимнее время были сшиты оленьи кухлянки, а для работающих на открытом воздухе – меховые торбаза и штаны из оленьего камуса. Одежда из натуральных мехов была признана наилучшей во всех отношениях. И верно, в кухлянке, в капюшоне, отороченном опушкой из росомашьего меха, ветер совершенно не чувствовался, а рукавицами из оленьих лап можно было смело держаться за металлические поручни и ограждения.
Отсюда, с высоты теперь хорошо заметно, что в Беринговом проливе закипела работа. Об этом свидетельствовали не только вереницы большегрузных вертостатов и дирижаблей, ледокольные грузовые корабли и уже возвышающиеся над островами башни-опоры, но, казалось, и сам воздух изменил свой запах. Между островом Ратманова и советским берегом на льду виднелась плавучая платформа, откуда велось глубинное бурение и где на дне работали взрывники-роботы.
Взрывы ощущались и здесь, на первом этаже башни-опоры – глухие, похожие на отголоски далеких подземных землетрясений. Специалисты заверяли, что они не причинят никакого вреда морскому животному миру. Однако на всякий случай начало работ было приурочено к времени, когда закончилась сезонная миграция моржей и китов.
В этот год всем на удивление часть пролива и открытого Чукотского моря покрылась ровным льдом, словно какое-нибудь Щучье озеро под Ленинградом. Как сказал Иван Теин, такое хоть и случалось раньше, но очень редко. «Это потому, что мороз обогнал ледовые поля с севера».
Метелица был человеком нетерпеливым, хотя тщательно скрывал эту черту характера от окружающих. Стоило начать какое-нибудь крупное строительство, он уже мысленно видел его завершенным – все будущие строения и сооружения с самого начала прочно вписывались в его воображение и в окружающий пейзаж. Может быть, это и объясняло непреклонность и устремленность к конечной цели. Все возникающие трудности и помехи, с его точки зрения, должны быть немедленно решены.
Метелица мысленно соединял берега, стоило ему взглянуть на них.
Все должно служить этому.
Он знал это и был спокоен, ибо началось то, ради чего он пришел на эту землю, жил, лишался того, что люди называют простым человеческим счастьем, теплом семейного очага. И ничего он не мог поделать со своей натурой, со своим характером.
Глубоко вдохнув студеного воздуха. Метелица вошел в помещение, где в ряд на стене располагались телеэкраны, на которых можно одновременно видеть работу всех звеньев.
– Посмотрим, что делается у соседей, – сказал Метелица, присаживаясь к одному из больших экранов.
– Они идут в графике, – сказал дежурный руководитель работ. – Они начали бурение с платформы в акватории пролива, но опасаются, что работы придется прервать, так как с севера напирают ледовые поля.
– Ледовая обстановка в их районе иная, чем на нашем берегу, – вмешался в разговор метеоролог. – У нас было бы так, если бы не внезапное похолодание.
– Расстояние вроде бы небольшое, – задумчиво произнес Метелица, – и вдруг такая разница в климате.







