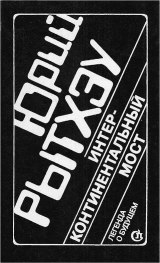
Текст книги "Интерконтинентальный мост"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Как все же удивительно схоже человечество! Снаружи лишь тонкая корочка того, что обретено многовековой культурной историей, столетними миграциями, столкновениями и братаниями с другими народами, смешениями рас, взаимовлиянием языков, религий, обычаев, а чуть копни – устоявшиеся тысячелетиями те же общечеловеческие нравственные, психологические твердейшие основы, на которых неколебимо стоит одетый в разные одежды культур, рас, языков и даже социальных систем человек!
В этом Метелица убедился на своем опыте, работая в самых разных концах света, общаясь с людьми, далекими и по расстояниям, и по языкам, и по социальному положению.
Интересно ответил на вопрос, кем же он себя считает по национальности, Иван Теин. Он сказал со слабой улыбкой:
– Может быть, я представляю собой переходное звено к новому этническому типу – Человеку Севера. Ведь во мне и эскимосская, и чукотская, и русская, и татарская кровь.
И еще одним удивительным открытием для Метелицы была встреча с фанатичной приверженностью человека на Чукотке к своей земле. Это было понятно на юге, в той же Африке, где больше всего и пришлось ему поработать. Но там земля имеет еще и реальную ценность как предмет частной собственности, как живородящий источник благосостояния, еды, как колыбель всего живого… Правда, в этом не откажешь и здешним землям. Но если африканский житель буквально прикован к клочку, обработанному многими поколениями, то здесь, на вольных просторах тундры, вроде бы не должно быть такой привязанности к определенному месту… Но оказалось совсем не так. Быть может, именно здесь, где только камень, холодный берег, усыпанный разноцветной галькой, туманная и сырая тундра, и все это большую часть года покрыто снегом и представляет собой снежную ледяную пустыню, чувство к родной земле ощущается с какой-то обостренной силой.
И тем более странным и непонятным показалось такое скорое решение жителей Иналика покинуть родной островок. Правда, уж тут они не прогадали. Да и Кинг-Айленд, судя по всему, место куда более удобное во всех отношениях, нежели кусок голой скалы на самом ветровом потоке, в вечном тумане Берингова пролива.
Спокойно, хорошо было ехать в поезде.
Иногда для разнообразия Метелица ходил обедать в вагон-ресторан, полный туристов со всех концов света. Конечный пункт маршрута находился где-то на берегах Гибралтара. Дальше можно туннелем перебраться на Африканский материк. Многие туристы намеревались закончить путь на мысе Доброй Надежды…
Можно было занимать столик на открытом воздухе, на специальной площадке, защищенной от встречного ветра, но Метелица предпочитал сидеть внутри ресторана.
В одном из простенков висел большой рекламный плакат, сулящий необыкновенное путешествие в поезде через три величайших континента – Африку, Евразию и Америку. «От мыса Горн до Мыса Доброй Надежды»! – гласил плакат. «Скоро на первый поезд уже не будет ни одного билета! Спешите!»
На четвертое утро мелькнула мысль сойти на очередной остановке и пересесть на пассажирский дирижабль. Это случилось на подходе к Байкалу. Станция Бестужевская стояла прямо на берегу. За высокой стелой – памятником строителям Байкало-Амурской магистрали конца прошлого века – голубела гладь величайшего пресноводного водоема мира. Здесь, в интересах туристов, стоянку продлили. У самой воды горели костры и рыбаки-гиды варили уху из омуля.
Байкал для советских людей такого возраста, как Метелица, стал символом, знаменующим новый подход к природе. Именно с Байкала, с охраны его, начало формироваться главное правило любого технического сооружения: никакого вреда окружающей среде, полное сохранение природного баланса и существующего животного мира. С таким девизом строился и Южно-Якутский горно-металлургический комплекс, медное производство на Удокане, закладывались нефтяные скважины в Анадырской впадине. Трудно было, но правило соблюдалось. Кстати, освоение природных богатств в окрестностях Байкало-Амурской магистрали от собственно Байкала до мыса Дежнева уже к началу третьего тысячелетия обеспечило нашу страну всеми мыслимыми сырьевыми ресурсами в количестве, достаточном для действительного планирования экономики на десятки лет вперед…
На берегу, между железнодорожным полотном и водой, стояли старинные сибирские избы, украшенные затейливой деревянной резьбой. Кое-где даже виднелись поленницы дров, хотя Метелица прекрасно знал, что каждый дом получает в избытке любую энергию – для отопления, горячей воды, разных бытовых приборов. Но приверженность человека к открытому огню, зародившаяся в глубинах изначальной истории человечества, оставалась живой и была пронесена в двадцать первый век. И в памяти, всплыли услышанные еще в школе рассказы о первобытном человеке, впервые увидевшем огонь – зажженное молнией дерево, – ощущение близкого, живого тепла от пляшущих языков пламени. А вот когда первобытный человек самостоятельно добыл огонь, с этого момента и началась история энергетики человечества, история драматическая, приводившая к вооруженным столкновениям еще совсем недавно, в конце прошлого века.
Метелица обошел группу туристов, хлынувших к рыбакам, и подошел к чистой, спокойной воде. Присев на корточки, он ладонью зачерпнул воды. Да, байкальская вода была вкусна и холодна. И в чем-то она была похожа на воду старого науканского ручья на мысе Дежнева.
Купе было оборудовано специальной системой связи, и пассажир в любую минуту мог соединиться с самым отдаленным абонентом.
И вот в последние дни все больше стало одолевать искушение включить связь, поговорить с дочерью, с внуком Глебом. И сейчас, когда поезд снова тронулся, он уставился на аппарат, словно в заветную дверь, ведущую в мир. Метелица по внутренней поездной связи лишь попросил соединить его с Москвой… Он заказал номер в старой гостинице, в центре города, недалеко от кремля. Обычно ему предоставляли место в пригородном коттедже-номере на берегу Москвы-реки, в лесу. Но Метелице хотелось пожить именно в гостинице «Москва», когда-то в молодости такой любимой из-за своего местоположения в самом центре столицы. Здесь Метелица иногда ловил себя на мысли: вот проснется он в одно прекрасное утро – и окажется в далекой молодости: в старом Ленинграде, старой Москве. Но сам-то он будет моложе?.. Куда же ушло то прекрасное время? Куда оно исчезает, уходит? И почему этот вроде бы бесполезный вопрос снова и снова все чаще с годами возникает и мучает, не дает ночами спать даже в таком сверхкомфортабельном поезде? Почему чудо и загадка навсегда уходящего времени не только поражает воображение, но и ставит в тупик так называемый здравый смысл? Ведь когда он обратно вернется на Чукотку, все будет вроде бы и то, и все же не совсем то: ведь пройдет какое-то время. И это «не совсем то» не новое, которое появится в его отсутствие, а знакомое, привычное, но над ним уже прошло столько-то дней, прошло какое-то время… Жизнь, время, человек… Рассвет, день, сумерки… А где он сам нынче, Сергей Метелица?
Усилием воли он стряхнул с себя эти мысли.
Поезд пришел на Казанский вокзал, обновленный еще в прошлом веке, просторный и почти безлюдный.
Он спустился в прохладный вестибюль метро и через пять минут оказался на станции «Площадь Свердлова», под гостиницей.
Метелица получил у администратора плотную металлизированную карточку с магнитным кодом-ключом и поднялся к себе в номер.
Окна выходили на площадь.
Черной глыбой высился памятник Карлу Марксу. А ведь Метелица помнил этот памятник еще светлым. И как ни чистили, ни мыли, ни полировали гранит, он все больше и больше темнел. Видно, больше от выхлопных газов автомобилей, отравлявших в прошлом воздух почти во всем мире.
Раздался мелодичный звон вызова, и засветился экран дальней видеотелефонной связи.
– Здравствуй, папа!
– Здравствуй, Светочка! Знаешь, я только вошел в номер, не успел даже раздеться.
– Это что на тебе?
– Куртка из весенней, майской молодой нерпы, подарок моего друга Ивана Теина, – с оттенком хвастовства произнес Метелица. – А где Глеб?
– Глеб скоро будет, – ответила Светлана.
– Ну как ты живешь? – спросил он дочь чуть просевшим от затаенной нежности голосом.
– Спокойно, – ответила она своим любимым словом.
– Ну, это хорошо, – вздохнул Метелица. – Можно позавидовать.
– Думаю, что и ты не очень волновался в пути.
– Что ты имеешь в виду? – насторожился Метелица.
– Связь-то у тебя была отключена.
– Верно. Эта проклятая штука не давала мне даже по ночам спать, – засмеялся Метелица. – Несколько раз чуть не включил, но удержался… Видно, современному человеку отсутствие связи с миром также дискомфортно, как нашему предку глухота, слепота…
– Я вижу, что ты настроен на длинные рассуждения, – улыбнулась Светлана. – Давай отложим их до вечера. Будем сегодня вечером у тебя с Глебом.
– А я не собираюсь здесь надолго оставаться, – сказал Метелица. – Спешу к своим коровам.
– Твоих коров уже пасет академик Филиппов, – со смехом сказала Светлана. – Ты и не представляешь, сколько было претендентов на твою путевку!.. В общем, тебе придется возвращаться обратно на Чукотку. Звонил Волков. Он ждет тебя.
– Тогда до вечера, – сказал Метелица.
– До вечера, – отозвалась дочь, и экран медленно погас, держа еще некоторое время затухающий, но уже бесцветный контур человеческого лица.
Метелица прошел знакомой дорогой мимо Исторического музея, свернул налево на улицу 25-го Октября и прошел к зданию, стоящему в глубине двора.
Этот отдел Совета Министров ему был хорошо знаком. Не раз он приходил сюда за свои долгие годы. Все ему здесь было хорошо знакомо, от цвета пола до прекрасного вида из окна – на старую Москву, на Кремль.
Геннадий Волков, курирующий строительство моста через Берингов пролив, когда-то работал вместе с Метелицей. Он был намного моложе, хотя и ему давно перевалило за восемьдесят.
– Ну как там белые медведи, моржи и полярные сияния? – весело спросил Волков, выходя из-за письменного стола и пересаживаясь в мягкое кресло возле низкого столика, на котором уже стояли чашки с кофе.
– Полярных сияний еще не видел, белых медведей тоже. Не сезон еще, – с улыбкой ответил Метелица. – А вот моржей насмотрелся.
Он всегда с некоторой завистью относился к умению Волкова вести самую серьезную и трудную беседу, казалось бы, в шутливом, легком тоне.
– Итак, вернемся к моим коровам, – сказал Метелица и вопросительно посмотрел на Волкова.
– На следующий раз обещаю путевку на высокогорье, к чабанам, – торопливо сказал Волков. – Чистый воздух, высоченные горы, тишина!
У Метелицы засосало где-то над желудком.
– В связи с тем, что жители острова Малый Диомид раньше назначенного срока собираются переселиться, американская сторона предлагает досрочно соединить берега…
– Как это? – удивился Метелица.
– Они предлагают сначала соединить остров Ратманова и остров Малый Диомид, – сказал Волков. – Наш и их остров. В виде символа.
– Но это нарушает график, – заметил Метелица. – Это соединение должно произойти в самом конце, как завершающий аккорд, хотя…
– С нашей стороны принципиальных возражений нет, да и проектный институт не видит этому препятствий, – сказал Волков.
– Честно говоря, вся эта история с переселением мне не нравится, – задумчиво произнес Метелица.
– Не понимаю, – насторожился Волков.
– По сути, их вынудили продать свою родину, – сказал Метелица. – И в том, что им предложили другой остров, даже несколько лучший в климатическом отношении и больший по размерам, – нет утешения. Они были жителями Иналика – так они называют свой остров, – этим они и отличались от остального человечества, от других эскимосских племен. А теперь и этого у них нет.
– Это дело американцев, – сказал Волков.
– Все это верно, – вздохнул Метелица. – Вот Иван Теин, книги которого ты, наверное, знаешь, рассказывал мне, что примерно такое же случилось у нас в середине прошлого века, когда наша страна в поисках экономических решений выдвигала разные идеи: то укрупнение, то концентрация, то еще что-то в этом роде. Тогда группа науканских эскимосов, интереснейшая народность со своим языком, со своей культурой, была переселена. Промежуточная ступень, звено между народами Азии и Америки, они потом почти полностью растворились в другой этнической и языковой среде… И когда я слушал рассказы Ивана Теина, прямого потомка науканских эскимосов, я чувствовал в его словах горечь неутихшей обиды…
– Я тебя понимаю, – кивнул Волков. – Твои чувства, твою озабоченность. Но ведь Малый Диомид – еще раз повторяю – территория Соединенных Штатов Америки! И тамошние жители – граждане США!
– Да, это верно, – согласился Метелица. – Кстати, до середины пятидесятых годов прошлого столетия жители острова Малый Диомид, как и все жители Аляски, считались русскими подданными…
– Это как же? – удивился Волков.
– Это длинная история, но тебе не помешает ее знать, коли уж ты курируешь нашу стройку, – сказал Метелица. – Аляска, как известно, перешла под власть Североамериканских Соединенных Штатов в 1867 году. Причем некоторые историки ошибочно считают, что она была продана. Это не совсем так. И этого не могло быть по той простой причине, что в 1861 году в России было упразднено крепостное право. А тогдашняя Аляска была землей, населенной людьми. На Аляске, кроме эскимосов, жили атабаски, алеуты, индейцы-тлинкиты и другие племена. Договор, если говорить точным юридическим языком, был договором об уступке на право управления территорией Аляски. И такой территорией Аляска была почти сто лет, и население ее считалось подданным России. Я своими глазами видел сертификаты о предоставлении американского гражданства аляскинцам, выданные в 1957 году, где в графе «прежнее гражданство» стояло – русский.
– Интересно! – с живостью отозвался Волков. – И все же это еще не основание для вмешательства.
– Я понимаю, – понуро ответил Метелица.
– Послезавтра тебя ждут на мысе Дежнева, – сказал Волков. – Туда наедет много народу.
Светлана уже сидела в номере за накрытым столом. В кресле у окна сидел рослый молодой человек, Глеб. В свои пятьдесят два года Светлана выглядела прекрасно, хотя пока еще остерегалась принимать искусственные омолаживающие препараты.
Она молча поцеловала отца.
Глеб обнял деда и сказал:
– Еду вместе с тобой. С трудом, но получил назначение на твою стройку.
Глава седьмая
Лодка шла легко, рассекая тяжелую, уже остывающую воду. Выходить в море на одиночной лодке в эту пору было довольно рискованно. Но Петру-Амае на этот раз хотелось приплыть на Малый Диомид морем. К тому же пассажирский дирижабль компании «Раян-Эрлайнз» отменил регулярные рейсы в Иналик.
Петр-Амая знал, что он хорошо виден обеим станциям по безопасности плавания – американской и советской.
Море было полно спешащих на юг птиц. Все летящее стремилось в одном направлении – к солнцу. Туда же плыли киты, моржи, тюлени…
Китовые фонтаны виднелись повсюду: в этом году китовые стада задержались в Чукотском море. На Инчоунском лежбище галечная коса уже опустела, если не считать нескольких туш старых моржей, задавленных молодыми и сильными особями.
На борту лодки имелся гарпун. Сначала Петр-Амая намеревался добыть нерпу, чтобы приплыть на остров не с пустыми руками, но утренний охотничий азарт к полудню поутих.
Его больше волновала предстоящая встреча с Френсис. Они сказали друг другу о своих чувствах все… Они пользовались старыми, не раз сказанными выражениями, но им казалось, что все эти нежные слова в их устах звучат свежо, по-новому и сокровенный их смысл ясен и понятен только им. Какое-нибудь пустячное выражение вызывало волну тепла и нежности, и тогда верилось, что такое же ответное чувство и тепло возникало и у Френсис, на другом берегу.
Петр-Амая был уверен, что он никогда так не любил и то, что было раньше, – это не настоящее, а так, пусть глубокое, волнующее, но все же увлечение.
Петр-Амая вздохнул. Громада острова Ратманова уже казалась близкой. Но это было обманчиво. Несмотря на ветер, довольно студеный, погода ясная. Уже негреющее солнце ярко освещало Берингов пролив. В южном направлении льдисто и холодно поблескивали удлиненные корпуса огромных большегрузных дирижаблей. На Ратманова появились новые, хорошо видимые издали сооружения. Они изменили привычный облик острова, и он уже казался чужим, не таким, каким запомнился с детства, когда Петр-Амая вместе с отцом впервые вышел на промысел.
Лодка входила в пролив с севера. Петр-Амая решил воспользоваться и ветром, и течением одновременно. Недавно на Большом совете строительства, где обсуждалось предстоящее соединение островов, зашел разговор о будущих «тихих» атомных взрывах. Инженеры утверждали, что ни природному, ни животному окружению никакого вреда не будет. Внимание всех привлекло выступление плотного рыжеусого человека в старомодных очках вместо контактных линз. Он коротко сказал, что, по его расчетам, полотно моста между островами резко изменит розу ветров в этом регионе. Кто-то из присутствующих небрежно заметил, что изменение розы ветров – не такая уж большая беда и этим вполне можно пренебречь. Метеоролог резко вскинул голову и громко возразил, что ветер в этих местах играет большую роль в жизни людей.
Полулежа на корме, Петр-Амая вспоминал этот разговор, следил за направлением ветра и маневрировал парусом, стараясь идти кратчайшим курсом.
Уже можно видеть два острова. Они даже по цвету различались: Иналик казался более светлым, может быть, оттого, что солнечный свет падал на него прямо.
Лодка, подхваченная течением и усиливающимся в этом месте попутным ветром, неслась как на крыльях, догоняя мелкую волну и птичьи стаи.
Издали селение не выглядело покинутым, хотя в Информационном бюллетене, издаваемом Американской администрацией, сообщалось, что каждая иналикская семья получила просторный дом на острове Кинг-Айленд. Готовые дома в собранном виде перебросили по воздуху с материка.
Однако на узком галечном берегу островка было по-настоящему пусто: ни байдары, ни вельбота, ни лодки. Чуть поодаль, где кончалась галька и начинались огромные, отполированные волнами и ветром валуны, валялся полуразвалившийся остов старой байдары. И еще – в поле зрения – ни одной собаки!
Петр-Амая знал, что основная работа мостостроителей идет на вершине острова, на небольшом плато, где, собственно, и устанавливалась башня-опора и другие вспомогательные сооружения. Петр-Амая увидел снижающийся на плато грузовой дирижабль. Он на мгновение закрыл солнце, и, когда лучи снова сверкнули, Петр-Амая вдруг увидел Френсис.
– Я тебя все утро жду. Глаза заболели, пока глядела в море.
– Я очень рад тебя видеть, моя Френсис!
Они поднимались, карабкаясь по камням, мимо опустевших огромных опреснительных установок, мимо старой школы с большими окнами по всему фасаду.
– Говорят, отец Джеймса Мылрока, дед Перси, дом свой построил из упаковки, в которой привезли эту школу, – сказала Френсис. – Вот как бедно жили эскимосы!
– Зато, я слышал, на Кинг-Айленде хорошие дома, – сказал Петр-Амая.
Френсис остановилась передохнуть. Она внимательно посмотрела в глаза спутнику.
– Дома очень хорошие, – сказала она. – Никто из иналикских никогда таких не имел. Даже те, что почитались богатыми… И место хорошее. Во всяком случае, там попросторнее, чем здесь…
Петр-Амая вдруг почувствовал запах дыма. Френсис заметила движение его затрепетавших ноздрей и улыбнулась:
– Я тебе варю кофе… На костре. Здесь уже все отключили.
От старой школы повернули направо, и Петр-Амая увидел у огня сгорбленную фигуру человека.
– Это кто? – встревоженно спросил он у Френсис.
– Адам Майна. Он попросился со мной приехать сюда. Что-то забыл.
Старик держал в руке бутылочку с «Китовым тоником» и с улыбкой смотрел на молодых людей.
При ярком, хотя и осеннем солнечном свете пламя едва было заметно, и легкий дымок быстро уносился ветром. Огонь горел весело, старик щедро кормил его тоненькими щепочками и побелевшими от морской воды кусочками коры.
– Амын етти! – по-чукотски поздоровался старик, хотя отлично знал об эскимосском происхождении Петра-Амаи. – Как погода в море?
– Хороша!
– Когда я был совсем маленьким, ранним утром я прежде выбегал наружу и «смотрел ветер». Ты-то, наверное, уже и не знаешь, что это такое?
– Почему, дед Адам?
Петр-Амая и вправду знал, что это такое. Отец воспитывал его согласно старым эскимосским обычаям. Утро его тогда начиналось с того, что он выбегал, едва продрав глаза, наружу почти в любую погоду. Помешать могла только такая пурга, когда заметало дверь. Маленький Петр-Амая выбегал и в стужу, и в дождь и, вернувшись в дом, обстоятельно и точно сообщал о том, что происходило в природе.
– А потому, – сказал старик, – что ты веришь прогнозу. Только нет еще такой науки, таких хитроумных приборов, которые бы могли предсказать погоду в Беринговом проливе.
Френсис убежала в дом за чашками.
Петр-Амая пристроился на гладкий гранитный валун, нагретый со стороны огня.
– На охоту все равно будем приплывать сюда, – сказал Адам Майна. – А ветер уже будет другим.
Петр-Амая вспомнил слова метеоролога о розе ветров.
– Ветер будет другим, потому что эта махина, которая будет закрывать половину неба над Иналиком, изменит направление ветра. И еще многое переменится, а люди попросту закрывают глаза на это…
– Ну, может быть, и вправду изменится роза ветров, – сказал Петр-Амая, – а остальному зачем меняться?
– А вот зачем, – Адам Майна поворошил огонь, вызвав сноп искр, положил несколько кусочков коры. Дым напоминал детство, морской ветер и студеный запах приближающихся льдов. – Видел панораму моста? Красиво? Так вот, всегда найдется какой-нибудь человек, а то и целая группа людей, которым эта красота не будет давать спать, и они будут только и думать о том, как ее разрушить… Вот о чем я думаю.
Во всем мире добрые отношения Советского Союза и Соединенных Штатов Америки понимали как надежную гарантию мира. И то, что делалось совместно обеими странами, повсеместно находило добрый отклик. И все же каждый раз на каких-то задворках шептались, бормотались, высказывались глухие сомнения, делались разного рода предсказания о возможной неудаче. Было нечто похожее и относительно моста через Берингов пролив. Но, как сказал один известный французский публицист, автор нашумевшей в свое время книги «Мир на ладонях», возникновение такого рода реакции нормально. Было бы удивительно и не в природе человеческой, утверждал этот француз, чтобы вдруг все были единодушны…
Поэтому Петр-Амая не особенно обратил внимание на замечание Адама Майны, больше интересуясь тем, что привело старика обратно на остров. Конечно, скорее всего тоска по покинутому. И он с сочувствием сказал:
– Я вас понимаю: трудно навсегда уезжать отсюда.
– Это просто невозможно! – с убежденной горечью сказал старик. – Это невозможно, и тем не менее это случилось, – добавил он, и в голосе его были явственно слышны слезы.
И Петр-Амая вдруг ощутил в его словах всю глубину трагедии людей, лишившихся родины. Пусть такой, как крохотный островок Малый Диомид, называвшийся в иных газетах просто куском голой скалы, брошенной в бурные воды Берингова пролива.
Адам Майна всегда выглядел крепким стариком, а тут вдруг в нем стала заметна дряхлость и какая-то пришибленность. Редкая жесткая борода щетинилась толстыми редкими волосами, в потухших глазах отражалось пламя костра.
– А я ведь одним из первых поддался! – со стоном в голосе произнес старик. – Вдруг увидел мечту всей жизни – большой просторный дом, вдоволь еды, безоблачное будущее…
Френсис давно принесла чашки на небольшом подносе, где было еще и печенье и кусочки мантака[1]1
Мантак (эск.) – китовая кожа с салом.
[Закрыть]. Она не шевелилась, словно остерегалась спугнуть слова старика.
– Но, оказывается, человеку-то ничего этого не надо! Кроме его собственной жизни, судьбой данной жизни, ничего не надо! Только собственными руками добытая еда идет впрок человеку, только счастье; добытое в собственном страдании, – это настоящее счастье!
Адам Майна как-то странно всхлипнул, откашлялся и вдруг строго и сердито сказал Френсис:
– Ну что ты стоишь? У гостя горло давно требует горячего!
Но Френсис, пораженная словами старого Адама, хоть и вняла приказу, но двигалась замедленно, и Петр-Амая видел в ее глазах слезы.
– Я приехал сюда поглядеть на старый дом да посмотреть, как отплывают в теплые края моржовые стада. Всю жизнь я это делал и не хочу, чтобы такое ушло из моей жизни. Я здесь никому не мешаю. Дирижабли и вертостаты летят мимо и даже не замечают меня.
Большие серебристые сигары цепочкой тянулись и жемчужно светились в лучах падающего вдали солнца, за исчезающими в густеющей синеве горами Азии. Они плыли, как гигантские, сказочные рыбы, одушевленные существа, но в их облике проглядывало мертвенно-холодное.
Петр-Амая поспешил стряхнуть с себя это ощущение.
Френсис все еще не могла прийти в себя от странного оцепенения. В ожидании Петра-Амаи она была полна мыслями о нем, о предстоящем свидании. С самого утра, когда она высадилась с проходящего вертостата на свой родной, но, увы, покинутый берег, она была полна этим ожиданием, мыслью о любимом. Что бы она ни делала, ее глаза притягивались морем, точнее, проливом, уже воспринявшим свинцово-серый цвет осени.
Пробираясь по тропам между домами, прилепившимися над морем, она то и дело поглядывала на створ, образуемый двумя островами Диомида, на северный мыс советского острова, чтобы уловить мгновение появления парусного суденышка. Несмотря на присутствие Адама Майны, чувство одиночества сопровождало ее повсюду. Оно было рядом, когда она спускалась к берегу в поисках хорошей точки для съемки, поднималась наверх, выше старой методистской церквушки, или же шла к южному концу поселения, за дом Джеймса Мылрока, чтобы оттуда увидеть в объективе панораму крохотного поселения. Френсис никогда не думала, что Иналик так мал, так беззащитен. Покинутый, он стал еще меньше, словно бы съежился.
– А в детстве это была целая вселенная, за границами которой уже был иной, почти что ненастоящий мир. Теперь глаза Френсис, обостренные горечью разлуки с родиной, находили удивительные и милые следы: холодный, давно уже не зажигаемый очаг, место старого мясного хранилища и даже осколок древнего гарпуна, сделанного из моржового бивня.
Она была уверена, что Петр-Амая вырвет ее из тисков горечи, отвлечет от воспоминаний, в которых была лишь грусть, холодный пепел потухшего костра прошлой жизни. Она не сводила глаз с него, и Петр-Амая чувствовал ее взгляд, ее тепло. И он отвечал ей теплом своего сердца.
Но это странное окружение: покинутый, холодный, словно тело умершего человека, Иналик, гигантские серебристые рыбины, бесшумно плывущие в вышине, остывающая вода Берингова пролива, уходящие за синие горы далекой Азии солнечные лучи и согбенная фигура Адама Майны – все это отравляло радость встречи.
Но его нежное, горячее чувство кружило голову, рождало мысль: может быть, все происходящее – неправда, причудливый сон, вызванный воображением и грезами о несбыточном?
И, чтобы вернуть себя в реальность, он спросил:
– А где Перси?
– Он почему-то не захотел приехать, – сухо ответила Френсис. – Сказал, что ему надо готовить бубен к празднеству.
– К какому празднеству?
– Мы же должны как-то отметить обретение новой родины, – грустно сказала Френсис.
И потом, когда они лежали в холодной, медленно нагреваемой собственными телами постели старого дома Омиака, а за незанавешенными окнами уже нарождался новый день, это ощущение нереальности происходящего, причудливости снова вернулось к Петру-Амае. Возможно, еще и потому, что после пробуждения от близости с Френсис он, вопреки ожиданию, не чувствовал себя сладко опустошенным, а наоборот, жаждущим еще более глубокого и тесного слияния.
– Это любовь, – сказал он вслух.
– Это любовь, – отозвалась Френсис.
В чистейшем воздухе чувствовался дым нового костра: Адам Майна уже снова разбудил огонь. Напротив него сидел незнакомый человек. Петр-Амая подошел ближе и удивился: это был Кристофер Ноблес!
– Здравствуйте! – сказал Ноблес с таким видом, будто он только вчера расстался с Петром-Амаей. – Прилетел ночным грузовым рейсом.
Наступающий день еще не победил размытые ночные тени. Очертания темных, пустых жилищ с неосвещенными окнами придавали всей картине унылый и печальный вид. Это была сама Печаль Берингова пролива.
– А мы никак не придумаем имя новому поселению, – подал голос Адам Майна.
– Почему? – удивился Ноблес.
– Так, – уклончиво ответил Адам Майна.
– В конце концов, название большой роли не играет, – продолжал Ноблес. – В новом эскимосском селении, селении будущего, все будет новое. Может быть и имя тоже новое.
– Только люди там старые, – с ехидцей в голосе заметил Адам Майна.
– Я уверен, что большинство из них переживает удивительное чувство обновления! – не сдавался Ноблес. – Особенно молодежь! Не правда ли, мисс Омиак?
Френсис в ответ пробормотала что-то невнятное.
– Сегодня там собираются провести большой фестиваль – песни, танцы, спортивные соревнования!
– А кто же устраивает празднество? – спросил Петр-Амая.
– Жители нового Иналика, извините, нового эскимосского поселения, а финансирует Американская администрация строительства Интерконтинентального моста и Объединенные телекомпании.
– Значит, будет большое шоу! – усмехнулся Адам Майна.
– По поводу обретения новой родины! – воскликнул Кристофер Ноблес.
– Родину можно заново обрести, если вернешься туда, где родился, – тихо, но твердо сказал Адам Майна.
Кинг-Айленд и вправду оказался намного больше Малого Диомида. Новенькие дома поставили так, что они как бы повторяли облик покинутого Иналика, точно так же выстроились вдоль крутого, уходящего в воду берега. Тропы соединяли жилища с галечным пляжем, на котором аккуратно, в ряд лежали новенькие вельботы и байдары. Вроде их было даже намного больше, чем требовалось. Но, как оказалось, приехали гости из Нома и других окрестных эскимосских поселений.
Меж домов, на берегу сновало множество приезжего народу. Выделялись одетые в стилизованную эскимосскую одежду разного рода операторы, фотографы и журналисты. Вдоль всей небольшой улицы тянулся транспарант, на котором огромными буквами на эскимосском и английском языках было начертано: «ПУСТЬ КАЖДЫЙ ВНЕСЕТ СВОЙ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА!»
Джеймс Мылрок встретил Петра-Амаю, помог выгрузить и поставить на якорь лодку и повел к себе.
– В гостевом доме не оказалось ни одного свободного места, – объяснил он. – Придется вам разделить комнату с моим сыном.
Перси был дома и действительно готовился к празднеству, натягивая на деревянный обод хорошо смоченную кожу моржового желудка. Она долго выдерживалась в специальной жидкости и считалась готовой, когда слегка скисала и обретала эластичность. Поэтому в комнате Перси, несмотря на открытые окна, пахло довольно остро.







