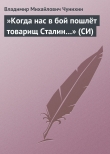Текст книги "Я свидетельствую перед миром"
Автор книги: Ян Карский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Глава IV
Разгромленная Польша
Задерживаться в Кельце я не стал – сразу после недолгой передышки двинулся в путь: через городские предместья и дальше, к Варшаве, которая представлялась мне землей обетованной. Меня тянуло в столицу, как в благодатную гавань; там, казалось мне, я обрету новый смысл жизни или хотя бы покой и безопасность, ну, на худой конец, пойму, что делать дальше.
Кончалась вторая неделя ноября 1939 года. Почти три месяца прошло с той ночи, когда мне вручили красную карточку с приказом о мобилизации. И чуть больше двух – с другой, когда немцы бомбили Освенцим и я проснулся от страшного грохота. Все это время было чередой потрясений. Мир, в котором я жил прежде, рушился. Я походил на потерпевшего кораблекрушение, которого швыряет с волны на волну посреди океана. Он борется, пока хватает сил.
Польши больше не было. Она перестала существовать. А вместе с ней исчезло все, из чего состояла моя жизнь. Теперь я начал понимать тех, с кем встречался раньше: офицера, который покончил с собой у Тарнополя, убедившись, что в мире все плохо и больше не для чего жить; парнишку, которого я оставил в Кельце тихо глотающим слезы. Они раньше меня поняли, что наша Польша разрушена. И, осознав это, поступали искренне и по-человечески. Были честны с собой. Не то что я, когда упрямо произносил безумные речи о польской армии, которая-де наверняка где-то еще сражается. Действительно ли я в это верил или просто хотел заглушить громкими фразами свою тревогу?
Почему для Польши поражение имеет совершенно особое значение?
Чем Польша отличается от других стран? И наша нация от других наций? Мне вспомнились лекции моих преподавателей во Львовском университете Яна Казимира, разговоры с отцом и братом…
У поляков чрезвычайно сильно чувство общности между отдельным человеком и всей нацией – чувство, подкрепленное историческим опытом, который показывает, что проигранная война влечет за собой губительные для всего народа последствия. В других странах за поражением следует оккупация, они выплачивают контрибуцию, вынуждены сократить армию, иногда дело доходит до изменения границ. Когда же польские солдаты терпят поражение на поле боя, весь народ постигают губительные бедствия: соседи грабят и делят между собой территорию Польши, стремятся уничтожить ее культуру и язык. Вот почему война для нас – событие грандиозного масштаба[30]30
Автор имеет в виду следующие события, оставившие глубокий шрам в памяти поляков: поражение восстания 1794 г. под предводительством Костюшко (взят в плен в битве при Мацеёвице) и последовавший за этим в 1795 г. третий раздел Польши (между Россией, Пруссией и Австрией), «навсегда уничтоженной», как поклялись монархи этих трех стран; подавленные восстания 1830 и 1863 гг. и неоднозначную реакцию как друзей, так и недругов возрожденной Польши, когда она отстояла свою независимость, одержав победу в русско-польской войне (1919–1921).
[Закрыть].
Люди по-разному вели себя перед лицом катастрофы. Одни, понимая весь ужас происходящего, отгораживались от него «защитной стеной», не пускали его в свое сознание и жили словно бы в ином мире. Другие, зная, что означает поражение Польши, впадали в отчаяние, которое иногда кончалось самоубийством. Они тоже «отрицали» реальность, но по-своему – уходя в смерть.
Я шел вперед и сознательно отмахивался от осаждавших меня вопросов. Не желал допустить мысль о том, что Польша как государство окончательно и бесповоротно погибла. Во мне теплилась надежда, что союзники скоро разобьют Германию или заставят ее покинуть Польшу. Я уже знал, что сопротивление польской армии сломлено, но сам не мог смириться. Какая-то часть меня продолжала, вопреки рассудку, верить, что у Польши еще остались жизненные силы и они сосредоточены в Варшаве.
Поэтому я стремился в столицу. Все шесть дней пути торопился так, будто у меня назначена важная встреча, на которую нельзя опоздать. В окрестностях Кельце дороги были пустынны, но чем дальше, тем больше стекалось беженцев, спешащих, как и я, в Варшаву; когда же я наконец вышел на главное шоссе, оно было забито машинами, так что и не проберешься.
Мужчины и женщины, молодые и старые, пешком и на колесах стекались из разных мест или возвращались домой в столицу. Тут были и варшавяне – торговцы, рабочие, врачи, адвокаты и т. д., и уроженцы разбомбленных маленьких городов и деревень. Попадались крестьяне – они тащили с собой любовно отобранные из убогого скарба вещи. Женщины прижимали к себе детей и шли твердым, уверенным шагом, точно загипнотизированные. У кого-то были с собой продукты, у кого-то – одежда, а у некоторых – даже мебель. Помню, я заметил в одном фургоне блестящее пианино черного дерева.
Были и такие, кто, наоборот, направлялся из Варшавы за город, с трудом прокладывая путь против людского течения.
По дорогам двигались многотысячные толпы, состоявшие из самого пестрого люда, немало было и молодых парней вроде меня, на вид здоровых и целехоньких; им, как и мне, явно не довелось пустить в ход начищенное оружие, которое когда-то у них было. И никакой сплоченности между беженцами. Каждый слишком озабочен своими бедами, чтобы обращать внимание на чужие. Разговаривали мало. Все шли молча, с подавленным видом.
Меня охотно пускали на телеги. Эти колымаги извлекли откуда-то, где они долго простояли без дела, и теперь их постоянно приходилось чинить на ходу. Драная упряжь ранила лошадей. Знания и сноровка, которые я приобрел по этой части, пришлись очень кстати, и меня везде привечали. За услуги я нередко получал не только место в телеге, но еще и пищу и ночлег. Повсюду были страшные следы «блицкрига» – «молниеносной войны». Каждый город, каждая станция пострадали от бомбежки. От жилых домов и общественных зданий остались только искореженные каркасы да груды обломков. Целые кварталы стояли в руинах. Я видел три огромные ямы на месте трех домишек – их разнесло бомбами в один миг, словно кто-то выдернул морковки с грядки. Во многих городах люди не успели похоронить своих близких до прихода немцев и тела сгребли в общие могилы, у которых собирались, молились и возлагали цветы родственники погибших.
Последние сорок километров я позволил себе проехать на поезде. Я страшно устал, а денег, полученных за починку телег и упряжи, как раз хватило на билет. Железнодорожное хозяйство было в ужасном состоянии. Немцы забрали и отправили в Германию все современные паровозы и вагоны. Осталась рухлядь, музейные экспонаты, выпущенные еще до Первой мировой. С выбитыми стеклами, облупившейся краской, ржавыми колесами и ветхими корпусами.
В поезде я первым делом осторожно расспросил пару пассажиров о том, какие документы требуют немцы, где ходят патрули и арестовывают ли кого-нибудь. Мне сказали, что патрулируют крупные вокзалы, документы спрашивают обычные, а арестовывают тех, чьи бумаги внушают подозрение и кто везет в город много продуктов. Я удивился: неужели запрещают провозить продукты? Но так оно и оказалось. Немцы сознательно морили голодом польские города[31]31
Польский историк Томаш Шарота приводит следующие данные: с 11 октября по 2 декабря 1939 г. нацистские власти предписали варшавянам рацион в 250 г хлеба на человека в день, еще полагалось на два месяца по 250 г сахара, 100 г риса, 200 г соли. 15 декабря была введена карточная система, самая скудная во всей оккупированной Европе, установленная с учетом расовых критериев для поляков и евреев. Продуктовые нормы в Варшаве были самыми низкими на территории Генерал-губернаторства.
[Закрыть]. Причиной же прочих арестов были вовсе не документы. Всех, кто выглядел молодым и сильным, отправляли в лагерь на принудительные работы. А предлог, чтобы задержать кого угодно, всегда легко находился.
Разузнав все, что нужно, я больше ни с кем не заговаривал. Жизнь под немцами стала совсем другой, новых правил я не знал, а потому рассудил, что чем незаметнее буду держаться, тем лучше. Сойти я решил где-нибудь в пригороде, чтобы не попасться немцам на вокзале. Точно так же поступили еще многие пассажиры. Значит, люди уже научились обманывать бдительность оккупантов – отлично!
Варшава выглядела злой карикатурой на себя самое: я и представить себе не мог, во что она превратилась. От чудного города не осталось и следа. Прекрасные памятники, театры, кафе, цветы, милая, веселая, шумная столичная жизнь – все полностью уничтожено.
На улицах горы деревянных обломков и кирпичей. Грязные, почерневшие мостовые. Всюду бродят изможденные, растерянные горожане. Мертвых, видимо, не успевают свозить на кладбище, так что повсюду – в парках, общественных садах и даже посреди улиц – свежие могилы.
На пересечении Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей, в самом центре города, рядом с вокзалом устроили огромную братскую могилу, в которой были похоронены безымянные солдаты. Могила засыпана цветами, вокруг горит множество свечей. И молятся, стоя на коленях, люди в трауре. Потом я узнал, что это бдение началось сразу после захоронения и не прерывается вот уже три месяца.
И еще долгое время, когда бы я ни проходил мимо братской могилы, тут всегда с раннего утра до комендантского часа собирались скорбящие варшавяне. Так что постепенно эта церемония стала не просто поминовением мертвых, а формой политического протеста. В декабре нацистский гауляйтер Варшавы Мозер[32]32
Точнее, Пауль Модер, группенфюрер СС, командующий войсками СС и полицией Варшавы в ноябре 1939 – августе 1941 г.
[Закрыть], сообразив наконец, какое символическое значение приобрела братская могила, приказал откопать тела и перенести на кладбище. Но и после этого жители города продолжали приходить на перекресток, опускаться на колени и молиться, по-прежнему горели там свечи, будто это место стало святыней.
Я постоял немного около могилы и пошел на Прагу[33]33
Прага – правобережная часть Варшавы; здесь, по всей видимости, речь идет о прилегающем к Висле районе Саска Кемпа на юге Праги, в межвоенное двадцатилетие считавшемся шикарным и престижным.
[Закрыть], к сестре[34]34
Лаура Бялобжеская, урожденная Козелевская, сестра Яна Карского. Она пережила оккупацию и умерла в Польше после войны.
[Закрыть]. Мне нравился ее веселый, жизнерадостный нрав, нравилось, что она никогда не унывает. Раньше я часто заходил к ней, был в прекрасных отношениях с ее мужем, тридцатитрехлетним инженером. И теперь всей душой надеялся, что с ними ничего не случилось и хотя бы там, у них, я найду уцелевшую частицу своей прежней жизни.
Дом сестры почти не пострадал. Прежде чем войти, я подумал о своем внешнем виде, машинально потянулся поправить галстук. Но наткнулся на месяц с лишним не мытую и не бритую бороду. Одежда на мне превратилась в лохмотья, и сам я был жутко грязный. Мне стало неловко и боязно. Дом казался безжизненным, немым. Все же я постарался выбросить из головы неприятные мысли и рывком открыл дверь подъезда. Это дом сестры, я снова в своем мире. Не колеблясь, я постучал в дверь ее квартиры и стал ждать. Никто не открывал. Постучал еще раз, посильнее.
– Кто там? – спросил издалека голос, похожий на голос сестры, но невероятно глухой и вялый. Я подумал, что мне не стоит громко произносить свое имя, поэтому еще раз тихонько постучался. Послышались нерешительные шаги, наконец дверь открылась, и я увидел сестру, которая опасливо придерживала ручку двери.
Я хотел было обнять и расцеловать ее, но что-то в ее облике удержало меня.
– Это я, Ян, – сказал я, хотя не сомневался, что она меня узнала. – Ты не узнаешь меня?
– Узнаю. Заходи.
Я пошел за ней, огорошенный таким приемом. На первый взгляд в квартире ничего не изменилось. Все как всегда. И кроме нас, явно никого не было. Я ломал голову, почему сестра так холодно меня встретила. Она выглядела постаревшей и какой-то безразличной, одета была аккуратно, хоть и в очень простое платье. И все время молчала, никак не обнаруживая, рада она моему приходу или нет.
– Я убежал от немцев почти неделю назад, – сказал я, чтобы завязать разговор и хоть как-то расшевелить ее. – Нас везли из радомского лагеря в другой, на принудительные работы. Около Кельце я выпрыгнул из поезда. Неделю добирался до Варшавы и вот пришел прямо к тебе.
Она слушала, не глядя на меня и не проявляя никакого интереса к тому, что я говорил. Стояла вся какая-то напряженная, будто ее со страшной силой тянуло назад, так что она еле удерживалась, чтобы не упасть, потеряв сознание. Всегда отличавшая ее живость, непосредственность, с которой она обычно откликалась на каждое слово и каждое событие, совсем исчезли. Потухший взгляд был устремлен куда-то в дальний конец комнаты, на некий предмет справа или сзади от меня. Забыв о вежливости, я обернулся и увидел на письменном столе прислоненную к стенке большую фотографию ее мужа, сделанную лет десять тому назад. На ней он был молодой, красивый и улыбался широкой, радостной улыбкой. Сестра не сводила глаз с фотографии и не заметила моего движения.
– В чем дело? – обеспокоенно спросил я. – Что-нибудь случилось? Где Александр?
– Он умер. Три недели назад его арестовали, пытали, а потом расстреляли.
Она выговорила это ровным голосом. Казалось, горе притупило ее чувства и у нее не осталось сил страдать и печалиться. Только стояла и неотрывно, как в трансе, смотрела на портрет мужа. Мне стало ясно: она рассказывает эти подробности, чтобы я больше не задавал вопросов. Я, конечно, не стал расспрашивать ее и тоже застыл, ошеломленный. Что ни скажи и ни сделай – все неуместно в такой ситуации. А сестра явно не хотела бередить свою рану.
Наконец она заговорила, все так же глядя на фотографию:
– Тебе нельзя долго тут оставаться. Слишком опасно. Нагрянет гестапо – возможно, тебя ищут. Я боюсь.
Я встал, чтобы уйти. Только тут она первый раз посмотрела на меня и, должно быть, заметила, какой я бледный, измученный, грязный и оборванный. Однако ничто не дрогнуло в ее лице, и она снова перевела взгляд на фотографию.
– Можешь переночевать, а завтра подберешь себе что-нибудь из вещей мужа и уходи.
После этого она окончательно замкнулась в себе и не обращала на меня никакого внимания. Я чувствовал себя непрошеным гостем. Тихонько, на цыпочках вышел из комнаты и прошелся по квартире, которую так хорошо знал. Все было почти так же, как раньше. Сестре как-то еще удавалось – прислуги у нее явно не было – поддерживать безукоризненную чистоту. Но холод стоял ужасающий – я ощутил это только теперь. Видимо, в Варшаве трудно с топливом. В буфете – шаром покати. У хозяйки, наверное, не было ни сил, ни желания ходить за продуктами. Я нашел в ванной кусок дешевого мыла и, как мог, помылся холодной водой. После мытья, проходя по коридору, я увидел сестру через открытую дверь гостиной. Она все так же сидела, словно окостеневшая. Совсем не та женщина, какую я знал; горе отделяло ее от меня непроницаемой стеной.
Я направился в кабинет хозяина. Тут тоже все было по-старому: кожаный диван, полки с научными книгами и журналами. Я достал из шкафа одеяло и разделся, сложив свою одежду на стул. Минуту поворочался на диване и заснул глубоким сном.
Проснулся я около полудня. За окном было серо, по стеклу бежали тоненькие струйки. Тело после сна отяжелело, отдохнувшим я себя не чувствовал, но понимал, что и так проспал больше, чем следовало. С трудом поднявшись, я подобрал в хозяйском гардеробе неброский костюм. Нашел в комоде рубашку и галстук и одетый вышел в коридор. Дверь в гостиную была закрыта. Я открыл ее и робко заглянул внутрь. Сестра вытирала пыль – устало, механически водила рукой. Услышав, как открылась дверь, она спокойно, будто ждала меня, обернулась. На миг просветлела лицом при виде моего костюма, но тут же сказала вместо приветствия:
– Тебе пора уходить.
Как и накануне, она смотрела мимо меня, не пуская в свое сознание мысль о том, что я здесь, и оберегая свое горе от вторжения посторонних.
– Тебе что-нибудь нужно?
Я покачал головой:
– Ничего. А я могу что-нибудь сделать для тебя, Лили? Чем-нибудь помочь?
Она не ответила. Или даже не услышала. Прежде она во все вникала, теперь же научилась отбрасывать все, что не относилось к тому единственному, что полностью занимало ее чувства.
– Тебе надо побриться, – бесцветным голосом сказала она. – А потом я дам тебе денег.
Я привел себя в порядок и снова зашел в гостиную. Сестра сидела на том же месте, что и накануне, – перед фотографией. При виде меня она встала, подошла к секретеру и достала из ящика три кольца, золотые часы и несколько банкнот. Потом подошла ко мне и вложила все это мне в руку:
– Возьми. Мне это не нужно.
Я опустил деньги, часы и кольца в карман. Хотел поблагодарить, но не смог выговорить ни слова. Сестра пошла к входной двери, я, смущенный и подавленный, – за ней. Она открыла дверь, выглянула на лестницу, чтобы проверить, нет ли там кого-нибудь подозрительного. Я взял ее за плечо и, пристально глядя в лицо, еще раз спросил:
– Я ничем не могу тебе помочь?
Она подняла голову и первый раз за все время посмотрела мне прямо в глаза, да так, что у меня вся душа перевернулась. Потом молча указала на открытую дверь.
Я вышел из дома. Дождь кончился, но небо оставалось серым и хмурым. Народу на улице было очень мало. По противоположной стороне торопливо семенила седая женщина, крепко прижимая к груди пакет. Чуть дальше под аркой сидели девочка и мальчик – оба в лохмотьях, с бледными, старчески-серьезными личиками. Сам не знаю почему, может, чтобы не встречаться взглядом с этими детьми, я повернулся и быстро зашагал в другую сторону – мне было все равно, куда идти.
Через полчаса я остановился на каком-то перекрестке и попытался сориентироваться. Раньше я часто бывал в этом районе, но после бомбардировок с трудом узнавал знакомые места. Где-то тут, совсем рядом, была квартира моего приятеля, которого не призвали в армию по состоянию здоровья. Было, конечно, маловероятно, чтобы после бурных событий последнего времени он все еще жил по старому адресу, но я все-таки решил сходить туда.
Глава V
Начало
Мы дружили уже не первый год, и он был одним из самых близких моих друзей, хоть и младше меня года на три-четыре. Звали его Дзепалтовский[35]35
На самом деле речь идет о Ежи Гинтовт-Дзевалтовском, молодом скрипаче родом из Львова, с которым автор был дружен. Он действительно участвовал в Сопротивлении и погиб во время оккупации.
[Закрыть]. Когда мы познакомились, я заканчивал третий курс Львовского университета Яна Казимира, а он готовился к школьным выпускным экзаменам. Я уважал его и восхищался его музыкальным талантом – он изумительно играл на скрипке. Кроме того, в отличие от многих музыкантов, любил и другие виды искусства и хорошо разбирался в них – вот уж кого действительно можно было назвать человеком эпохи Возрождения.
Он был из бедной семьи и своим успехом обязан исключительно собственному неустанному труду, постоянным жертвам и самоограничению. Скрипка была главным в его жизни, предметом страсти и преклонения. Свой талант он считал не какой-то случайной удачей или ценным преимуществом, а божественным даром, требовавшим взамен колоссальных усилий. Он давал уроки менее одаренным ученикам музыкальной школы, где его очень любили. Бывало, я встречал его на улице: он бежал с одного урока на другой и так спешил, что успевал только помахать рукой на ходу или крикнуть «привет!» с подножки трамвая.
Заработанные таким образом деньги он тратил не на легкомысленные забавы, до которых был не охотник, а на уроки музыки и книги, благодаря которым совершенствовался как музыкант и расширял свой культурный кругозор. Такая аскетичность и принципиальность несколько осложняли его отношения с родными, друзьями и учителями. При всей своей природной робости и скромности, заставлявшей его сторониться людей и всяких общественных сборищ, он пылко верил в величайшую важность музыки, а к своей одаренности относился с нередко раздражавшим окружающих благоговением.
Достаточно было кому-то затеять спор о музыке, пошутить или посмеяться над его талантом, как застенчивый Дзепалтовский превращался в тигра и набрасывался на противника с яростью, совершенно несоизмеримой с пустячным поводом. Помню, как-то раз один наш общий знакомый, студент-историк, циничный парень и записной бабник, стал доказывать, что страсть Дзепалтовского к скрипке – просто-напросто компенсация его неуверенности в себе, и в частности в своей мужской силе. Для вящего наукообразия это рассуждение было подано под фрейдистским соусом. Дзепалтовский ответил бешеной атакой: осудил образ жизни, который вел его обидчик, и доказал, также опираясь на Фрейда, что все донжуанские подвиги, которыми тот так любил хвастаться, – не что иное, как проявление комплекса мужской неполноценности и полной неспособности поддерживать нормальные, устойчивые отношения со слабым полом. От такого натиска донжуан онемел и стушевался. Он навсегда перестал разговаривать и даже здороваться с Дзепалтовским. Большинство товарищей считали, что Дзепалтовский – неплохой парень, но уж очень категоричный, так что к нему и не подступишься. Я никогда не видел его с девушкой. Верно, душа художника целиком отдавалась Искусству и не опускалась до таких приземленных вещей, как флирт с подружкой.
Нас свел случай. В студенческие годы я с большим удовольствием участвовал в работе просветительских курсов, организованных Товариществом народных школ[36]36
Товарищество народных школ было основано в 1891 г., в ознаменование столетия польской конституции 1791 г., в Галиции (входившей тогда в состав Австро-Венгрии), где уровень неграмотности в деревнях был крайне высоким. В 1898 г. при Товариществе открылся Краковский народный университет им. Адама Мицкевича, пользовавшийся поддержкой социалистической интеллигенции. Деятельность Товарищества, по большей части сосредоточенная в галицийских городах Кракове и Львове и тесно связанная с кооперативным движением, продолжилась и в годы между мировыми войнами.
[Закрыть] для крестьянской молодежи Львовского воеводства. Цель была очень простая: сократить разрыв в культурном уровне городских и деревенских жителей.
Целых три года я каждое воскресенье ездил в польские и украинские деревни в окрестностях Львова и читал лекции по истории, польской литературе, гигиене и даже о кооперативном движении.
И вот однажды, чтобы сделать эти лекции более привлекательными, организаторы послали вместе со мной ученика музыкальной школы, который должен был, когда я закончу, играть на скрипке в поощрение тем, кто досидел до конца. Новшество имело огромный успех. Дзепалтовский играл отлично. Он исполнял Паганини, Венявского, и сельская молодежь слушала как завороженная. К тому же он был высокий и обаятельный. Когда он стоял на сцене, совершенно поглощенный игрой, его длинные волосы, бледное лицо, темные блестящие глаза производили фурор среди деревенских девушек.
Слушатели вознаградили его овацией, по сравнению с которой аплодисменты, которые обычно получал я, казались до смешного жиденькими. В глубине души я завидовал, но забота об успехе нашей просветительской работы возобладала над обидой, и мы договорились, что будем теперь по возможности ездить вместе. Послушать Дзепалтовского собирались толпы. Наши выступления имели оглушительный успех.
Мы оба страшно радовались и на обратном пути вели долгие оживленные разговоры. Говорили о важности нашей общей работы, о том, что надо всячески способствовать взаимопониманию разных слоев общества, а то польские интеллигенты судят о крестьянах лишь по книгам да фильмам.
Вскоре я оценил не только талант, но и гибкий ум моего нового друга и был поражен тем, как отважно и целеустремленно этот юноша преодолевает препятствия на своем пути: бедность и хрупкость здоровья. Все время, пока я был за границей, мы переписывались. Я знал, что он живет в Варшаве и, как всегда, исступленно работает. Не успели мы возобновить старую дружбу, как грянула война. Я был уверен: если Дзепалтовский жив и никуда не переехал, он наверняка разделяет мои мысли и чувства. И не обманулся.
Друг сердечно принял меня, хотя встреча была не очень веселой, учитывая время и обстоятельства. Он был искренне рад видеть меня живым и свободным и опасался за мое здоровье, сокрушаясь, какой я тощий и серый. Он тоже изменился, но к лучшему. И робости и дерзости в нем поубавилось. Лицо сохранило юношескую тонкость, но черты стали более мужественными и жесткими. Он тяжело переживал поражение Польши, но не отчаивался и не падал духом.
Я спросил, что делается в Варшаве. Дзепалтовский улыбнулся и с каким-то особенным, загадочным выражением ответил:
– Дела не так плохи, как многие думают.
– Но кругом такой ужас! – возразил я. – Город не узнать. Мы потеряли родину. И я не могу осуждать людей, которые настроены мрачно и пессимистично.
– Ты так говоришь, будто никто, кроме Польши, не воюет и никаких боев больше не будет, – укоризненно сказал он. – Возьми себя в руки. Сейчас не время стонать о том, что произошло, надо набраться сил и думать о будущем.
Его явно тяготило мое подавленное настроение. Или мой тон заставлял почувствовать уязвимость его позиции – ведь сам он не слишком пострадал от войны? Я решил изменить тактику.
– Конечно, – сказал я, – рано или поздно союзники победят, но нам-то пока приходится жить здесь. Люди впадают в уныние, потому что ничего нельзя сделать. Это вполне естественно.
Дзепалтовский слушал, пристально глядя на меня, а потом медленно и чуть понизив голос сказал:
– Не все поляки, Ян, покорно приняли свою участь.
Мне послышался в этих словах скрытый смысл, но какой? Я ждал продолжения, а Дзепалтовский откинулся на спинку кресла и стал тщательно приглаживать волосы. Я подивился исходившей от него спокойной уверенности. Все, кого я до сих пор видел в Варшаве, были во власти упаднических настроений. Они смирились со своим бессилием, опустили руки и не пытались сопротивляться. Дзепалтовский же, судя по всему, нашел занятие, которое давало ему удовлетворение, но я не мог угадать, какое именно.
– Чем ты сейчас занят? У тебя такой бодрый вид.
– Просто я не поддаюсь панике. Стараюсь не раскисать.
Уклончивый ответ. Настаивать было бесполезно. Он откроет мне свою тайну, когда захочет сам, или не откроет вовсе. Мой взгляд упал на его длинные, проворные, ни на минуту не замирающие пальцы. В углу высокой ровной стопкой были сложены ноты, почти скрывавшие пюпитр. Но скрипичного футляра нигде не было видно.
– А как твоя музыка? – спросил я. – Все еще берешь уроки?
Он грустно покачал головой:
– Нет. Занимаюсь понемножку, и только.
– Но это глупо, ты не должен бросать серьезные занятия. Иначе растеряешь все, чего достиг с таким трудом.
– Знаю. Но у меня нет ни времени, ни денег. Да и вообще, не так уж это важно… во всяком случае, теперь.
Да он изменился куда больше, чем мне показалось сначала! В былые времена, скажи я нечто подобное, он бы глаза мне выцарапал.
Дзепалтовский вскочил, нагнулся надо мной и участливо положил руку мне на плечо:
– Пойми меня правильно. Жить в Варшаве сейчас очень и очень нелегко. А такому, как ты, молодому здоровому парню еще и очень опасно. Тебя могут в любую минуту схватить и отправить на принудительные работы. Будь очень осторожен. Не ходи к родным. Если в гестапо известно о твоем побеге, тебе грозит концлагерь. Может, они уже тебя ищут.
– Откуда они могут узнать?
– У них много каналов. Берегись. У тебя есть какие-нибудь планы?
– Решительно никаких.
– А документы, деньги есть?
Я достал из кармана и показал ему то, что мне дала сестра. Дзепалтовский отошел к окну, постоял там в задумчивости и вернулся ко мне:
– Тебе нужны документы. Не побоишься жить под чужим именем?
– Да нет. Чего тут бояться! Но где же я возьму фальшивые документы?
– Можно достать, – лаконично ответил Дзепалтовский.
– Но я-то как достану? – настаивал я, чтобы вынудить его разговориться. – Надо кому-то заплатить?
– Ты задаешь слишком много вопросов, Ян. – Он заметил мой маневр. – А время такое, что излишнее любопытство ни к чему. Скажут – заплатишь.
Но я не внял его совету и спросил, кто же это мне скажет. Дзепалтовский будто и не слышал. Наконец я начал понимать, чего он хочет: чтобы я положился на него и без всяких рассуждений принимал то, что он предложит. Что ж, так я и поступлю. Последним моим приютом был деревенский дом, а с тех пор, как я ушел оттуда, меня носило, словно щепку по воле волн, неизвестно куда, неизвестно зачем. И только теперь, по ходу разговора с Дзепалтовским, ко мне понемногу стали возвращаться воля и трезвый рассудок. Я верил в его честность и смелость.
– Что же, по-твоему, я должен делать? – спросил я.
– Для начала тебе нужно жилье.
Он быстро подошел к стоявшему в другом конце комнаты письменному столу и что-то черкнул на бумажке. Я смотрел на него и улыбался. До чего же практичным стал мой друг – он, о ком я снисходительно думал как о витающем в облаках идеалисте.
Он протянул мне листок и дал подробную инструкцию, как я отныне должен жить:
– Прочти, запомни и порви. Это твое новое имя. Тебя будут звать Кухарский. Квартира, куда я тебя пошлю, принадлежит жене бывшего банковского служащего, который сейчас в плену. Ей можно доверять, но все же будь осторожен – и с ней, и со всеми остальными. Тебе надо привыкнуть к новой шкуре – смотри не выдавай себя! От этого зависит твоя безопасность… и моя тоже.
Все, что он говорил, и сам его тон будоражили мое любопытство. Я еле сдерживался, чтобы не засыпать его вопросами. Но он вытащил часы и посмотрел на них, давая понять, что разговор окончен:
– Уже поздно, а у меня еще много работы. Тебе пора. Иди по этому адресу. Продай одно кольцо и купи себе еды: хлеба, колбасы, спиртного. Постарайся сделать запас и как можно меньше выходи из дома. Я зайду к тебе на днях и принесу документы. Прощай и ни о чем не беспокойся. Хозяйке понадобится твой паспорт, чтобы тебя зарегистрировать, но она не будет спрашивать его, пока я не приду.
Так прошло приобщение – в тот день я, сам того не понимая, стал участником польского Сопротивления. Ничего необычайного и романтического в этом не было. Я не принимал никакого решения, не испытал прилива мужества, во мне не взыграла авантюрная жилка. Вступление в подпольную организацию было просто следствием моего визита к Львовскому другу, шагом, продиктованным отчаянием и вынужденным бездействием.
Уходя от Дзепалтовского, я не отдавал себе отчета в том, что произошло. Гнетущее чувство, терзавшее меня после встречи с сестрой, не рассеялось, но у меня появилась некоторая надежда, что еще не все потеряно. Глядя на решительность Дзепалтовского, на то, как уверенно он говорил и действовал, я начал думать, что, возможно, в будущем и сам смогу служить той же цели и заниматься тем же делом, что и он.
По указанному адресу располагалась трехкомнатная квартира, пусть не слишком роскошная, но вполне удобная. Хозяйке, пани Новак[37]37
Под именем пани Новак выведена жена Богдана Самборского, которого автор хорошо знал до 1939 г. – оба они служили в польском МИДе. После сентябрьской катастрофы Самборский бежал во Францию, в октябре 1942 г. Ян Карский встретился с ним в Лионе.
[Закрыть], было лет тридцать пять, она жила вдвоем с двенадцатилетним сыном. Должно быть, совсем недавно это была красивая, элегантная женщина. Черты лица ее сохраняли изящество, но его постоянно омрачало выражение усталости, озабоченности и тревоги. Зигмусь был очень похож на мать, которая не сводила с него нежного беспокойного взгляда. Для своих лет он казался на удивление взрослым. Оба они приняли меня очень тепло, однако ни апатичная мать, ни робкий сын не стали досаждать мне вопросами. И слава богу, потому что Дзепалтовский не сказал мне, что я должен говорить. Имя – вот и все, что я знал. А кем я должен быть в своем новом обличье, не имел ни малейшего представления.
Меня поселили в хорошей просторной комнате, только вот мебели в ней было не густо, а все украшения сводились к дешевой репродукции «Мадонны» Рафаэля на стене да старенькой красной накидке на спинке единственного кресла. Я обо всем договорился с хозяйкой, дал ей денег, чтобы она купила мне еду, и ушел к себе под предлогом того, что страшно устал.
На третий день около полудня пани Новак постучала в дверь и впустила посетителя – молоденький, лет восемнадцати, не больше, паренек принес пухлый конверт от Дзепалтовского.
– Вы пан Кухарский?
– Да.
– Это для вас. До свидания.
Я торопливо вскрыл конверт. Это были документы на имя Кухарского. Из них следовало, что я родился в 1915 году в Луке, в армии не служил по состоянию здоровья, а сейчас работаю учителем начальной школы. По тогдашнему времени это был отличный вариант – к учителям, при условии, что они не нарушали приказов оккупационных властей, немцы относились лучше, чем ко всем прочим. В конверте лежала еще записка от Дзепалтовского. Он называл адрес, куда я должен пойти сфотографироваться на паспорт, и предупреждал, что сможет навестить меня не раньше, чем через две-три недели.
«Фотоателье» помещалось в подсобке позади обычной бакалейной лавочки на Повисле[38]38
Повисле – район Варшавы между левым берегом Вислы и улицей Новый Свят.
[Закрыть], за грудой мешков и ящиков. Фотограф, похоже, все обо мне знал. В его задачу входило сделать мой портрет достаточно похожим, чтобы меня можно было на нем признать, но и достаточно расплывчатым, чтобы, если понадобится, я мог от него отказаться.