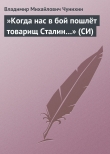Текст книги "Я свидетельствую перед миром"
Автор книги: Ян Карский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Глава II
В русском плену
Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь[19]19
17 сентября 1939 г. мэр Тарнополя обратился по радио к горожанам, призывая их благожелательно встретить войска Красной армии. Жители первых населенных пунктов на пути советских солдат тоже приняли их по-братски, обманутые обещаниями защитить поляков. Но уже к вечеру стало ясно, в чем заключается эта «защита»: все, кто носил хоть какую-то форму (полицейские, скауты, студенты, ученики лицеев) бьии задержаны и на следующий же день вывезены из города.
[Закрыть]. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад покинувшие свои дома с намерением гнать немцев до Берлина, шли теперь неведомо куда под дулами советских винтовок.
До сих пор мы шагали безучастно, а тут, под взглядами этих людей, вдруг с особой остротой осознали, какая участь нам уготована и как бесславно заканчивается наш поход. Именно тогда я в первый раз подумал о побеге. А по лицам товарищей по несчастью понял, что такая мысль зашевелилась у многих. Раньше они шли потупясь, теперь же осматривались по сторонам – искали взглядом брешь в цепочке русских конвоиров, куда можно было бы проскочить и смешаться с толпой. Колонна состояла из рядов по десять человек. Я был третьим слева. И примерно через каждые пять рядов шел вооруженный красноармеец. По воле судьбы один из них очутился в метре от меня. Я посмотрел на него, оценивая свои шансы, но он перехватил мой взгляд и свирепо сверкнул глазами. В этот самый миг четырьмя рядами дальше как будто что-то мелькнуло. У меня сильно забилось сердце. Затаив дыхание, я всматривался в то, что там происходит. Крайний в этом ряду выскользнул из строя и за спиной конвойного метнулся в толпу. Конвойный ничего не заметил. Как и другой, тот, что был рядом со мной, он слишком внимательно следил за «своими» пленными. Толпа мгновенно сомкнулась за смельчаком, а его сосед справа тут же занял пустое место в ряду. Остальные подтянулись за ним, и, поскольку ряды были не такими уж ровными, исчезновение удалось скрыть.
Все это не заняло и минуты. Но настроение пленных неуловимо изменилось: они увидели, что один из их товарищей, отказавшись от пассивного повиновения, задумал и совершил дерзкий поступок.
Когда стало ясно, что побег прошел благополучно, я наклонился к соседу и как можно тише спросил:
– Видел?
В ответ он чуть заметно кивнул. Но тут конвоир, замыкавший наш ряд, повернулся всем корпусом и уже не спускал с меня злобного взгляда. Неудача. Мало того что этот солдат все время был настороже, так он еще явно сосредоточил особо пристальное внимание на мне. Он угрожающе вскинул винтовку, готовый в любой миг пустить ее в ход, и было бы слишком опрометчиво давать ему повод нажать на спуск.
Все время, пока мы шли в сумерках, я озирался по сторонам и искал удобного случая бежать, но безуспешно. Моему воспаленному воображению всюду чудились мечущиеся тени. Темнота все сгущалась, так что точно сказать не могу: может, какие-то из теней и были реальными. Лязг танков, блеск ружейных дул в лунном свете, напряженное вглядывание в потемки – все это усиливало впечатление какой-то жуткой игры. Когда же я увидел перед собой здание железнодорожного вокзала, то окончательно понял: мне придется разделить судьбу всех несчастных пленных, какой бы она ни была.
Удрученные лица тарнопольцев говорили о том, что они знали о нашей трагедии, и это меня поразило. Они знали, что Польша раздавлена. Знали и понимали смысл происходящего лучше, чем вся варшавская интеллигенция, все мои просвещенные друзья и осведомленные коллеги-офицеры: Польша перестала существовать. И они обступили нас, чтобы помочь спастись тем ее сыновьям, которые еще могли бороться. Многие женщины принесли гражданскую одежду. Одна из них протянула пиджак солдату, приготовившемуся проскочить мимо охранников. Впрочем, бдительность их значительно ослабла. Глядя на эту женщину, мне хотелось плакать от гордости и восхищения. Я вытащил из кармана кошелек, где лежали деньги, документы и золотые часы, подарок отца. И, не поворачивая головы, чтобы не привлекать к себе внимание, левой рукой швырнул его в толпу. Только эту малость я и мог сделать для отважных тарнопольцев, мне же содержимое кошелька вряд ли бы еще пригодилось. Самые важные документы, золотой медальон с образом Остробрамской Божией Матери[20]20
Чудотворная икона Остробрамской Божией Матери находится на городских воротах в Вильнюсе. Она написана в XVI веке и богато изукрашена. В Польше чрезвычайно распространен культ Богородицы, которая даже считается «Царицей Польши». В XIX в. этот культ особенно усилился и приобрел патриотический характер как ответ на притеснения со стороны царской России. 2 июля 1927 г. состоялась коронация иконы.
[Закрыть] и немного денег, зашитых в одежду, остались у меня.
Наш жалкий марш в неизвестность окончился. Минуту спустя нас загнали в полутемный зал.
Здесь, в помещении вокзала, исчезли все шансы на побег, исчез и оптимизм, который поддерживал нас, пока мы шли по городу. В смрадном, битком набитом зале мы в полной мере ощутили накопившуюся за последние недели усталость и горечь утраченных надежд. Едва войдя, обессиленные люди садились или ложились на скамейки, ступеньки, а то и прямо на пол и засыпали свинцовым сном. Я тоже сел на пол, прислонил голову к скамейке, на которой храпели трое других офицеров, и уснул.
Проснулся я часа через два или три. Все кости ломило, хотелось есть и пить, и вообще было так худо, что дальше некуда. Офицеры на скамейке тоже очнулись и беседовали вполголоса. Первый завел обычный для последних дней разговор о том, каково истинное положение польской армии и способна ли она еще сопротивляться. Ему печальным, тихим голосом отвечал серьезного вида поручик:
– Они не лгут. Польской армии больше нет. Пускай мы не сумели оказать никакого сопротивления немецким танкам и самолетам, но почему вы думаете, что другие части были лучше вооружены? Мы оказались совершенно неподготовленными, нам нечего противопоставить немцам, – продолжал поручик-пессимист. – А в наши дни на одной храбрости войну не выиграешь. Нужны авиация и танки. Вы видели хоть один наш военный самолет? Да у немцев их, наверно, в тысячу раз больше. Со всей остальной армией случилось то же, что и с нами. Мы много дней не получали никаких приказов от командования. Почему? Потому что никакого командования больше нет.
– Полно! – вмешался третий офицер. – Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Пусть нам не повезло, это еще ничего не значит. Сейчас у нас нет контакта с основной частью армии, но вполне вероятно, что мы скоро о ней услышим. Оглянуться не успеете, как мы вернемся на фронт, и немцев вышвырнут из Польши быстрее, чем они в нее вошли.
– Что ж, – ответил пессимист. – Если оттого, что вы верите в нашу победу, вам будет лучше спаться, верьте себе на здоровье! Я не собираюсь отнимать у вас последние иллюзии.
Он говорил спокойно, веско, а потому убедительно. Поначалу я склонялся к его мнению, но нарисованная им картина была так мрачна, что мне не хотелось ее принимать. Чтобы вся польская армия была разбита за три недели – не может такого быть! В конце концов, немцы не волшебники. И вообще, мы же знаем: Варшава обороняется, по всей стране идут бои.
Утром подошел длинный товарный состав. Советские солдаты стали заталкивать нас в вагоны. Никаких документов не проверяли, устанавливать личности даже не пытались. Просто считали по головам: шестьдесят человек – полный вагон. Видимо, путешествие предстояло долгое, потому что русский офицер велел нам набрать воды из крана во все, у кого какие есть, емкости. Одновременно прибывали новые колонны пленных, создавая дикую неразбериху. Как я узнал позднее, тогда много кому удалось бежать: люди находили места, которые хуже охранялись, выбирались из здания вокзала, а там уж им помогало гражданское население Тарнополя, особенно женщины.
Я попал в один из первых подогнанных к платформе шестидесяти вагонов, и мне еще целых два часа пришлось ждать, пока заполнятся остальные. Посреди вагона стояла железная печка, рядом с ней было свалено кучей несколько килограммов угля. Из этого мы заключили, что нас повезут в холодные края, далеко на север. Всем раздали по полкило сушеной рыбы и полбуханки хлеба.
Ехали долгих четверо суток.
Каждый день поезд делал остановку на полчаса. В вагон приносили шестьдесят порций черного хлеба и сушеной рыбы. После раздачи пищи, часть из которой тут же съедалась, нам разрешали выйти из поезда на четверть часа. Мы могли немножко подышать свежим воздухом и пройтись взад-вперед по платформе, размять наконец затекшие ноги. А заодно посмотреть на местных жителей.
Уже на второй день мы заметили, что они одеты не как поляки и говорят на чужом языке. Последние сомнения исчезли: мы в России. Немногочисленные группки любопытных, по большей части женщины и дети, глазели на нас, не проявляя ни сочувствия, ни враждебности. Сначала мы не решались подойти к ним, потом кое-кто рискнул. Русские не отшатнулись, а продолжали смотреть на нас, некоторые даже улыбались. Они дали нам попить, женщины даже принесли папиросы, настоящее сокровище! Судя по всему, перед нами тут провозили других пленных, иначе откуда бы им знать, что может пригодиться.
На следующей остановке нам представился случай получше узнать, как относятся к нам русские. Посредниками и переводчиками служили двое-трое наших офицеров, бегло говоривших по-русски. Какая-то женщина протянула одному из них, здоровенному малому лет тридцати, не слишком опрятно одетому, но еще похожему на офицера, котелок с водой. Тот сердечно поблагодарил и сказал:
– Вы наши друзья. Мы будем вместе бороться с немецкими варварами и победим.
Но женщина нахмурилась и презрительно ответила:
– Вы? Вместе с нами? Вы, польские паны, фашисты?! Мы вас тут, в России, научим работать. Для работы у вас сил хватит, а чтоб угнетать бедняков – нет.
Нас словно обухом огрели. Офицер так и застыл, а молодая женщина стояла и сурово смотрела ему в глаза. Она верила в то, что говорила, как в Священное Писание. Польскому пленному, как она считала, можно было дать воды, просто по-человечески, из жалости, но «братских чувств» со стороны русских он не заслуживал. Тогда я понял, какая пропасть разделяет наши страны, такие близкие по географическому положению, этнической принадлежности и языку, но столь далекие друг от друга в силу истории и разницы политических режимов. По мнению этих людей, готовых поделиться с нами водой, именно мы, польские офицеры, были виноваты в розни между двумя странами. Мы в их глазах были сворой господ, панов-бездельников, неисправимых паразитов.
На пятый день поезд остановился в неурочное время. Мы доехали до места назначения. Вагоны открыли, нам велели выйти и построиться в колонну по восемь человек. Неподалеку виднелась деревушка, столь убогая, что ей даже не полагалось станционного здания. Только голая платформа. Несколько разбросанных домиков – вот и вся деревня.
С той минуты, как мы высадились из поезда, и в продолжение всего времени, проведенного в России, у меня не выходила из головы мысль о побеге. Я тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, забытым Богом и судьбой и видел перед собой единственную цель: вернуться в Польшу, вступить в ряды нашей армии, которая, как я, несмотря ни на что, верил, все еще ведет тяжелые бои, и отомстить за ту страшную бомбардировку в Освенциме первого сентября 1939 года.
Нас куда-то погнали, и мы побрели, под резким ветром, с трудом переставляя ноги и переговариваясь на ходу о том, что с нами будет. Те, кто постарше, как водится, вели себя мужественно и принимали свою участь достойно и безропотно. Мы же, молодые, ругались, жаловались, строили планы бунта, прикидывали шансы на побег.
Но за несколько часов изнурительного марша все мысли о побеге и бунте улетучились. Только теперь мы по-настоящему ощутили, какая страшная беда на нас обрушилась и как далеко от нормальной жизни забросило нас за какие-то три недели. Я и сам до этого не сознавал, что был решительно отрезан от всего, что мне дорого: от близких, от друзей, от всех надежд на будущее. И каждая мелочь, каждый час словно расширяли и углубляли эту пропасть. Я нагнулся подтянуть лакированные кожаные сапоги, которые больно натерли мне ноги, и вдруг увидел, как дико смотрится эта роскошь на русской дороге, покрытой коркой затвердевшей грязи. Сапожки, заказанные у Хишпанских, лучших варшавских сапожников! Я так долго ждал эту обновку! Меня мучила жажда, и я вспомнил вина, которые подавали на балу в португальском посольстве, музыку, беззаботное настроение, сестер Мендеш… Не прошло и месяца, а как все переменилось!
Наконец мы остановились на большой поляне, по краю которой росли высокие раскидистые деревья. А посередине стояло несколько бывших, судя по всему, монастырских строений: церковь, жилые корпуса, хлева, амбары[21]21
Речь идет о бывшем монастыре Оптина пустынь вблизи города Козельска Калужской области. Согласно утвержденному наркомом внутренних дел Лаврентием Берией «Положению об управлении делами военнопленных» от 19 сентября 1939 г., здесь и в семи других местах на территории страны были за десять дней развернуты лагеря для приема 126 000 польских военнослужащих, взятых в плен 17 сентября. В Козельский лагерь первоначально было направлено 5000 человек, а к 1 октября его вместимость приказано было увеличить до 10 000.
[Закрыть].
Нам зачитали в рупор на польском языке с сильным русским акцентом правила нашей новой жизни.
Прежде всего офицеров отделили от рядовых. Затем всех разбили на группы по сорок человек. К солдатам, к нашему удивлению, отношение было лучше, чем к офицерам. Русские с самого начала дали понять, что условия содержания будут тем лучше, чем ниже звание, – все наоборот! Простых солдат поселили в каменных строениях, оставшихся от церкви и монастыря, а нас, офицеров, – в деревянных бараках, переделанных из амбаров и хлевов; всего таких бараков было десять, по сорок пленных в каждом. Особо выделили полицейских и тех офицеров-резервистов, которые в гражданской жизни были судьями, адвокатами или чиновниками. Голос из рупора назвал их «угнетателями польских коммунистов и трудящихся». Остальным пленным приказали построить для них посреди монастырского двора специальные деревянные лачуги[22]22
Такая дискриминация пленных резервистов, кадровых офицеров, полицейских и гражданской элиты была прямым следствием пропагандистской кампании, которую газета «Правда» начала с 14 сентября 1939 г., и указаний, полученных Красной армией накануне «освободительного похода» во имя «социальной справедливости». По совершенно секретному приказу Берии (№ 001177) от 3 октября 1939 г., все генералы, офицеры, крупные чиновники были переведены в специальный лагерь в Старобельске (позднее – в Козельске), а жандармы, полицейские, тюремные охранники и разведчики, в количестве 6192 человек, – в Осташковский лагерь. 13 апреля 1943 г. немецкое радио объявило о том, что в Катынском лесу под Смоленском обнаружены останки 4123 расстрелянных польских офицеров, связь с которыми внезапно прервалась весной 1940 г. Немцы обвиняли в этом преступлении русских. Польское правительство в изгнании, возглавляемое генералом Сикорским, инициировало тогда расследование под эгидой Красного Креста. Сталин воспользовался этим предлогом, чтобы разорвать отношения с Сикорским и начать на Западе кампанию против него, объявив его «союзником и прислужником Геббельса». Советские власти продолжали настаивать на этой лжи даже после начала перестройки. Михаил Горбачев, вопреки мнению своих советников, отказывался признать истину, и только Борис Ельцин 14 октября 1992 г. передал наконец польскому президенту Леху Валенсе засекреченные документы из спец-архивов ЦК КПСС, в том числе решение Политбюро от 5 марта 1940 г., подписанное Сталиным и членами Политбюро, о казни 14 568 военнопленных из Старобельского, Козельского и Осташковского лагерей, а также 11 000 тысяч поляков, содержавшихся в разных местах в Белоруссии и на Украине, то есть всего 25 568 жертв.
[Закрыть].
Офицеров заставляли выполнять самую тяжелую работу. Мы валили деревья в лесу и грузили бревна в вагоны. Как бы то ни было, я не раздумывал, справедливо или несправедливо со мной обходятся. Просто старался как можно лучше приспособиться к такой жизни и даже видел в ней нечто благотворное. Большевики старались всеми средствами внушить нам, «польским панам-выродкам», что, как гласит распространенный в Советском Союзе лозунг, «любой труд почетен».
Пищу для нас готовили в огромных чугунных котлах. Отчищать их было трудно и противно, эта работа требовала больших усилий, от нее очень скоро стирались ногти и начинали болеть руки.
Русские объявили нам, что мы должны чистить котлы сами – их солдатам некогда. Тем, кто возьмется за это добровольно, будет в награду разрешено доесть остатки, которые они соскребут со стенок котлов.
В офицерских бараках вызвалось только три человека, в том числе я. Работа, конечно, была неприятная и грязная, зато в течение всех шести недель, пока я ею занимался, я питался лучше других и, как ни странно, даже получал от нее некоторое удовлетворение. Ведь я доказывал самому себе, что, если понадобится, смогу выполнять домашнюю работу не хуже любого другого.
Каждую свободную минуту я проводил со своим товарищем, поручиком Курпесем, молодым, порывистым, энергичным и готовым бежать, рискуя головой, если только появится хоть какой-то шанс на успех; мы вместе обсуждали способы побега. Выйти из лагеря не так трудно, но сесть потом в поезд совершенно невозможно, это нас и останавливало. До станции несколько часов хода, нас почти наверняка схватят по дороге. Да и поезда надежно охраняются. В общем, всякая попытка пробраться через холодную враждебную страну в наших мундирах, не зная языка, была обречена заранее. Оставалось ждать счастливого случая. И вот однажды поручик посвятил меня в свой, на первый взгляд несуразный, план.
Я шел на работу после обеденного перерыва, и вдруг кто-то хлопнул меня сзади по плечу. Это был мой приятель, запыхавшийся и пунцовый от волнения.
– Есть хорошая идея, – сказал он мне на ухо заговорщицким шепотом. – Думаю, дело выгорит.
– Какая? – так же пылко спросил я.
Но, заметив шагах в тридцати подозрительно наблюдавшего за нами русского охранника, пошел дальше и сменил тон.
– Успокойся, черт возьми, – сказал я, стараясь сохранить невозмутимость. – У тебя такой вид, будто ты собираешься взорвать весь лагерь.
Я незаметно указал ему на охранника. Он понял и зашагал рядом со мной. Теперь мы выглядели нормально: двое пленных идут куда-то по своей надобности.
Поручик рассказал мне, что готовится обмен военнопленными в соответствии с пактом Молотова – Риббентропа. Согласно одной из его статей, обмену подлежали только рядовые. Немцы отпустят в Россию всех украинцев и белорусов, а русские перешлют в Германию всех граждан Польши немецкого происхождения, а также уроженцев польских территорий, включенных в состав Третьего рейха на том основании, что это «исконно германские земли»[23]23
На самом деле в пакте Молотова – Риббентропа ничего не говорилось о пленных. Но 28 сентября 1939 г. был подписан еще один германо-советский договор «О дружбе и границе», в секретных дополнительных протоколах к которому были подкорректированы установленные 23 августа «сферы интересов» СССР и Германии, установлена «окончательная» граница и оговорено, что СССР не будет препятствовать желанию этнических немцев и других лиц немецкого происхождения эмигрировать в рейх. Это касалось прибалтийских немцев, колонистов и недавних беженцев. Обмен военнопленными, о котором идет речь, был следствием одного из протоколов и инициатив советского и немецкого военного командования. 11 октября Берия получил предложение от штаба 4-й немецкой армии отправить в СССР около 20 000 пленных украинцев и белорусов; в свою очередь, Берия написал Молотову о необходимости «скорейшего возвращения немецким властям пленных солдат, уроженцев немецкой части бывшей Польши, в количестве 30 000 человек». 18 октября немецкий военный атташе в Москве генерал Костринг предложил произвести обмен. Первоначально были намечены три пункта приема пленных: Брест-Литовск и Хелм – для пленных, переправляемых в СССР, и Дорохуск – для подданных Германии. Позднее прибавили еще пограничный Пшемысль. Операция по обмену должна была начаться 20 октября, но, поскольку немцы не проявляли большого рвения, она началась чуть позже и растянулась с 24 октября до 15 ноября. В общей сложности из СССР на территорию рейха было переправлено от 43 000 до 44 500 военнопленных, немцы же переслали около 17 000 человек.
[Закрыть].
– Отлично! – усмехнулся я. – Значит, через неделю я буду танцевать в Варшаве на балу! Остается превратиться в рядового, поменять свидетельство о рождении, убедить русских и не загреметь в гестапо. Все проще простого – и как это я сам не догадался!
– Янек, я считал, ты умнее. Надо выбираться отсюда как можно скорей.
– Ну ладно. Давай подумаем, что из этого можно извлечь. Какие территории они там присоединили к своему рейху? Лодзь в него входит?
– Да. Видишь, тут все просто. У тебя есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что ты там родился?
– Есть. Свидетельство о рождении, немножко потрепанное, но выправленное как положено. А у тебя?
– Место, где я родился, не удостоилось чести быть включенным в Третий рейх. Но я с этим потом разберусь. Давай пока займемся твоим случаем. Тебе остается только стать солдатом, а это легко. Я вообще не понимаю, как тебя занесло в офицеры!
– А я не понимаю, как я могу сойти за солдата. Форму не переделаешь, а другой у меня нет. Разве что украсть?
– Зачем красть! Попроси! Можно найти солдата, который не может или не хочет возвращаться, и если в нем есть хоть капля патриотизма или простой человечности, он согласится поменяться с тобой формами. Сделать это надо за пределами лагеря, в лесу, во время работы, так что ты вернешься уже переодетым – вот и все!
План казался безупречным, по крайней мере, он позволял вырваться из России. Русские охранники никогда не проверяли пленных по именам и документам. Пересчитывали – и все. Если я уговорю кого-нибудь из солдат – а я был уверен, что это нетрудно, – то подмену одного человека другим и одной формы другой никто не заметит. А уж по возвращении в Польшу – будь что будет! Очутиться там было бы невыразимым счастьем, и я ничуть не сомневался, что найду способ присоединиться к действующей польской армии.
– А как же ты? – спросил я. – Тебе нужно достать свидетельство о том, что ты родился на присоединенной к Германии территории. Вряд ли кто-нибудь захочет отдать тебе свое. Что ж ты будешь делать?
– Остается одно из двух: или достать такой документ, или попробовать и без него уломать советских начальников. Я понимаю, о чем ты думаешь. Если у тебя все получится, ты должен ехать без меня! А для меня можешь сделать вот что: когда поменяешься формой, надо будет идти к начальству и просить, чтобы тебя отослали в Германию. Так вот, последи, как поведет себя офицер, насколько внимательно он будет проверять документы и так далее. А я уж буду действовать исходя из этого.
Мы подходили к баракам. Мне надо было на кухню, ему – в свой барак, а потом на работу в лес.
– Ну, прямо сейчас и возьмусь за дело, – сказал я с бьющимся сердцем и, чтобы заглушить чувство вины перед поручиком за то, что у меня все складывается так удачно, прибавил: – Надеюсь, уже к вечеру смогу тебе что-нибудь рассказать.
Он улыбнулся и помахал на прощание рукой.
На кухне рядом со мной работал толстый крестьянин-украинец по фамилии Парадыш; он был немного выше меня, примерно того же возраста; мы неплохо ладили. Он сразу заметил, что я взбудоражен, и спросил почему. Я ответил, что мне нужна его помощь, что это очень важно, и, пока мы драили котлы, рассказал весь план действий. Идея ему понравилась, он согласился не раздумывая. Во-первых, он не верил в посулы немцев и не согласился бы на обмен, даже если бы имел на него право, а во-вторых, ему очень хотелось мне помочь. Решено было проделать все во второй половине дня на лесоповале, где работали и солдаты и офицеры.
Когда мы шли на вечернюю работу в лес, я затесался в тот отряд офицеров, который был ближе к выходящим из бывшей церкви солдатам. Охраняли нас не очень тщательно – русские понимали, что если кто-нибудь и сбежит из лагеря, то далеко не уйдет. По дороге я заметил, что мой друг Парадыш примкнул к самому ближнему к нам отряду солдат. Мы шли метрах в двадцати друг от друга, и между нами никого не было. Проходя мимо толстенного дерева, украинец указал на него рукой. Я кивнул.
Еще пара минут – и мы добрались до места работы. Я замахнулся топором и рубанул по лежавшему передо мной стволу, снова поднял топор и осмотрелся. Охранник находился от меня метрах в ста, других поблизости не было. Я отшвырнул топор и, стараясь не шуметь, побежал к дереву, которое показал мне друг. Он уже стоял за ним, полураздетый. Я бросился на землю и стал стягивать с себя форму.
– Слов нет, как я тебе благодарен, – смущенно выговорил я, снимая китель и рубашку.
– Ладно, помалкивай, – усмехнулся украинец. – И не переживай. Я даже не собираюсь жить с твоими офицерами. Надевай мою форму – назад пойдем вместе. Когда дойдем до церкви и нас пересчитают, ты входи, а я приотстану. Проскочу мимо охранников немного погодя. Документы у меня есть, а доказать, что я солдат, легче легкого – сорву погоны, и твоя форма сойдет.
– Отлично! – сказал я. – Хотя офицеры не такие уж плохие.
– А я и не говорю.
– Спасибо, спасибо тебе!
Мы переоделись. Сорвав знаки различия с моего кителя, солдат Парадыш быстро закопал их в землю. И мы оба поспешно вернулись на свои места. Чтобы справиться с лихорадочным волнением, я орудовал топором как бешеный. Когда настало время возвращаться в лагерь, я пошел налево и смешался с солдатами. Их предупредили о моем появлении, так что никто меня ни о чем не спрашивал. У входа в церковь охранники проверили, сколько нас. Мой друг отстал и вскоре залез внутрь через маленькое неохраняемое окошко. Все прошло как по маслу. Теперь я был рядовым.
На следующее же утро я сказал охраннику, что хочу поговорить с комендантом лагеря. Узнав, по какому поводу, охранник повел меня в один из оборудованных в здании церкви кабинетов.
За столом сидел и что-то писал немолодой офицер. Он посмотрел на меня, зевнул, потянулся, заглянул в мои документы и спросил:
– Как зовут? Что надо?
– Рядовой Козелевский, бывший рабочий, родом из Лодзи.
– Ну и что ты хочешь?
– Вернуться на родину, пан комендант.
– Ладно. Я запишу. – Он уже отпустил меня, но вдруг передумал и небрежно спросил: – Чем ты можешь подтвердить место рождения?
Я показал ему свидетельство. Он мельком на него взглянул, взял листок бумаги, что-то на нем написал и усталым жестом положил на место. Потом снова зевнул, потянулся и потер глаза. Наверно, я невольно хмыкнул, глядя на него, потому что он вдруг взвился и заорал:
– Нечего тут торчать!
Меня отвели обратно. Я еле сдерживал ликование и с трудом сохранял спокойный вид. После обеда я отыскал в лесу поручика Курпеся, все ему рассказал и заверил:
– Этого без всяких документов легко убедить. Он и сам рад выпроводить всех, кого можно.
Поручик тоже так думал.
– Все-таки я попробую в ближайшие дни раздобыть документы, – сказал он. – Не стоит лишний раз рисковать.
– Хорошо бы мы поехали вместе.
– Да, если я успею к ближайшей отправке. Если же нет, встретимся в Варшаве. Тебе лучше ехать не откладывая. На случай, если больше не увидимся, прощай! Желаю удачи!
– Постарайся успеть. Тебе тоже удачи, будь осторожен!
С тех пор я его не видел. Уже на следующее утро меня отправили тем же путем, каким я ехал полтора месяца назад, только в обратном направлении, в составе двух тысяч солдат, которых русские меняли на такое же количество украинцев и белорусов.
Кто-то из тех, кого так же обменяли, потом сказал мне, что ехал вместе с Курпесем. Это все, что мне о нем известно. Больше наши пути не пересекались.