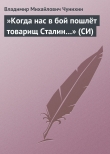Текст книги "Я свидетельствую перед миром"
Автор книги: Ян Карский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
До меня дошло, что я уж слишком распалился, и я понизил голос:
– Кроме того, я призову этих поляков вспомнить историю своей страны. Приведу примеры самых страшных зверств гестапо и постараюсь убедить, что, несмотря на варварские, безжалостные методы нацистов, они все равно проиграют эту войну.
– А кому и куда ты разошлешь этот шедевр?
– Мы прочешем все справочники, отберем фамилии, звучащие на польский лад, и составим свой собственный список. Потом передадим его и копии письма ячейкам Сопротивления, которые работают на территориях, присоединенных к рейху. Они размножат письмо в тысячах экземпляров и разошлют тем, кто значится в списке.
– Так просто! – с издевкой воскликнула Данута. – А как эти твои письма дойдут до адресатов? На крыльях мечты? Или с почтовыми голубями?
– Ни то, ни другое. Гораздо проще использовать те средства, которые предоставляют нам немецкие власти. Поскольку нацисты считают, что присоединенные к рейху области Польши теперь составляют неотъемлемую часть Германии, нам останется только надписать адреса на конвертах, наклеить марки и отнести письма на почту. Внутри рейха почтовой цензуры практически нет.
Несколько дней мы с Данутой трудились без передышки, пока не доделали все до конца. Люциан в свой очередной приход был очень доволен и похвалил нас. Но что-то, казалось, омрачало его радость. В конце концов я оборвал свой отчет и сказал:
– Ты еле слушаешь, Люциан. Мысли у тебя заняты чем-то другим, более важным. Скажи, если можешь, в чем дело?
– Ты знаешь Булле? – вопросом на вопрос ответил он.
– Фамилия вроде бы знакомая, но кто это такой, не знаю.
– Не знаешь, кто такой Булле? – вмешалась Данута. – Как ты мог ничего о нем не слышать! Эту тварь знает вся округа! Мерзкая свинья…
– Тише, Данута. Откуда ему знать? Ты взъелась на Витольда, как будто он отвечает за Булле.
Он повернулся ко мне – я заметил, что лицо его исказилось от отвращения.
– Булле – фольксдойче. – Он произнес это слово сквозь зубы, словно страшное грязное ругательство, и, презрительно скривившись, закурил. – Один из худших.
Термин «фольксдойче» был необходим нацистам для реализации расовой доктрины, в Польше оккупанты преследовали двоякую цель: денационализировать страну и унизить поляков. Поначалу речь шла только о польских немцах, живущих в той трети страны, которая, по словам гауляйтера Форстера[103]103
Альберт Форстер (1902–1952) – гауляйтер (глава областной организации национал-социалистической партии) образованной Гитлером области Данциг – Западная Пруссия, организатор германизации оккупированных польских территорий и репрессий в отношении поляков и евреев.
[Закрыть], «испокон веков была немецкой, пока поляки не полонизировали их, действуя силой и страхом». На этой территории насаждалась исключительно немецкая культура, немецкий язык, работали исключительно немецкие школы и учреждения. Был издан указ, согласно которому тут имели право остаться только те, кто говорит по-немецки, посылает своих детей в немецкие школы и так или иначе служит Vaterland[104]104
Родине (нем.).
[Закрыть].
Большая часть проживавших в Польше до начала войны немцев поспешили обзавестись документами, доказывавшими немецкое происхождение, и получить статус рейхсдойче. Подавляющее большинство польского населения решительно отказались воспользоваться «великолепной возможностью выразить свою солидарность с рейхом». Они продолжали говорить по-польски и не спешили изучать немецкий. Нацисты, видя, что их великодушное предложение не пользуется спросом, решили сделать некоторые уступки. Каждый, у кого в роду была хоть капля немецкой крови, мог, обратившись в нацистские службы по расовым вопросам, получить такой же, как у немцев, пищевой рацион и различные привилегии, а после войны претендовать на немецкое гражданство. Но и этим соблазнительным предложением, к разочарованию оккупантов, воспользовалась лишь жалкая горстка поляков. Они-то и назывались фольксдойче. Нацисты прилагали все усилия, чтобы увеличить их количество, даже готовы были вовсе пренебречь чистотой расы. Перспектива стать немцами и возможность уже сегодня практически даром получить немалые блага в виде особого продуктового пайка или права на получение швейных изделий была теперь доступна почти для всех. Однако изменников, прельстившихся всеми этими поблажками, пайками и сладкими речами, все равно нашлось очень мало.
Фольксдойче были окружены всеобщим презрением. Их считали или предателями, или ничтожествами. Разумеется, я разделял эти чувства. И все же отношение Люциана к этому Булле удивило меня. Реплика Дануты могла объясняться ее пылким темпераментом. Было, однако, ясно, что и Люциан так же люто его ненавидит, но не дает воли эмоциям, следуя неукоснительному правилу подпольщиков всегда держать себя в руках, – иначе им бы очень быстро пришел конец.
– Почему ты так его ненавидишь? Чем этот подонок хуже других таких же?
Люциан уже справился с собой и ответил спокойно и рассудительно:
– Одного презрения недостаточно, чтобы обезвредить фольксдойче. Да, многих остановит общественное осуждение и то, что от них отвернулись соседи. Но некоторым на это плевать. И они по-настоящему опасны. Против них нужны более энергичные меры. Булле из их числа.
Данута сжала кулаки, лицо ее перекосилось от гнева.
– Эту гадину нужно казнить, – сказала она. – Булле не просто фольксдойче. И даже не просто предатель. Он всюду шныряет, спаивает крестьян, развязывает им языки, запудривает им мозги новинками мерзкой нацистской пропаганды и склоняет их сотрудничать с немцами. Все знают, что он доносит в гестапо на наших товарищей…
Люциан оборвал сестру:
– У нас нет никаких доказательств.
– Доказательства, доказательства! – Данута воздела руки к небу. – Какие тебе нужны доказательства? Хочешь, чтоб он собственной рукой написал и вручил тебе свое признание? Не будь наивным, братец!
– Нам нужны доказательства. Мы не имеем права действовать как нацисты и казнить людей, чья вина не доказана. Рано или поздно Булле себя выдаст. Когда это произойдет, мы им и займемся.
Дануту такой ответ не устраивал, но брат не дал ей возразить, сменив тему разговора:
– Так вот, Витольд, идея с письмом была отличная, и ты блестяще ее осуществил, а что дальше? У тебя есть еще какой-нибудь план?
– Есть. Это, конечно, совпадение, но я тоже размышлял о фольксдойче. Я бы хотел кое-что предпринять и позаботиться о том, чтобы они получили по заслугам.
У Дануты глаза заблестели от радости.
– Вот уж тут я помогу тебе с величайшим удовольствием! Но что именно ты собираешься делать?
За меня ответил Люциан:
– Думаю, Витольд хочет использовать метод записи в добровольцы. Я угадал?
– Угадал. Этот метод был успешно применен в Германии и кое-где в Польше. Можно попробовать и здесь сделать то же самое.
И снова закипела работа. Данута усердно мне помогала. Ей было поручено собрать и сверить списки фольксдойче, я же пустил в ход все свои литературные способности и выступил в новом жанре.
На этот раз я писал не воззвания к польскому народу, призывающие к сопротивлению, а письма нацистским властям, в которых выражалось горячее желание сотрудничать с ними. Каждое письмо было подписано именем какого-нибудь фольксдойче. Чтобы хитрость не раскрылась, послания должны были отличаться друг от друга. Вариантов было много, но центральный тезис один, подходящий для всех нацистских неофитов:
Фюрер пробудил во мне сознание причастности к германскому народу, поэтому обращаюсь к Вам со следующим прошением. В настоящее время я служу великому рейху в качестве земледельца (торговца, полицейского и т. д.). Но не могу больше оставаться пассивным свидетелем того, как мои героические немецкие братья приносят себя в жертву. Я хочу лично участвовать в действиях славной немецкой армии и настоящим письмом изъявляю просьбу удостоить меня чести быть зачисленным в ряды вермахта. Для меня будет огромным счастьем служить в Вашей армии. Надеюсь, мои патриотические чувства будут в ближайшее время вознаграждены приемом в воинскую часть и отправкой на фронт…
Это и был метод «записи в добровольцы». Такие прошения отправлялись в оккупационные органы власти от имени фольксдойче. Для вящего правдоподобия мы старались не повторяться. Письма различались по стилю, деталям, адресам получателей, но суть была одна: новообращенный нацист приносил самого себя в дар своим «господам».
Когда Данута, с такой радостью одобрившая мою затею, прочитала первое письмо, восторга у нее сразу поубавилось. Потрясенная до глубины души, она смотрела на меня с необычной серьезностью. Я понимал: при всей своей ненависти к гнусным предателям из числа фольксдойче, при всем презрении к их подлости, она считала, что проделывать с ними такой трюк слишком жестоко.
– Я знаю, что творится у тебя в душе, Данута, – сказал я ей. – Ты думаешь, что мы не должны опускаться до таких методов. Но надо исходить из реального положения вещей и учитывать, сколько вреда могут принести нам эти люди. Только с помощью подобных приемов мы можем расстроить планы нацистов. Иначе у нас ни малейших шансов победить… Кроме того, это приказ.
Данута успокоилась и насмешливо перебила меня:
– Когда ты только приехал, Витольд, то из тебя за день двух слов было не вытащить. Всего месяц на свежем воздухе – и пожалуйста, такое красноречие! А через два, глядишь, будешь произносить длинные речи не хуже самих нацистов.
Вызвавшись заняться пропагандистской работой, я не ожидал, что она примет такой размах. Я еще не совсем поправился, а несложные проекты, за которые я взялся, разрослись до такой степени, что требовали немалых сил. Изначально мы хотели только оздоровить обстановку в стране: поддержать моральный дух польского населения и наказать предателей и трусов.
Но каждая идея порождала другие, которыми нельзя было пренебречь без ущерба для общего дела. Таким образом, с согласия и при помощи руководства Сопротивления, я с головой погрузился сначала в сочинение бесчисленных писем и памфлетов, а потом и в издание газет и прочей периодики. На мне лежала ответственность за составление пропагандистских текстов самого разного характера. Это был опыт нелегкой, но увлекательной политической и литературной работы. Приходилось тщательно подбирать каждое слово – ведь документы должны были выглядеть так, будто они исходят от всевозможных тайных немецких организаций: либеральных, социалистических, католических, коммунистических и даже нацистских. Таков был главный технический принцип нашей агитации: все наши памфлеты, прокламации и даже агитационные листки распространялись от имени какого-либо фиктивного сообщества, защищавшего то католическую этику, то традиции немецкого парламентаризма, то международную солидарность трудящихся, то личную свободу. И каждый текст выдерживался в стиле и духе соответствующих учений и вождей. Очень скоро я стал выдыхаться, как перегруженный множеством ролей актер. К тому же я чувствовал себя как на углях – малейший промах мог загубить все дело.
Эта пропагандистская система, имитирующая немцев, оказалась весьма успешной. Совсем осмелев, мы стали замахиваться на все более и более масштабные проекты. Дошло до того, что две издаваемые Сопротивлением газеты проникали в немецкую армейскую среду не только на территории Польши, но и собственно в Германии, в самом сердце Третьего рейха. Одна из них якобы была органом немецких социал-демократов, другая представляла ярых националистов[105]105
Речь идет о газетах Der Hammer и Der Front-Kampf, издававшихся на немецком языке и распространявшихся в немецкой армии в целях ее морального разложения. Они содержали критику нацистских властей и самого Гитлера, с которой якобы выступала некая оппозиция из высших военных кругов Германии.
[Закрыть].
Я склонен думать, что широко разошедшиеся слухи о том, будто в Германии существует сильное оппозиционное движение, были не чем иным, как результатом нашей работы. За время войны я много раз бывал в Германии, успел довольно обстоятельно изучить тамошнюю обстановку и ни разу не заметил ни следа хоть сколько-нибудь влиятельного движения, враждебного нацистскому режиму. Допускаю, что нацисты сумели упрятать в лагеря все немецкое Сопротивление, но в таком случае это не делает чести немецким подпольщикам.
Помимо этой лихорадочной деятельности я должен был время от времени объезжать поместье, а перед этим для распознавания овощей каждый раз приходилось зазубривать их цифровые обозначения по изобретенной мною системе. Но труды и старания, которые нужно было приложить, чтобы выполнять эти агрономические турне, понемногу окупались: во-первых, я пополнял свой скудный багаж сельскохозяйственных знаний, во-вторых, завоевывал доверие и расположение местных жителей. Даже ледяное отчуждение старого кучера и то стало подтаивать.
И все же, хоть я уже не так боялся оплошать, как поначалу, эти поездки увеличивали мою и без того чрезмерную нагрузку. Силы, накопленные за три недели отдыха, быстро истощились. Я стал мрачным и раздражительным. Данута не раз настаивала, чтобы я сбавил темп и несколько дней передохнул. Кухарка укоризненно смотрела на меня и ругала за то, что я плохо выгляжу, как будто я был поросенком, которого она никак не может откормить. Она неустанно пичкала меня всякими вкусными вещами и поила отварами для возбуждения аппетита. И я наконец уступил этому двойному давлению, тем более что и сам понимал: еще немного – и я могу сорваться. Я обещал несколько дней ничего не делать, гулять и есть все, что подадут.
После этого я старался раз в неделю устраивать себе выходной. Но так втянулся в работу, что с трудом выдерживал сутки праздности. Пришлось приучаться к строгому систематическому отдыху, заставлять себя лежать, читать, болтать, в то время как голова была занята совсем другим. Однажды, сидя у выходящего в сад окна и лениво листая книгу, я услышал знакомый легкий стук в стекло, означающий, что пришел Люциан. Я обрадовался возможности прервать томительное безделье и побежал встречать его. К моему изумлению, Люциан привел с собой какого-то незнакомого человека.
Он был молод, невысок ростом, но крепкого сложения. Загорелое лицо могло показаться совсем юным, если бы не глубокие складки, которые обычно появляются в зрелые годы. Одет он был как обычный сельский житель, выглядел по-крестьянски грубоватым, но совсем не простачком.
Я сразу понял, что это подпольщик – помимо того, как и с кем он явился, об этом говорил отработанный острый взгляд, которым он окинул комнату. Держался он уверенно, на меня взирал совершенно бесстрастно. Я вопросительно посмотрел на Люциана. В его спутнике было что-то особенное, странное. Они с Люцианом совсем не подходили друг другу. Лицо незнакомца напоминало каменную маску. В нем читалась решительность и даже жестокость.
Глава XVIII
Приговор
Мы все трое стояли, безмолвно вглядывались друг в друга. Я считал, что сломать лед должен Люциан, и решил: если он, вопреки элементарной вежливости, будет молчать, то и я не раскрою рта. Однако тишина становилась все более гнетущей, и я уже хотел сказать Люциану какую-нибудь колкость, как вдруг, к моему удивлению и возмущению, он потянул своего молодого товарища за рукав и отошел с ним в угол. Они пошептались и снова подошли ко мне. Меня такое поведение здорово разозлило, и я резко сказал:
– Если я вам мешаю, Люциан, я могу уйти.
Люциан посмотрел на меня с неподдельным изумлением.
– Мы не хотели показаться грубыми, Витольд, – ответил он извиняющимся тоном. – У нас очень срочное дело, и мы забыли о правилах приличия. Познакомься, это Костшева.
Костшева по-детски открыто улыбнулся и снова уставился на меня своими широко раскрытыми глазами. Он, не таясь, оценивающе ко мне присматривался.
– Я видел вас в деревне, – непринужденно сказал он наконец. – Рад познакомиться.
Этот человек мне понравился, но раскусить его было трудно. На вид простодушный и бесхитростный, однако явно отважный и себе на уме. Такого не проведешь, подумал я, и этим мои наблюдения исчерпывались. Люциан небрежно спросил, не могу ли я оказать ему одну услугу.
– Разумеется, – ответил я. – А что надо делать?
– Да ничего особенного. У нас тут есть небольшое дельце, которое мы собираемся через денек-другой уладить, и нужно, чтобы кто-нибудь посторожил.
Такой скупой ответ меня задел. Мне казалось, что я мог бы рассчитывать на большую откровенность.
– И больше ты ничего не прибавишь?
– Мне нечего прибавить. Все, что от тебя потребуется, – это спрятаться за деревом, а если кто-нибудь появится, просвистеть условный мотив. Ты согласен?
– Само собой. И когда это будет?
– Через день или два. Мы дадим тебе знать, – сказал Люциан, а потом быстро подошел к окну и вылез в сад. Костшева последовал за ним.
Я смотрел им в спину, злясь на них обоих и на самого себя. Сколько я ни ломал голову, но угадать, что за дело нам предстояло, был не в состоянии.
Спустя два дня Люциан пришел один. Я понял, что готовится что-то очень важное. Не то чтобы Люциан волновался, – нет, он достаточно владел собой, но я повидал много людей в подобные решительные моменты, так что его напускное спокойствие не могло меня обмануть.
Я смотрел на его блуждающую улыбку и чувствовал, что у меня колотится сердце и руки становятся горячими и влажными.
– Итак, это будет сегодня?
– Да, – негромко ответил он. – Надень резиновые сапоги. Трава мокрая.
Я пошел в свою комнату, но он остановил меня и оглядел с ног до головы:
– Переоденься во что-нибудь темное. Ты должен быть незаметным.
– Ладно. Сейчас.
Люциан уселся в кресло, которое бессознательно выбирал всегда, когда нервничал. Я глянул на него: он насупился, на скулах заходили желваки, зажженная сигарета застыла в руке. Я пошел наверх, быстро надел темные брюки, свитер, куртку и вернулся в гостиную.
Люциан раскачивался в кресле.
– Вот это лучше, – сказал он. – Ты готов?
Ответить я не успел – Люциан ринулся к черному ходу. Я – за ним. На тропинке за домом он остановился и положил руку мне на плечо. Долго всматривался в темноту и, уверившись, что за нами никто не следит, рванул вперед. Было холодно и сыро. Я поднял воротник куртки и бесшумно пошел рядом с Люцианом. Мы держались края тропинки, стараясь оставаться под кронами деревьев. Пройдя с километр, Люциан сошел с тропинки и свернул в лес. Потом мы вышли на луг с густой мокрой травой и быстро зашагали, описывая широкую дугу. Я понял, что мы обходим деревню, чтобы зайти в лес с другой стороны. Километра три шли полями позади дворов и действительно снова очутились в лесу. Люциан ни разу не сбился в потемках с пути и уверенно шел первым. Я еле поспевал за ним, ковыляя по узкой тропе, которую он прокладывал меж деревьев, кустов и корней. Еще один мучительный километр, и Люциан остановился.
Тут росли густые кусты, видимо облюбованные заранее, Люциан бросился на землю за ними. Место было выбрано превосходно. Отсюда хорошо просматривалась дорога, а нас с дороги было не видно. Сзади тоже никто не мог подойти – мы бы услышали шаги. В случае внезапной тревоги мы могли легко ретироваться и затеряться среди деревьев. Все эти тщательно продуманные предосторожности еще больше убеждали меня, что речь идет о чем-то очень важном.
Я сидел на траве, а Люциан стал ходить взад-вперед, бдительно глядя на дорогу. Я устал и продрог. Таинственный вид Люциана и полное невнимание ко мне выводили меня из терпения. Я крепился сколько мог, и все же меня прорвало.
– Послушай, Люциан, – выпалил я, – какого черта ты темнишь? Тащишь меня невесть куда – ладно, я не против, но хотелось бы хоть примерно знать, чего ради! Сколько мне еще тут торчать? Плевать, можешь не говорить, что будет, скажи когда!
Он ошарашенно посмотрел на меня:
– Что с тобой? Тебе нехорошо?
– Нехорошо? Нет, просто объясни, если не трудно, зачем мы сюда пришли.
– Да я уж объяснял. Пустячное дело, не о чем и говорить.
– Нет уж, все-таки скажи!
– Ну хорошо, скажу, только потом, не сейчас.
Он продолжил наблюдение. А я мрачно нахохлился. Я чувствовал себя осмеянным, униженным, но ничего не мог поделать. Когда Люциан сел отдохнуть со мною рядом, я снова пристал к нему с вопросами:
– Ты так и не скажешь, что происходит? Но почему? Ты мне не доверяешь?
Он поморщился и досадливо тряхнул головой:
– Вот именно. Мы тебе не доверяем…
Я возмущенно вскочил:
– Что?!
– Сядь. Дай мне договорить. Ты не так понял. Мы знаем, что ты предан делу и достоин доверия. Но у тебя слишком доброе сердце. Рисковать же мы не можем. А теперь успокойся. Тихо! Это приказ!
Я обуздал свое самолюбие и хмуро повиновался. Потянулись тягостные минуты. У меня затекли ноги, я хотел встать и размять их, но Люциан властным жестом остановил меня. По дороге кто-то шел. Тишину разрывал грохот подкованных ботинок по камням – казалось, шумели нарочно. Вдруг я с изумлением услышал, что идущий засвистел наш условный мотив. Я вопросительно покосился на Люциана, но он оставался непроницаемым.
И вот наконец этот человек очутился в поле нашего зрения. В свете луны, еще и ослабленном облаками, мне показалось, что он похож на Костшеву, но полной уверенности не было.
Поравнявшись с кустами, он, не замедляя шага, бросил взгляд в нашу сторону. Я не спускал глаз с Люциана, пытаясь разгадать смысл происходящего. Он же со странной усмешкой на губах смотрел теперь не на человека на дороге, а в ту сторону, откуда тот пришел. Я посмотрел туда же и вскоре разглядел в темноте на обочине другого человека, перебегавшего от дерева к дереву, явно преследуя Костшеву, если это был он.
Люциан тяжело и часто задышал. У меня бешено забилось сердце. Преследователь вышел на середину дороги как раз напротив того места, где мы прятались. Люциан медленно, осторожно встал, поманил меня рукой, и мы оба, пригибаясь, двинулись вдоль дороги параллельно тому человеку, пропустив его метров на двадцать вперед. На минуту мы замедлили шаг, и я потерял преследователя Костшевы из виду. Но вдруг в кустах послышался шум борьбы: шуршали листья, трещали ветки. Люциан застыл и в крайнем возбуждении вцепился мне в плечо.
– Оставайся здесь, – чуть слышно шепнул он. – Если кто-нибудь появится, просвисти нашу мелодию и быстро прячься.
Он ринулся на дорогу и исчез. Я еле удержался, чтобы не побежать за ним, но у меня была другая задача, и, как это было ни прискорбно, я остался на месте. С четверть часа я озирал дорогу и окрестности, ловил каждый звук, а в голове теснились горькие мысли – было обидно за себя и тревожно за товарищей. Наконец я увидел медленно приближающуюся фигуру – это был Люциан. Лицо его было очень бледным. А когда он подошел, я увидел капли пота у него на лбу. Вид его так меня обеспокоил, что я предложил ему переночевать в усадьбе. Опасность минимальная, уже поздно. Но он огрызнулся:
– Нет уж, я не такой дурак. – Потом, смягчившись, прибавил: – Прости, Витольд. Не обижайся. Я все объясню тебе дома, через пару дней.
Люциан, шатаясь от усталости, побрел через поля, а я пошел по тропинке обратно, тоже совершенно обессиленный и мечтая поскорее лечь. Вот и дом, и дверь моей комнаты. Я открыл ее и отпрянул – там горел свет! Оказалось, это Данута. Она меня дожидалась. Ни удивляться, ни сердиться у меня уже не было сил. Данута тревожно спросила:
– Что-нибудь случилось?
– А разве что-то должно было случиться? – язвительно ответил я.
Данута умирала от беспокойства, но утешать ее я не мог.
– Ты уверен, что тебе нечего сказать? – В голосе ее звучала мольба.
– Совершенно.
– Ну пожалуйста, мне надо знать!
– О чем ты?
– О том, что произошло этой ночью, конечно!
– По-моему, скорее ты мне можешь это рассказать. Уж верно, ты знаешь больше, чем я.
– Ничего я толком не знаю. Знала бы – не стала бы тебя спрашивать.
– Я слишком устал, чтобы разгадывать загадки, – сухо сказал я и шагнул к кровати.
Данута укоризненно посмотрела на меня и вышла.
Меня уколол стыд, но я уже валился с ног. Не раздеваясь, улегся и мгновенно заснул.
На другой день проснулся поздно. Никого не хотелось видеть. От вчерашней ночи в душе был тяжелый осадок из стыда, страха, досады и унижения. Я оседлал лошадь и скакал верхом до самого обеда.
За столом все чувствовали какую-то неловкость. Мы с Данутой старались не смотреть друг на друга. Я ел без аппетита, лишь бы поскорее закончить и уйти к себе. Но вдруг в столовую вбежала кухарка и, захлебываясь от волнения, закричала:
– Слыхали, слыхали? Этот сукин сын, Булле, ночью наложил на себя руки!
Я подошел к ней и взял за плечи:
– Успокойся! Сядь и расскажи без спешки, что случилось.
Она принялась рассказывать, то и дело прерываясь, как школьница у доски, старательно припоминающая урок:
– Он повесился на дереве… лесник его нашел, когда пошел в лес за дровами… он оставил записку… написал, что больше не может подло шпионить и доносить, раскаивается во всем, что сделал… ругает немцев… и просит прощения у односельчан.
Я слушал, потрясенный до глубины души. Не было никакого сомнения, что это известие напрямую связано с событиями прошлой ночи. Я посмотрел на Дануту в надежде что-нибудь понять по ее лицу. Но если она что-то и знала, то виду не подала.
– Очень рада, что он повесился, – сказала она ровно и холодно. – Это послужит уроком для других фольксдойче.
Естественно, в деревне только об этом и говорили, обсуждали на все лады, удивлялись: «Надо же, совесть замучила!» И это очень хорошо: кто-кто, а уж Булле, нацистский холуй, все знал про немцев, и раз он испугался, значит, скоро им конец!
Немецкие власти пребывали в растерянности. Я слышал, как один полицейский говорил кучке недоверчиво слушавших крестьян:
– Да он всегда был ненормальным, этот Булле. Мы как раз собирались посадить его в дурдом.
Прошло несколько дней, а я так и не знал всей правды. Мы оба, Данута и я, чувствовали себя довольно скованно. Я не знал, насколько она посвящена в дела брата. А мысль о том, что ей известно больше, чем мне, казалась унизительной. Я надеялся, что она что-нибудь расскажет или хотя бы подтвердит, что и сама ничего не знает. Но она молчала, и я злился. Наконец явился Люциан. Он был веселый, спросил у нас, какой ожидается урожай, мельком упомянул про Булле и про настроения в деревне. Я терпеливо дождался, пока выйдет Данута, и накинулся на него с теми же вопросами, которые задавал себе всю неделю. Что все это значит? Почему убили Булле? Кто убил? Почему мне ничего не говорили?
Люциан попробовал отшутиться и невинным тоном спросил:
– Убили? А я думал, он сам…
Это меня взбесило – тем более что я с досады выпил лишнего.
– Хватит паясничать! Я хочу знать правду!
– Ладно-ладно. Только не кричи. Скоро все узнаешь. Данута тебе скажет.
– Данута? Она-то тут при чем? Что она может сказать?
– При чем тут она? Да ведь Данута все и устроила.
Я не поверил своим ушам. Чтобы Данута была причастна к этому страшному делу? Люциан насмешливо смотрел на меня:
– Что, не можешь поверить? Вот потому-то мы и не стали посвящать тебя в подробности. Ты слишком хрупкий, слишком утонченный для такой работы, Витольд.
– Нет, я не верю! – в ярости крикнул я и, побежав к двери, позвал: – Данута, Данута, иди сюда сейчас же!
Вошла Данута, миниатюрная, изящная.
– Данута, твой брат говорит, что казнь Булле устроила ты. Это правда?
– Да, конечно.
Тут-то она и рассказала все с самого начала. Она пришла к этой мысли еще в ту ночь, когда мы впервые заговорили о фольксдойче. Влияние Булле на других крестьян все росло, и этому надо было положить конец. Она долго думала, как бы это сделать, и вот представился удобный случай. Булле проговорился кому-то в усадьбе, что он выслеживает Костшеву и скоро его поймает.
Это было то, что надо: Костшева послужит приманкой, и Булле получит заслуженную кару. Данута раздобыла образец почерка Булле и написала поддельную предсмертную записку. А Люциан, получив доказательство преступных намерений Булле, согласился с этим планом.
Все прошло без сучка без задоринки. Я тоже сыграл свою роль – «очень важную роль», подчеркнула она.
– И нечего стыдиться, что ты лично не помогал вешать предателя. Это работа для деревенского парня с железными мускулами и крепким желудком!
Я потряс головой, чтобы в мозгах все окончательно прояснилось:
– Самое непостижимое – это то, что Люциан всего лишь месяц назад просил меня заботиться о тебе. Потому что ты такая слабая и одинокая…
– Витольд! – с жаром сказала Данута. – Люциан прав. Вот кончится война, мы выйдем из этого ада, вздохнем свободно и снова заживем как нормальные люди. Тогда я опять стану слабой девушкой.
Она смотрела на меня с упреком. Лицо ее было печально, губы дрожали, в глазах стояли слезы. Она повернулась и выбежала из комнаты.
Люциан покачал головой и проворчал:
– В женщинах ты разбираешься, как я в китайцах.
История с Булле имела трагическое продолжение. У Люциана была одна слабость, сама по себе вполне простительная, но именно она довела его до беды. Он был большой любитель женщин. Мы знали, что частенько по вечерам он гуляет с подружками. Он, в общем-то, и сам понимал, что время для интрижек сейчас не очень подходящее, но когда мы с Данутой предостерегали его, с невинным видом отвечал:
– Что я могу поделать! Просто мне везет в любви.
Увы, везение сопутствовало ему не во всем. Однажды, когда он провожал подружку в соседнюю деревню, его окликнул офицер гестапо, проезжавший мимо в автомобиле. Первым порывом Люциана было пуститься бежать, но он удержался, с опаской подошел к автомобилю и облегченно вздохнул: офицер просто попросил его помочь сменить колесо. Люциан согласился и уже приготовился взяться за дело, как вдруг офицер велел ему сесть в машину. Как знать, чем объяснялось это приказание. Может, что-то в Люциане показалось офицеру подозрительным или он хотел иметь парня под рукой, чтобы, например, нести его чемоданы. Так или иначе, Люциану не захотелось попасть в логово гестапо. Он сделал вид, что открывает дверцу, а сам отпрыгнул в сторону, нырнул в кусты – и был таков.
Все это нам рассказала девушка, которую он провожал. Данута слушала, вся сжавшись, чтобы сохранить видимость спокойствия. Мы наскоро обсудили положение, я посоветовал Дануте просмотреть все в доме, уничтожить компрометирующие документы, а потом собрать вещи и уехать в Краков. Она колебалась. Но я настоял на немедленном отъезде:
– От того, что мы останемся, лучше никому не будет, а вот хуже вполне может стать. Если Люциану удалось улизнуть, он присоединится к нам в Кракове. А вашу мать гестапо скорее всего не тронет. Сочтут, что она ни при чем.
Данута тихо заплакала и согласилась. Мы быстро собрались. Вся прислуга вышла на веранду проститься с нами. Мы сели в ту самую бричку, которая несколько месяцев назад привезла меня в это восхитительное место.
Невзлюбивший меня старый кучер уже взялся за вожжи, и тут нам принесли страшное известие. Из деревни примчался на велосипеде парнишка и сообщил, что Люциана поймали в лесу. Я обнял Дануту за плечи. Она дрожала и плакала навзрыд.
– Трогай! Трогай! – крикнул я кучеру.
Но Данута отстранилась от меня. Она уже овладела собой и спокойно сказала:
– Постой, Витольд. Эта новость все меняет. Я должна остаться, что бы ни случилось дальше. Кто-то должен заниматься домом.