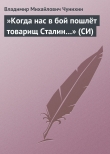Текст книги "Я свидетельствую перед миром"
Автор книги: Ян Карский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Я свидетельствую перед миром:
История подпольного государства

Памятник Яну Карскому, установленный 10 сентября 2002 г. в парке Джорджтаунского университета в Вашингтоне, где он преподавал в течение сорока лет.
Надпись на табличке у подножия памятника гласит:
«Ян Карский (Ян Козелевский), 1914–2000, посланец польского народа к правительству в изгнании, посланец еврейского народа ко всему миру, первый человек, рассказавший страшную правду об уничтожении евреев, когда его еще можно было остановить, и получивший от израильского государства звание Праведника мира, польский герой, преподаватель Джорджтаунского университета (1952–1992), благородный, праведный человек, живший среди нас и делавший нас лучше самим своим присутствием».
Глава I
Поражение
23 августа 1939 года я был приглашен на веселую вечеринку к сыну португальского посла в Варшаве г-на Сезара де Соузы Мендеша[8]8
Сезар де Соуза Мендеш (1885-?) – посол Португалии в Польше, брат-близнец Аристидеша де Соузы Мендеша (1885–1954), португальского консула в Бордо, который в годы Второй мировой войны, ослушавшись приказа Салазара, спас множество евреев и других нежелательных для нацистского режима лиц, выдавая им транзитные визы на выезд из оккупированной Франции.
[Закрыть]. Мы были почти ровесники – ему было двадцать пять лет – и добрые приятели. У него было пять сестер, все хорошенькие и обаятельные. С одной из них я довольно часто встречался и в тот вечер сгорал от нетерпения поскорей ее увидеть.
К тому времени я только недавно вернулся в Польшу. Закончив в 1935 году Львовский университет Яна Казимира и проведя год в конноартиллерийском училище, я уехал стажироваться сначала в Швейцарию, потом в Германию и, наконец, в Англию. Меня интересовали вопросы демографии. Три года я работал в крупнейших библиотеках Европы, готовил свою диссертацию, старался получше овладеть французским, немецким и английским и усвоить образ жизни в этих странах, пока смерть отца[9]9
Ян Козелевский (псевдоним Ян Карский он принял в 1942 г.) родился в Лодзи 24 июня 1914 г. Отца он потерял в 1920 г., в возрасте шести лет. Поскольку книга писалась в 1944 г., когда еще шла война, в ней намеренно переплетены истина и вымысел, чтобы замаскировать личность «курьера Карского» и не подвергать опасности его близких, оставшихся в Польше. Автор действительно блестяще закончил Львовский университет Яна Казимира, где одновременно изучал право и дипломатию (1931–1935); действительно в течение года проходил обязательную воинскую службу в конноартиллерийском училище во Владимире-Волынском (в настоящее время город находится на территории Украины), где ему было присвоено звание подпоручика; действительно учился и стажировался за границей, только не три, а полтора года (1936–1938): восемь месяцев в Женеве при Международном бюро труда и одиннадцать – при польском консульстве в Лондоне. В феврале 1938 г. его вызвали в Варшаву для продолжения образования в элитной дипломатической школе, которую он окончил первым из двадцати учащихся, и 1 февраля 1939 г. Козелевский приступил к штатной службе в Министерстве иностранных дел в качестве чиновника первой категории. Сначала работал референтом в отделе эмиграционной политики, а летом 1939 г. получил повышение и стал секретарем в отделе по работе с персоналом под началом Виктора Томира Дриммера.
[Закрыть] не призвала меня в Варшаву. Мне по-прежнему больше всего нравилось изучать демографию, но постепенно стало ясно, что писать научные труды – не моя стезя. Я никак не мог закончить диссертацию, все тянул и отлынивал, а уже написанную часть работы у меня не принимали. Но это было единственное облачко на светлом, солнечном горизонте открывавшихся передо мной возможностей, и оно не слишком огорчало меня.
На вечеринке все чувствовали себя беззаботно и радостно. Просторный зал посольства был изящно, хотя, пожалуй, чересчур романтично украшен. Собралась приятная компания. Очень скоро завязались оживленные разговоры. Помнится, с большим жаром отстаивали достоинства Варшавского ботанического сада по сравнению с хвалеными европейскими, обсуждали новую постановку «Мадам Сан-Жен»[10]10
Пьеса французского драматурга Викторьена Сарду (1831–1908).
[Закрыть], а когда кто-то заметил, что Стефан Лечевский и Марселла Галопен, которых я хорошо знал, выскользнули из зала вдвоем, стали отпускать банальные шуточки по этому поводу – все как обычно. О политике почти не говорили.
Мы пили хорошие вина, беспрестанно танцевали, в основном европейские танцы – вальсы и танго. А под конец Элен де Соуза Мендеш с братом исполнили для нас сложные фигуры португальского танго.
Вечеринка закончилась поздно ночью. Потом все еще долго прощались и даже на улице никак не расходились: болтали, договаривались о встречах на следующую неделю. Я вернулся домой уставший, но в голове роились радужные планы и не давали уснуть.
Разбудил меня громкий стук в дверь, причем мне показалось, что я проспал не больше минуты. Я вскочил с постели и побежал вниз по лестнице, ускоряя шаг и раздражаясь, оттого что стучали все сильнее. Наконец открываю дверь. На крыльце стоит хмурый, заждавшийся полицейский. Протягивает мне красную карточку, бормочет что-то невнятное и поспешно уходит.
Это был секретный приказ о мобилизации. В нем сообщалось, что я как подпоручик конной артиллерии должен в течение четырех часов покинуть Варшаву и явиться в расположение своего полка. В город Освенцим[11]11
До 1918 г. Освенцим находился на юго-западной границе Западной Галиции, в пределах империи Габсбургов, которой в 1795 г., во время третьего раздела Польши, досталась эта область, как и все Краковское воеводство, в состав которого средневековое Освенцимское княжество входило с 1454 г. Расположенный на границе с Верхней Силезией, отвоеванной у Австрии Фридрихом II, Освенцим с XVIII в. был военным городом, а с середины XIX в., когда город стал железнодорожным узлом, здесь появились предприятия новых промышленных отраслей. В независимой Польше Освенцим снова стал польско-еврейским городом (в 1939 г. более половины его населения, около 7000 человек, составляли евреи) в исторической области Малая Польша, был знаменит винокуренным заводом Якуба Хаберфельда (производившим «Песаховку», пасхальную водку) и фабрикой удобрений. В бывших австрийских казармах в августе 1939 г. был расквартирован 5-й конноартиллерийский дивизион, где служил Ян Карский. Когда Освенцим заняли немецкие войска, он был переименован в Аушвиц.
[Закрыть] на польско-немецкой границе.
То, как и в какое время был мне вручен этот приказ, который опрокидывал все мои планы, мгновенно настроило меня на самый серьезный и даже мрачный лад.
Я отправился к брату с невесткой и поднял на ноги обоих. Однако они приняли известие совершенно спокойно, и вскоре мне самому показалось смешным, что я так запаниковал.
Пока я собирался и одевался, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что объявлена частичная, весьма ограниченная мобилизация, которая касается небольшого числа офицеров запаса и затеяна лишь для того, чтобы они не теряли боеготовности. Мне посоветовали отправляться налегке, невестка даже отговорила меня брать с собой теплые вещи.
– Не в Сибирь же едешь, – сказала она, глядя на меня как на пылкого школьника. – Через месяц вернешься домой.
Я успокоился. Возможно, все не так плохо и даже предстоит что-то интересное. Я припомнил, что Освенцим находится в красивых местах, среди равнин. И представил себе, как несусь по ним в офицерской форме на прекрасном армейском скакуне – верховую езду я любил страстно. Я надел свои лучшие сапоги. Как будто готовился к военному параду. Заканчивал сборы уже в отличном расположении духа. И даже в шутку посочувствовал брату: дескать, на этот раз «стариков» в армию не зовут. Он ответил парой крепких словечек и пригрозил всыпать мне как следует, если я не уймусь. А невестка велела нам перестать ребячиться. Наконец спешные приготовления завершились.
На вокзале было столько народу, будто там столпились все мужчины Варшавы. «Секретной» эту мобилизацию, подумал я, можно назвать только в том смысле, что нет никаких объявлений – ни на стенах, ни в газетах. Но призваны были сотни тысяч человек.
Вспомнились ходившие пару дней назад слухи о том, что правительство давно собиралось объявить всеобщую мобилизацию перед лицом немецкой угрозы, но его удерживали английские и французские дипломаты. Зачем «провоцировать Гитлера»! В то время Европа еще верила в возможность мирных переговоров. И лишь ввиду практически открытых военных приготовлений Германии Польше наконец разрешили провести «тайный» призыв[12]12
В силу своего положения в польском Министерстве иностранных дел автор не по слухам, а из надежных источников знал о давлении, которое оказывалось на Варшаву, в частности французским послом Леоном Ноэлем, чтобы секретный указ 23 августа 1939 г. о мобилизации был отменен. Он касался авиации, зенитной артиллерии; в шести военных округах были приведены в состояние полной боевой готовности 18 дивизий, 7 бригад кавалерии и набрано еще две с половиной дивизии резервистов. Как теперь стало известно, только подписание 25 августа соглашения о взаимопомощи, которым Англия давала Польше дополнительные гарантии, сорвало планы французского министра иностранных дел Жоржа Бонне об отмене соглашения 1921 г., связывавшего Францию обязательствами по отношению к Польше. Однако Лондон и Париж все еще пытались «сохранить мир любой ценой» и предпринимали попытки поддержать прямые переговоры между Берлином и Варшавой по поводу Данцигского коридора. Вечером 29 августа посол Леон Ноэль, проинформированный польским правительством о том, что оно вынуждено провести всеобщую мобилизацию, тут же потребовал, при поддержке своего британского коллеги, чтобы решение было отсрочено «на некоторое время, дабы не подыгрывать гитлеровской политике» и само слово «мобилизация» не произносилось; он яростно настаивал на этом перед польским министром иностранных дел Юзефом Беком. Таким образом Польша потеряла сутки. Только 30 августа президент Игнаций Мосцицкий официально объявил всеобщую мобилизацию. До чего же странно читать в солидном труде Жана-Батиста Дюроселя «Внешняя политика Франции. Катастрофа 1939–1945 гг.» (Paris, Seuil, 1990, р. 25) в главе «Можно ли спасти Польшу?» следующее утверждение: «Из-за иллюзий, которые питал Юзеф Бек, всеобщая мобилизация началась только 30 августа. И была совершенно парализована мощными бомбардировками».
[Закрыть].
Обо всем этом я узнал намного позже. А тогда хоть и вспомнил о слухах, но встревожился так же мало, как и услышав их впервые. Перед вагонами толпились тысячи мобилизованных в штатском, их было легко распознать по походному чемоданчику. В этой толпе выделялись офицеры запаса в щегольской форме, они издали подавали друг другу знаки, перекликались, обменивались приветствиями. Но мне, как я ни искал, не попалось ни одного знакомого лица. Я стал протискиваться к поезду, что оказалось очень и очень нелегко. Вагоны были переполнены, все места заняты. Народ набился в коридоры и даже в туалеты. Настроение у всех было приподнятое, бодрое, почти веселое.
В дороге я постепенно начал понимать, насколько серьезно обстоит дело. Правда, мне все равно не приходило в голову, что вот-вот начнется война, но уже было ясно: о приятной прогулке можно забыть, происходит самая настоящая всеобщая мобилизация. На каждой станции к составу подцепляли новые вагоны для новобранцев, теперь уже в основном крестьян. Вид у всех был бравый и уверенный, не считая, разумеется, женщин – жен, матерей, сестер, наводнявших платформы; настоящие Ниобеи, они рыдали, заламывали руки, цеплялись за своих мужчин и не хотели отпускать. Молодые парни, стесняясь, вырывались из материнских объятий. Помню, на одном полустанке мальчишка лет двадцати кричал: «Хватит, мама, отпусти, скоро приедешь ко мне в Берлин!»
Дорога в Освенцим заняла вдвое больше времени, чем положено, поскольку поезд все время останавливался, к нему прицепляли дополнительные вагоны и сажали новых солдат. До казармы мы добрались только к ночи, и задора в нас поубавилось, сказывались жара и усталость – шутка ли, столько часов проехать стоя! Однако после довольно плотного ужина – за время пути все изрядно проголодались – силы вернулись, и я решил пройтись по территории, где мы были расквартированы, вместе с другими офицерами, с которыми познакомился в столовой. Нашел кое-кого из нашего дивизиона, но не всех. Две батареи конной артиллерии уже отправились на фронт. В казарме оставались только третья и четвертая.
Трудно сказать почему, но, собираясь по вечерам в офицерском клубе, мы по молчаливому согласию старались не говорить и не спорить о главном. Если же все-таки заходила речь о нынешнем положении и о том, что ждет нас впереди, все высказывались примерно одинаково, укрепляя общий оптимизм, который прекрасно отгонял сомнения и страхи и заглушал попытки трезво оценить изменения в европейской политике. Да и менялась она так стремительно, что даже при всем желании разобраться в этом клубке было бы нелегко. Что до меня, то я просто запрещал себе делать мыслительные усилия, которые могли бы открыть чудовищный смысл происходящего. Это подорвало бы все мои тогдашние представления о жизни.
Кроме того, я хорошо помнил, что говорил мне брат[13]13
Имеется в виду Мариан Козелевский (1897–1964), который был на восемнадцать лет старше Яна. Еще школьником, в сентябре 1914 г., Мариан убежал из дома в Галицию, записался в Польские легионы Юзефа Пилсудского и воевал на русско-австрийском фронте. После войны он вернулся в Лодзь, примкнул к местной ячейке подпольной Польской военной организации, которую вскоре возглавил, и в ноябре 1918 г. установил от имени независимой Польши контроль над местными железными дорогами. В 1919 г. был переведен офицером в новообразованную государственную полицию и в 1920 г., во время русско-польской войны, возглавлял 213-ю добровольческую полицейскую роту. С 1921 по 1926 г. он оставался офицером действующей армии, служащим в полиции, его начальником был Борецкий (см. главу VIII). В 1931 г. был переведен во Львов начальником местной полиции. Перевез туда мать и брата Яна. Осенью 1934 г. маршал Пилсудский вызвал его в Варшаву и доверил ему пост начальника столичной полиции. В сентябре 1939 г. он не подчинился приказу перевести свое ведомство на восток страны, остался на своем посту и вместе с меньшинством полицейских перешел под начало гражданского комиссара оборонительных сил столицы, президента (мэра) Варшавы Стефана Стажинского, своего старого товарища по Легионам, и согласился остаться во главе польской полиции, подчинив ее непосредственно Сопротивлению.
[Закрыть] в первые часы после мобилизации, – ведь он был старше меня почти на двадцать лет, занимал важный пост в правительстве и всегда, сколько я помню, принадлежал к «хорошо информированным кругам».
Другие опирались на мнения друзей, знакомых и собственные соображения. Из всего этого мы заключали, что наша мобилизация – тонкий ход в войне нервов с немцами. Германия слаба, Гитлер просто блефует. Когда он увидит, что Польша «сильна, едина и готова дать отпор», то отступит, и мы вернемся по домам. Если же нет, то Польша, с помощью Англии и Франции, как следует проучит этого сумасшедшего паяца.
А наш майор однажды вечером и вовсе заявил:
– На этот раз нам не надо никакой Англии и Франции. Мы и сами прекрасно справимся.
В ответ один из офицеров ледяным тоном заметил:
– Конечно, пан майор, сил у нас хватает, но… хорошая компания никогда не помешает.
На рассвете 1 сентября, около пяти утра, когда солдаты нашего конноартиллерийского дивизиона мирно спали, самолеты люфтваффе незамеченными долетели до Освенцима и, пролетая над нашими казармами, забросали всю округу зажигательными бомбами. Одновременно сотни мощных новейших немецких танков пересекли границу, и под их огнем все окончательно превратилось в руины и пепелища.
Трудно представить себе, сколько разрушений причинила эта атака всего за три часа, сколько погибло людей, какой воцарился хаос. Опомнившись и оценив положение, мы увидели, что не способны оказать существенного сопротивления. Хотя нескольким батареям удалось каким-то чудом довольно долго продержаться на своих позициях и даже обстрелять немецкие танки. К полудню две наши батареи были уничтожены. Казармы разрушены до основания, железнодорожный вокзал сметен с лица земли.
Поскольку стало ясно, что сдержать немецкое наступление не удастся, был дан приказ отступать; наша резервная батарея покинула Освенцим и двинулась боевым маршем по направлению к Кракову, захватив с собой пушки, снаряды и провиант. Каково же было наше изумление, когда по пути к вокзалу прямо на городских улицах нас стали обстреливать из окон. Это были польские граждане немецкого происхождения, пятая колонна нацистов. Таким образом они заранее проявляли лояльность к оккупантам. Многие из нас готовы были немедленно ответить и открыть стрельбу по подозрительным домам, но старшие офицеры запретили. Такие действия внесли бы беспорядок в наши ряды, а именно этого и добивалась пятая колонна. Не говоря о том, что в этих же домах могли жить и честные поляки-патриоты[14]14
После событий в Судетах и в Мюнхене выражение «пятая колонна», впервые появившееся в 1936 г. во время войны в Испании, стало употребляться по отношению к этническим немцам в странах Центральной Европы, выступавшим, вопреки статьям Версальского договора, за воссоединение с рейхом. Согласно переписи 1931 г., немецкое меньшинство в Польше составляло 800 000 человек (2,3 % населения страны) и было сконцентрировано в основном в Померании и Верхней Силезии. Нацизм распространялся в их среде через организацию «Югенддойче Партай», существовавшую в Бельско-Бяла, а также через подпольные ячейки «Ландесгруппе-Полен». Именно эти люди, вместе с заброшенными парашютистами-диверсантами, занимались саботажем с целью помешать мобилизации польской армии. В Катовице, Пщине и Бельско-Бяла немецкие меньшинства пытались поднять вооруженные мятежи посерьезнее, чем стрельба из окон в Освенциме.
[Закрыть].
На вокзале нам пришлось ждать, пока починят пути. Мы сидели на земле под палящим солнцем, и все время, пока не подали состав, перед глазами у нас проносились недавние картины: горящие строения, обезумевшие жители, предательские окна в Освенциме. В тягостном молчании разместились мы по вагонам, и поезд двинулся на восток, в сторону Кракова.
Ночью он много раз останавливался и подолгу стоял. Иногда на таких стоянках мы дремали, а иногда просыпались и обсуждали случившееся; все, как один, рвались в бой. На рассвете появилось полтора десятка «хейнкелей», целый час они бомбили и обстреливали из пулеметов наш поезд и разнесли в щепки больше половины вагонов. Почти все там были убиты или ранены. Мой вагон уцелел. Оставшиеся в живых покинули разбитый поезд и пешком, без всякого строя, продолжали путь на восток.
Шла не армия, не батарея, не взвод – просто много отдельных людей шагали скопом, неведомо куда и зачем. Дороги были забиты беженцами и отбившимися от своих частей солдатами, точно катила огромная приливная волна, увлекая за собой всех встречных. Целых две недели эта лавина медленно двигалась на восток. Сам я держался группы, которая еще сохраняла какое-то подобие воинского подразделения. Мы надеялись дойти до новой линии обороны, остановиться там и вступить наконец в сражение. Но каждый раз, когда, казалось, такая возможность была близка, наш капитан получал приказ продолжать отступление и, пожав плечами, понуро указывал нам путь дальше на восток.
Плохие новости настигали нас, как хищные птицы, и рвали в клочья последние надежды: немцы заняли Познань, потом Лодзь, Кельце, Краков, наши самолеты и зенитки уничтожены. Дымящиеся руины городов, деревень и железнодорожных станций подтверждали эти горькие известия[15]15
На рассвете 1 сентября 1939 г. без объявления войны бомбардировщики люфтваффе нанесли первый удар устрашения по мирному городку Велюнь в Лодзинском воеводстве. Во время заранее спланированного налета на «цель», не имевшую никакого стратегического значения (зато там находились больницы с нарисованными на крышах большими красными крестами), было сброшено 46 тонн бомб. В результате пострадало 1200 человек, в том числе больные и дети, город был разрушен на 70 %, а его центр – практически целиком.
[Закрыть].
Через две недели, изнуренные, обессилевшие, ошалевшие и растерянные, мы подошли к Тарнополю[16]16
Тарнополь (9 августа 1944 г. переименован советскими властями в Тернополь) – город, расположенный в Подолии, на берегах реки Серет (левого притока Днестра).
[Закрыть]. Это было 17 сентября, я не забуду этот день до самой смерти. Дорога раскалилась на солнце, а наши ноги и обувь после четырех дней безостановочной ходьбы были в таком плачевном состоянии, что мы уже не могли шагать по пересохшей земле. Большинство предпочло идти по обочине, пусть даже получалось медленнее.
Так мы брели, без особой спешки, поскольку утратили всякое представление о цели, как вдруг толпа вокруг загудела и от одной группы к другой забегали люди – это означало, что появились важные новости или волнующие слухи. Меня окружало восемь офицеров медслужбы – незадолго до того я остановил одного из них и попросил перевязать мне пятку да так с ними и пошел дальше. И все мы сразу поняли: что-то случилось.
– Схожу узнаю, – сказал молодой капитан, которого мы все уважали за то, что он всегда старался следить за собой. – А вдруг хорошие новости!
– Ну да, – усмехнулся кто-то из офицеров, – наверно, Гитлер решил сдаться.
– Ладно, посмотрим, – сказал капитан и направился к группе пехотинцев, которые стояли метрах в двадцати позади нас и что-то оживленно обсуждали.
Мы решили дожидаться нашего добровольного гонца, укрывшись в скудной тени чахлого дерева. Он вернулся через несколько минут и, задыхаясь на бегу, еще издалека прокричал:
– Русские перешли границу! Слышите?! Русские перешли границу!
Его мгновенно окружили и забросали вопросами: откуда это известно, правда ли?
Оказалось, у кого-то из штатских было радио. Но что это означало? Русские тоже объявили нам войну? Они пришли как друзья или как враги?
Капитан не ручался за достоверность, но, по его мнению… Однако ему вежливо дали понять, что мнение его в данный момент никому не интересно. Нам нужны факты.
Судя по тому, что рассказали капитану, кто-то поймал по радио русскую станцию, вещавшую на польских волнах с территории Польши. Постоянно передавались обращения на трех языках – русском, польском и украинском, призывавшие поляков видеть в перешедших границу русских солдатах не врагов, а освободителей. Они пришли «взять под защиту украинское и белорусское население».
Слово «защита» не сулило ничего хорошего. Мы все помнили, как «взяли под защиту» Испанию, Австрию и Чехословакию. Или русские будут, если понадобится, воевать с немцами? А как же пакт Молотова – Риббентропа, он расторгнут, что ли?[17]17
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова – Риббентропа, по именам подписавших его министров иностранных дел) был заключен 23 августа 1939 г. К договору прилагался секретный протокол, который предусматривал присоединение к обеим странам некоторых областей, входящих в их «сферы влияния». В частности, Польшу предполагалось разделить на две части: восточная предназначалась СССР, а западная – Германии. В конце сентября 1939 г. этот раздел был завершен. Польское правительство о существовании секретного протокола не знало и было убеждено в нейтралитете СССР по крайней мере в начале войны, когда все, как считал министр иностранных дел Юзеф Бек, зависело от позиции союзников Польши – Франции и Великобритании. Зато французская разведка и президент Даладье, согласно архивным дипломатическим документам, обнаруженным польскими историками в 1990-е гг., еще в июне 1939 г. получили информацию (от агентов и послов в Москве и Берлине) о готовящемся советском вторжении в Польшу, но не передали ее «польским союзникам» из страха, что Польша предпочтет сразу капитулировать. Франции же нужно было закончить собственные приготовления к войне, а потому ей было выгодно, чтобы хотя бы какое-то время силы Германии были отвлечены «восточным фронтом».
[Закрыть]
Капитан ничего этого не знал. Он передал то, что сказали ему пехотинцы. А по их словам, русское радио ничего не объясняло, зато распространялось об «украинских и белорусских братьях» и о том, что «все славянские народы» должны как можно скорее «сплотиться».
Жариться на солнце и теряться в догадках не имело никакого смысла. Лучше всего было побыстрее добраться до Тарнополя и там точно все узнать. Оставалось всего-то километров пятнадцать. Несколько часов ходу быстрым шагом. Мы собрались с силами и продолжили изнурительный марш. Теперь у нас хотя бы была цель, ради которой стоило поторопиться, и от этого стало легче на душе.
По дороге мы все гадали, что бы значили известия, которые до нас дошли, – наконец-то можно было поговорить о чем-то еще, кроме того, как далеко продвинулись немцы по нашей территории.
Ответ мы получили, еще не дойдя до Тарнополя, когда километрах в трех от городской окраины до нас донесся гул толпы, который перекрывал голос из громкоговорителя. Шумело и грохотало где-то за поворотом дороги, так что видеть мы ничего не могли, а из слов говорившего слышали только невразумительные обрывки. Но поняли: там происходит что-то очень важное, и, несмотря на усталость, пустились бегом. Наконец мы миновали поворот, дальше дорога проходила по ровному открытому месту. Метров на двести она была пуста. Разрозненные группки бредущих солдат, которые мы привыкли видеть перед собой, сбились в плотную толпу на обочине. Вдали же виднелась длинная колонна военных грузовиков и танков, но чьи они – с такого расстояния было не определить. Нас то и дело обгоняли, и вот кто-то, судя по всему наделенный орлиным зрением, прокричал на бегу:
– Русские, это русские! Я вижу серп и молот!
А очень скоро уже и не требовалось особой зоркости, чтобы убедиться в его правоте. С каждым шагом речь из громкоговорителя становилась все более отчетливой. Говорили по-польски, но с теми певучими интонациями, какие бывают только у русских. Однако когда мы подошли совсем близко, голос замолк.
Зато поляки, окружившие, как мы поняли, русскую машину с радиоустановкой, принялись все разом обсуждать услышанное.
Теперь были отчетливо видны красные серпы и молоты на бортах автомобилей и танков. Грузовики были набиты вооруженными до зубов русскими солдатами. Итак, слухи, которые доходили до нас раньше, подтвердились: радиоголос призывал всех, кто тут стоял, присоединиться к «русским братьям».
Как поступить? Каждый судил по-своему, но наши споры оборвал нетерпеливый окрик – на этот раз из громкоговорителя, который держал кто-то, сидевший в одном из советских танков:
– Ну так что, вы с нами или нет? Мы не собираемся торчать тут посреди дороги и ждать, что вы решите. Бояться вам нечего. Мы не немцы, а славяне, такие же, как вы. И мы вам не враги. Я командир роты. Пришлите ко мне несколько офицеров для переговоров.
Поляки снова загудели – мнения разделились. Большинство солдат не доверяли русским и не хотели принимать их предложение, офицеры колебались и были недовольны всем, в том числе самими собой. Я же совершенно растерялся, сердце в груди бешено колотилось, кто-то о чем-то меня спрашивал, а я даже не мог ответить.
Кому-то из офицеров пришло в голову, что, если бы мы выглядели как организованная армейская часть, это придало бы весу нашей позиции на переговорах. Унтеры забегали, пытаясь разбить солдат на подразделения. Напрасный труд – мы давно уже превратились в смешанное, беспорядочное сборище рядовых, офицеров и унтер-офицеров, среди которых не нашлось бы и десятка принадлежащих к одному полку. Даже оружия у многих не осталось, не было ни пулеметов, ни пушек. Мы пребывали в нерешительности, которая грозила затянуться до бесконечности.
Среди офицеров было два полковника. Посовещавшись, они наконец выработали план действий. Сначала подозвали к себе самых старших по возрасту из офицеров и стали все вместе что-то негромко обсуждать. Потом от них отделился капитан, вытащил из кармана замызганный белый платок и, размахивая им над головой, медленным шагом направился к советским танкам.
Мы все смотрели на него, затаив дыхание, так зрители в театре смотрят на актера, который шествует по сцене в самый драматический момент пьесы. Он шел, а мы в настороженной тишине провожали его глазами, пока навстречу ему со стороны танков не выступил офицер Красной армии. Вот они сошлись, коротко отдали друг другу честь и, по всей видимости, вежливо заговорили. Советский офицер указал рукой на танк, из которого говорил майор, и они пошли туда вдвоем. Увидев эти, пусть самые мелкие, знаки дружелюбия, толпа облегченно вздохнула.
Это, однако, не значило, что мы успокоились. Нас вконец измотали две с половиной недели постоянного напряжения. Измучил полный разброд мыслей и чувств. Мы уцелели физически, но морально немецкий «блицкриг» уничтожил нас, и мы настолько утратили всякие ориентиры, что едва понимали, что творится вокруг; мы не были ранены, но потеряли силы и волю.
Прошло с четверть часа, а польский капитан все не показывался. Мы ждали с тревогой и недоумением.
Ждали молча: события, которые разворачивались перед нами, казались такими нереальными и настолько отличались от всего, что мы видели или воображали, что даже говорить о них было страшно. Наконец эту воспаленную тишину прервал уверенный, сильный голос из громкоговорителя – слова звучали на чистейшем, без акцента, польском языке, все с того же советского танка.
– Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! – начал он, точно генерал, обращающийся к своим воинам перед боем. – Говорит капитан Вельшорский. Десять минут назад я был послан на переговоры с советским офицером. И вот сообщаю вам важные новости. – Капитан сделал паузу, мы, оцепенев, ждали удара, и он обрушился на наши головы. – Красная армия пересекла границу, чтобы вместе с нами бороться с немцами, заклятыми врагами славян и всего рода человеческого. Ждать приказов польского верховного командования бесполезно. Ни верховного командования, ни правительства Польши больше нет. Мы должны присоединиться к советским войскам. Майор Пласков требует, чтобы мы сделали это сейчас же, предварительно сдав оружие. Потом оно будет нам возвращено. Я сообщаю это всем офицерам и приказываю всем унтер-офицерам и рядовым подчиниться требованиям майора Пласкова. Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют Польша и Советский Союз![18]18
Эта речь, произнесенная при встрече польских солдат под Тарнополем с танковыми частями 6-й армии Украинского фронта, повторяет аргументы, тщательно подготовленные Политотделом Красной армии и разосланные во все части Белорусского и Украинского фронтов, участвовавшие во вторжении в Польшу 17 сентября 1939 г.
[Закрыть]
Ответом была мертвая тишина. Все это было ошеломляюще, уму непостижимо. Мы стояли, потеряв дар речи. Онемели и застыли. Я был словно околдован, испытывал такое же удушье, как однажды, когда меня усыпляли эфиром.
Всеобщее оцепенение нарушил горестный всхлип. Я подумал, что мне послышалось, но звук повторился – кто-то отчаянно и все громче плакал навзрыд. Потом рыдания перешли в крик:
– Братья! Это четвертый раздел Польши! Господи, прости!
Грянул выстрел. Поднялась суматоха. Все хотели пробраться поближе к тому месту, откуда стреляли. Оказалось, один унтер-офицер пустил себе пулю в лоб и умер на месте. Имени его никто не знал, и никто даже не попытался узнать, поискав у него в карманах документы.
У нас не хватало душевных сил отозваться на эту трагедию, примеру самоубийцы тоже никто не последовал. Зато все, как по команде, принялись говорить, размахивать руками, спорить со стоящими рядом. Так бывает в театре, когда спектакль кончается и опускается занавес. Офицеры только усиливали смятение. Они перебегали от солдата к солдату и требовали, чтобы те сдавали оружие. Убеждали колеблющихся. Если же рядовой упрямился, вырывали винтовку у него из рук.
С майорского танка между тем раздался новый приказ на польском с распевным русским акцентом:
– Польские солдаты и офицеры! Сложите оружие у белого домика под лиственницами слева от дороги. Пулеметы, автоматы, винтовки – все, что есть. Офицеры могут оставить при себе саблю, солдаты должны сдать штык и ремень. Всякая попытка утаить оружие будет рассматриваться как измена.
Все, как один, обратили взоры на сиявший на солнце белизной домик, окруженный лиственницами. До него было метров тридцать. Под деревьями с обеих сторон виднелись пулеметы, обращенные стволами на нас, – вот теперь все стало предельно ясно. Мы, однако же, нерешительно переминались, никто не хотел быть первым. Но вот оба полковника твердым шагом подошли к домику, отстегнули пистолеты и размашисто бросили их прямо к порогу.
Затем то же самое сделали два капитана. Начало было положено. Офицеры один за другим выходили и бросали оружие, солдаты ошеломленно на них смотрели. Когда подошла моя очередь, я действовал как под гипнозом и никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Подошел к домику, тупо посмотрел на груду пистолетов, с сожалением вытащил свой собственный – как я старался содержать его в порядке и как мало он мне прослужил! Отличный, все еще блестящий, как новенький. Я бросил его в кучу и отошел с таким чувством, будто меня ограбили. После офицеров стали нехотя разоружаться солдаты. Причем оружия оказалось больше, чем мы думали. Я заметил даже солдат с пулеметом, а еще подальше две пары ломовых лошадей тащили орудие полевой артиллерии. До сих пор не понимаю, откуда оно могло взяться.
Наконец все до последнего ствола и штыка было сдано и свалено в огромную кучу, и тут, к нашему удивлению, из двух грузовиков выпрыгнули советские солдаты и выстроились цепью по обеим сторонам дороги, нацелив на нас винтовки.
Громкоговоритель приказал и нам построиться в колонну лицом к Тарнополю, а пока мы выполняли приказ, несколько танков завели моторы, быстро пересекли дорогу и встали позади нас на обочине, также обратив пушки в нашу сторону. Пушки на танках, стоявших впереди, тоже смотрели на нас. Колонна тронулась и, постепенно ускоряя шаг, двинулась к Тарнополю.
Итак, мы попали в плен к русским, а я даже не успел повоевать с немцами.