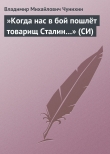Текст книги "Я свидетельствую перед миром"
Автор книги: Ян Карский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Я знал от информаторов, что будет дальше с поездом. Его отгонят на сотню километров, остановят посреди поля и оставят там дня на три-четыре, пока смерть не охватит все, до последнего уголка. А затем сильные молодые евреи, под надежной охраной, вычистят вагоны, вытащат дымящиеся останки и сбросят в общую могилу. Они будут проделывать это каждый день, пока однажды сами не станут пассажирами поезда смерти. Весь цикл займет несколько дней. Потом лагерь снова понемногу наполнится, поезд вернется, и все повторится сначала.
Я стоял и смотрел вслед уже невидимому поезду, когда кто-то тронул меня за плечо. Это был мой украинский охранник.
– Проснитесь, – резко сказал он, – не стойте, разинув рот! Надо поскорее убираться, пока мы оба не попались. Давайте живо за мной!
С трудом соображая, что делаю, я поплелся за ним. Мы подошли к выходу. Мой провожатый показал на меня пальцем немецкому офицеру, тот сказал:
– Sehr gut, gehen sie[156]156
Хорошо, проходите (нем.).
[Закрыть].
И мы прошли.
Сначала шли вместе, но очень скоро разошлись, и я чуть ли не бегом побежал к бакалейщику. В лавку я влетел, еле переводя дух, но на обеспокоенный взгляд хозяина ответил, что все в порядке. Поскорее стащил с себя форму, бросился в кухню и заперся на ключ. Хозяин встревожился еще больше. Как только я вышел из кухни, он ринулся туда сам и в ужасе закричал:
– Что случилось? Вся кухня залита водой!
– Мне надо было помыться, – ответил я. – Я был очень грязный.
– Оно и видно, – пробурчал он.
Я попросил разрешения отдохнуть в саду, без сил растянулся под деревом и мгновенно провалился в сон. А когда очнулся, окоченевший от холода, была уже ночь, светила луна. Шатаясь, я пошел в дом и рухнул на свободную кровать; хозяин спал, тотчас заснул и я.
Утром я проснулся с жуткой головной болью, которая от солнечного света, даже не такого уж яркого, еще усиливалась. Хозяин сказал, что я всю ночь метался. А стоило мне встать с постели, как началась неукротимая рвота. Она продолжалась весь день и всю ночь, под конец меня рвало какой-то кровянистой жидкостью. Хозяин перепугался, и я еле убедил его, что это незаразно. Перед сном я попросил у него водки, он принес бутылку, и я выхлестал два полных стакана, после чего опять заснул и проспал около полутора суток.
При следующем пробуждении голова болела меньше, и я смог проглотить немного пищи, но был еще очень слаб. Хозяин отвез меня на станцию и помог сесть в варшавский поезд.
Картины лагеря смерти навсегда останутся у меня перед глазами. Мне никогда не избавиться от них, и при одном воспоминании к горлу подступает рвота. Но еще больше, чем сами зрительные образы, меня мучает мысль о том, что такие чудовищные вещи вообще были возможны.
Перед моим отъездом из Варшавы друзья устроили пышное прощание. Утром меня пригласили на мессу в мой приходской костел. Большая часть моих друзей были глубоко верующими людьми, а ксендза, отца Эдмунда, я хорошо знал еще с довоенных времен. Он часто приходил в дом моего брата Мариана, был моим исповедником, а теперь стал капелланом подпольной армии Варшавы.
Я вышел из дома затемно, не имея представления о том, что приготовили для меня друзья. Накануне выпал первый снег, покрывший тротуар тонким белым слоем. Стараясь согреться, я шел быстрым шагом и перебирал в памяти все дорогие мне уголки Варшавы. Ускользнув по пути от немецкого патруля, я добрался до костела, когда уже занималась заря. Отец Эдмунд должен был отслужить мессу у себя дома, позади костела. Друзья уже собрались, даже четверо женщин не побоялись холода и снега. Пришла известная писательница, вызывавшая всеобщее восхищение своей деятельностью в Сопротивлении[157]157
Карский имеет в виду уже упоминавшуюся Зофью Коссак.
[Закрыть], известная женщина-скульптор, моя давняя знакомая, мои товарищи по подполью и непосредственный руководитель. Занавески были плотно закрыты, комнату освещали только дрожащие язычки зажженных свечей. Волнующая, возвышающая душу атмосфера. Я был очень тронут.
Мы молча обменялись рукопожатиями, и месса началась, полная величия и покоя. Все негромко вторили священнику, потом опустились на колени у алтаря. Проповеди не было. Сразу после литургии мои друзья со священником помолились вслух о путешествующих. Я слушал со слезами на глазах.
Друзья приготовили мне подарок – лучший из всех, какие я получал за всю жизнь. Отец Эдмунд подозвал меня, велел встать на колени и обнажить грудь, затем взял в руки медальон и торжественно произнес:
– Иерархи церкви нашей бедствующей родины поручили мне передать тебе этот медальон. Он содержит частицу Тела Христова. Надень его и не снимай. Вручаю тебе, воин Польши, эту святую гостию. Она будет хранить тебя в пути, а в случае опасности проглоти ее, и беда обойдет тебя стороной.
Священник надел медальон мне на шею, встал рядом со мной на колени, и мы помолились вместе, в благоговейной тишине, под тихий звук перебираемых четок.
Мое путешествие продлилось двадцать один день, я пересек Германию, Бельгию, Францию, Испанию, а в Гибралтаре поднялся на борт британского самолета, и все это время священный медальон был у меня на груди. И ничего по-настоящему опасного со мной не случилось. В Лондоне, как только мне позволили свободно передвигаться, я пошел в польский костел на Девониа-роуд. Отец Владислав[158]158
Отец Владислав Станишевский в годы войны служил в польском храме Ченстоховской Божией Матери в Лондоне.
[Закрыть], которому я исповедался, похоже, не очень одобрял решение варшавского духовенства позволить мирянину носить при себе частицу Святых Даров, но и осуждать его не стал.
Он открыл медальон, достал гостию, причастил меня ею и сказал: «Медальон я заберу – он будет висеть перед образом Ченстоховской Божией Матери как ex-voto».
Глава XXXI
Снова на Унтер-ден-Линден
Наконец настал долгожданный день отъезда из Варшавы. Никто не провожал меня с музыкой, я просто тихонько сел в поезд. Новенькие документы были в полном порядке – комар носа не подточит, фальшивая печать на фотографии французского паспорта радовала глаз, микрофильмы надежно запаяны в рукоятке бритвы. Я был при деньгах и в отличном настроении.
Поезд был набит пассажирами самых разных национальностей, так что я не бросался в глаза. Все же я пытливо вглядывался в лица, ища агентов гестапо, – мне почему-то казалось, что я распознаю их с первого взгляда. И если замечал кого-то подозрительного или если у меня спрашивали документы, мне становилось не по себе.
Впрочем, особой опасности не предвиделось, риску разоблачения я бы подвергся, только если бы позволил вовлечь себя в разговор. Во избежание этого я купил пузырек обезболивающего, смочил им, едва заняв свое место, носовой платок и приложил ко рту, как будто у меня страшно болели зубы. Понадеялся, что ни один нормальный человек, глядя на мою перекошенную физиономию, не станет со мной заговаривать.
Путь до Берлина был длинным и утомительным. Переполненный вагон, тяжелый запах. Допотопный поезд – немцы оставили полякам только такие музейные страшилища – дребезжал и чуть не разваливался на ходу.
Мне очень хотелось, раз уж я попал в Берлин, получше понять, что же происходит в Германии. Для этого я решил навестить старого приятеля Рудольфа Штрауха. До войны, когда я работал в берлинских библиотеках, я жил и столовался в его семье, состоявшей из самого Рудольфа, его младшей сестры и их матери, вдовы судьи. В 1938 году Рудольф, по моему приглашению, ненадолго приезжал в Польшу.
Семья Штраух всегда твердо придерживалась либеральных демократических взглядов, и я подумал, что даже сейчас они, наверное, остаются немыми, но убежденными врагами гитлеровского режима. У Рудольфа было слабое здоровье – я надеялся, что его не взяли в армию. Словом, мне показалось, что это хорошая возможность во всем разобраться. А что я лишний раз подвергаю себя опасности и нарываюсь на неприятности, в голову не приходило. Наоборот, все как будто складывалось удачно. Все же на всякий случай я сочинил правдоподобную легенду: скажу, что на фронт не попал, работаю в управлении какого-нибудь немецкого завода, а сейчас получил отпуск и решил провести его в Париже. Единственный риск – что у меня при Штраухах проверят документы. Тогда они поймут, что я путешествую под чужим именем. Но я надеялся, что этого не случится. Смотря по тому, как они меня примут, сделаю вид, что я человек нейтральный, не испытываю неприязни к немцам или даже что сотрудничаю с ними и они мне очень нравятся.
У меня был час до поезда на Париж. Следующий, перевозивший работников, отправлялся только на другой день. Я сознательно пропустил ближайший, а потом пошел к начальнику вокзала и сказал:
– Я опоздал на свой поезд, а следующий завтра. Мне бы хотелось пока погулять по городу. Могу я выйти, а потом вернуться и дожидаться поезда?
Он не возражал. Я оставил чемодан, где лежала и бритва с микрофильмом, в камере хранения, умылся и пошел прямо к Штраухам.
Я легко нашел их очень аккуратный скромный дом в бюргерском квартале и позвонил в дверь. Открыла фрау Штраух. Особого восторга мое появление у нее не вызвало. Она позвала детей – те тоже встретили меня сдержанно. Рудольф как будто побледнел и похудел с нашей последней встречи, его сестра превратилась во взрослую миловидную девушку, уверенную в себе, но довольно ограниченную.
Меня провели в гостиную, предложили водки и кофе. Поначалу атмосфера была принужденной, но когда я рассказал Штраухам заготовленные басни, они немножко оттаяли. Рудольф с явным удовольствием слушал коллаборационистские речи, поэтому я принялся с воодушевлением повторять шаблонные разглагольствования, которые демагог Геббельс вдалбливал в мозги немцам и жителям оккупированных стран.
Это окончательно расположило ко мне Рудольфа, и он в ответ разразился пламенным монологом о великой миссии Германии. К моему удивлению, он признавал, что на Восточном фронте дела идут неважно, но все сомнения в зачатке убивались магическим заклинанием: «Фюрер знает, что делает».
Эта фраза рефреном звучала всякий раз, когда по ходу беседы обнаруживались какие-то проблемы или неприятные для репутации рейха факты, – фюрер преодолеет все трудности. Политические убеждения и надежды Штраухов, когда-то демократов, либералов и противников нацизма, сводились теперь к одному: «Фюрер знает, что делает».
Я провел у них несколько часов и заметил в доме разительные изменения. Они стали жить беднее: одежда, еда, предметы обихода – все было хуже и проще, чем прежде. Сестра Рудольфа, видимо, работала где-то на заводе – в подробности она меня не посвящала. Сам Рудольф, кажется, служил в арбайтсамте (службе трудоустройства). Как, в каких условиях они работали и сколько получали, ни брат, ни сестра рассказывать не желали. Я задал им пару вопросов, но они отвечали уклончиво и неохотно.
Меня пригласили пообедать в стандартную пивную на соседней улице, которая выходила на Унтер-ден-Линден. Там подавали простые блюда, но большими порциями и недорого – обед на троих обошелся марок в пятнадцать. Разговор за столом зашел о евреях. Я услышал от Рудольфа и его сестры весь набор обычных нацистских рассуждений. Мне захотелось прощупать, насколько прочно в них укоренился этот бред, и я вскользь, равнодушным тоном упомянул о самых страшных вещах, которым был свидетелем: о поездах смерти, негашеной извести. Все это не внушило им не только морального, но даже физического отвращения, они слушали совершенно спокойно и бесстрастно.
– Очень практично, – заметил Рудольф. – Мертвые евреи не будут разносить заразу, как делали это при жизни.
А единственной реакцией Берты на конец моего рассказа была реплика:
– Им, верно, было жарко.
Я заметил, что она держится со мной очень холодно, словно чего-то опасается или что-то подозревает, и забеспокоился. Может, я перестарался, изображая преданность немцам, может, она поймала меня на ошибке или противоречии? Или так проявлялось чувство превосходства немцев над каким-то поляком? Тревога моя еще усилилась, когда Берта встала и позвала Рудольфа.
– Извините, – сказала она, – мне надо кое-что сказать брату наедине.
Они отошли в сторону. Я затянулся сигаретой – она показалась мне горькой. Какой же я идиот, подумал я и быстро оглядел зал. Сейчас они позовут полицию, а мне отсюда никак не улизнуть. Через пару минут они вернулись, Рудольф явно испытывал неловкость и нервничал, а Берта была полна ледяной решимости. «Донесут», – пронеслось у меня в голове, и мне стоило большого труда не поддаться панике и сохранить невозмутимый вид.
– Ян, – заговорил Рудольф чужим, хриплым голосом с извиняющейся интонацией, – мне очень неприятно это тебе говорить. Я хорошо отношусь к тебе лично, но нам лучше расстаться. Поляки – враги фюрера и Третьего рейха. Они всеми силами стараются навредить Германии и действуют в интересах евреев и англичан. Даже русским варварам помогают. Я знаю, что ты не такой, но что делать! Идет война, и нам не следует поддерживать знакомство.
Это не развеяло моих страхов, а в придачу меня взбесила невероятная глупость Рудольфа и его по-дурацки напыщенный тон.
– Кроме того, – продолжал он, озираясь, и на лбу его выступили капли пота, – показываться в компании с иностранцами вообще опасно.
Дать волю злости я не мог и с деланым сожалением сказал:
– Очень жаль, что вы так думаете. Мне искренне хотелось быть вашим другом и другом Германии. Надеюсь, со временем ваше мнение изменится.
Затем встал из-за стола, холодно откланялся и зашагал к выходу. Внутри все кипело, до того противно было кривляться. Я клял свою работу и от всей души завидовал счастливцам, которые могли бросать бомбы в таких негодяев. Я все еще не оставил мысли, что они вызвали полицию, и, подойдя к двери, недоверчиво глянул по сторонам.
Больше всего мне хотелось поскорее попасть в безопасное место. В Берлине меня окружали враги, и я каждую минуту ждал, что меня схватят и начнут допрашивать.
Слова Рудольфа наполнили меня гордостью. «Поляки – враги фюрера и Третьего рейха, – звучало у меня в ушах. – Они всеми силами стараются навредить Германии». Какая честь!
Я вернулся на вокзал и прилег отдохнуть в темном промозглом зале ожидания. Мне вспомнились былые времена, когда я жил в доме Рудольфа и Берты. Мы были так привязаны друг к другу. И их приязнь казалась такой искренней, такой душевной. Теперь же они словно глубоко и безнадежно больны. Есть ли средство вернуть им прежний облик? Эти мысли не давали мне покоя. Что станет после войны со страной, где целых десять лет царил чудовищный, попирающий человеческое достоинство режим? Возможно ли перевоспитать молодых людей вроде тех двух юных нацистов, привыкших потакать своим звериным инстинктам, которых я видел недавно в варшавском гетто, смогут ли они занять свое место в мире, основанном на любви к ближнему, уважении к человеческой личности?
Я провел на вокзале всю ночь, а наутро уехал из Берлина.
Глава XXXII
По дороге в Лондон
По пути из Берлина в Брюссель я опять притворялся, что у меня болят зубы. Но на этот раз не остался незамеченным. Ко мне проникся симпатией и то и дело сочувственно кудахтал какой-то толстый бельгийский коммерсант. Я отвечал односложно и неучтиво, но это не оттолкнуло его, и по прибытии в Брюссель он чуть не силой потащил меня в пункт немецкого Красного Креста. Пристал, как пиявка, так что избавиться от него, не привлекая внимания окружающих, я не мог. К счастью, моего акцента он не заметил. Выручила мнимая зубная боль.
В медпункте мои зубы внимательно осмотрели немецкий унтер-офицер и медицинская сестра. В результате сестра с улыбкой сказала:
– Вы крайне легкомысленно относитесь к своему здоровью и из-за этого уже лишились нескольких зубов. Сейчас вам больно – может, хоть это научит вас заботиться о себе.
Мне страшно хотелось сказать ей, что потерей зубов я обязан не столько своему «легкомыслию», сколько «заботам» гестапо.
Медики обработали мне рот антисептиком и дали транквилизатор. Эта возня очень меня позабавила. «Вот она война, – подумал я. – Сначала одни немцы выбивают мне зубы, а потом другие дезинфицируют раны».
Я постарался поскорее закончить медицинские процедуры. Документов у меня не спросили, а говорить я продолжал, на правах больного, невнятно. В парижском поезде я уже не стал симулировать зубную боль и быстро задремал под действием транквилизатора.
В шесть часов холодным дождливым утром я приехал в оккупированный Париж. Являться в условленное место было еще рано. Я оставил чемодан в камере хранения и пошел прогуляться по городу.
Прошел пешком немалый путь от Северного вокзала до Елисейских полей. Впечатление было гнетущее. Париж, светлый город, стал серым, мрачным и словно поникшим в бесконечной усталости. На Елисейских полях, унылых и пустынных, я опустился на скамейку. Прежде всякий раз, как я оказывался в Париже, мне хотелось остаться тут навсегда. Но теперь единственным моим желанием было поскорее уехать, подальше от немцев и немецкой оккупации.
Мои раздумья прервало появление роты солдат в стальных касках, с автоматами на плече. Они шли, надменно, презрительно подняв головы, грохоча сапогами по мостовой. В первый раз с начала войны я почувствовал слезы на щеках. Сердце у меня разрывалось от вида этих наглых триумфаторов. Я вернулся на вокзал и готов был броситься на шею любому проходящему мимо французскому рабочему, сказать ему: «Ничего, мы их одолеем! Будем бороться и победим!»
Явка находилась в маленькой кондитерской неподалеку от вокзала. За стойкой сидела старая дама, которую я и ожидал увидеть. Я подошел к ней и сказал:
– Добрый день, мадам, не нужно ли вам сигарет? Я принес на продажу.
– Какой марки?
– «Голуаз».
– Сколько у вас пачек?
– Столько же, сколько дней прошло с последней грозы.
Она улыбнулась этой галиматье и с милым радушием предложила мне по-польски кофе с пирожными. С ее помощью я связался с нашими подпольщиками[159]159
В Париже Карского принял сам Александр Кавалковский (псевдоним Юстин; 1899–1965), основатель и глава действовавшей во Франции Польской организации борьбы за независимость, POWN (см. ниже). Ему Карский передал драгоценный ключ с микрофильмами. Кавалковский отправил ключ в Лондон самым надежным и коротким путем – через знакомого дипломата в Брюсселе, он же был организатором пребывания курьера во Франции и его перехода через Пиренеи.
[Закрыть]. Несмотря на поражение Франции, у нас остались на ее территории целые ветви гражданского и военного Сопротивления[160]160
Имеется в виду упомянутая в предыдущем примечании организация POWN (условное название – Моника). До 1942 г. ее деятельность разворачивалась в основном в так называемой «свободной», южной зоне Франции, затем распространилась на север Франции и Бельгии, а в 1943 г., когда «свободная зона» также была оккупирована, Юстин перебрался в Париж. В 1944 г. у POWN было более 300 ячеек и насчитывалось около 5000 членов. Кроме того, существовала еще подпольная организация F2 (Петра Калиновского), работавшая в Тулузе и Лионе.
[Закрыть]. Руководили ими польские офицеры, не успевшие покинуть Францию в 1940-м, и поляки, давно здесь обосновавшиеся. Они активно сотрудничали с французским Сопротивлением.
Через три дня после приезда некий врач-француз вручил мне документы на имя французского подданного польского происхождения. Некоторые затруднения во французском языке объяснялись тем, что я якобы все время жил в польской колонии в Па-де-Кале, где работал шахтером. Он дал мне также немецкое свидетельство о трудоустройстве и водительские права.
Дней через десять я выехал на поезде в Лион вместе с французским рабочим, который должен был помочь мне пересечь границу с Испанией. В Лионе он привел меня в один дом, где я, к своему изумлению, встретил польского капитана[161]161
«Польский капитан», которого Карский встретил в Лионе, – бывший высокопоставленный чиновник МИДа, глава группы POWN «Франция-Юг» Богдан Самборский, муж той самой «пани Новак» (см. прим. 3 к главе V /В файле – примечание № 37 – прим. верст./), у которой Витольд жил в Варшаве в 1939 г.
[Закрыть], которого знал по военному училищу. Все время, что я там пробыл, он жадно забрасывал меня вопросами. К счастью, я мог подробно рассказать ему о матери, жене и дочери – все они были живы-здоровы. Обрабатывали все втроем огород в пригороде. Дочь получила аттестат зрелости. У капитана слезы выступили на глазах, когда я сказал, что его жена не продала ни одного предмета из семейной мебели и ни одной его рубашки. Даже жильцов не стала пускать, чтобы они ничего не попортили. Он вернется домой и найдет все в точности так, как было, даже свое любимое кресло.
Капитану тоже было что порассказать мне. Он участвовал во французской кампании в составе польской армии, попал в плен, бежал и примкнул к французскому Сопротивлению. Здесь он руководил группой, которая занималась переправкой поляков через испанскую границу. Жил в Лионе и оттуда координировал все действия. Лион был крупнейшим центром подпольного движения, мы чувствовали себя там почти в полной безопасности[162]162
Лион, важнейший промышленный центр «свободной зоны» и второй по величине город Франции, был «столицей» французского Сопротивления. Гораздо менее известно, что он был также центром польского Сопротивления до 1943 г.
[Закрыть]. Условия, в которых работали наши товарищи во Франции, были не в пример лучше наших. Все упрощалось ввиду более легкой связи с Лондоном и с нейтральными странами. Мы в Польше о такой роскоши и не мечтали. Вот уж по-истине, поляки – самый несчастный народ в мире.
В Лионе я встретил человека, которого с полным основанием можно было называть «дитя войны». Лет сорока, бывалого вида, он родился на окраине Варшавы, работал в ремесленной мастерской. Во Франции он жил с сорокового года и чувствовал себя в военном хаосе как рыба в воде. Не имея определенной профессии, он подрабатывал то батраком в деревне, то рабочим на заводе, то маляром. Побывал во французской армии, во многих тюрьмах, не раз изъездил всю страну от Ла-Манша до Средиземного моря и, несмотря на все это, не мог двух слов связать по-французски.
Этот вечный скиталец был жутко худой, словно иссохший, а все его имущество состояло из самых необходимых дорожных вещей. На дубленом морщинистом лице застыла неподражаемая ухмылка, кривая, но забавная и даже симпатичная, из-за которой один из его длинных пожелтевших усов был постоянно вздернут. Как он ухитрялся жить и перемещаться с места на место, для всех оставалось загадкой.
– Как ты ездишь по железной дороге? – спросил я его однажды. – Ведь ты не говоришь по-французски, и у тебя в кармане ни гроша.
Он ответил на чистейшем варшавском жаргоне:
– Посмотри на эту штуку, старик. Она годится для любого французского поезда.
Я посмотрел на кусочек картона, который он мне протянул. Это был варшавский трамвайный билетик 1939 года.
– Отличный сувенир, но по нему и километра не проедешь, – сказал я, возвращая ему картонку.
– Это ты не проедешь, а я запросто, потому что знаю как.
– И как же?
– Ну, я сажусь в поезд и еду до тех пор, пока не приходит контролер и не спрашивает билет. Я сую ему мой билетик. А когда он начинает вякать, я давай с ним на шести языках базарить: по-французски, по-немецки, по-испански, по-английски, по-русски – с десяток слов из каждого у меня в запасе найдется – да еще по-польски. Он слушает-слушает, а потом свирепеет, хватает меня и выкидывает из поезда на ближайшей же остановке. А я жду следующего и еду дальше.
Я расхохотался:
– И этот номер никогда не срывался?
– Было однажды – сволочной контролер попался, хотел меня сдать в полицию.
– Ну?
– Я их тоже достал. Трое суток рыдал и нудил свою байку на всех языках. Глаз им не давал сомкнуть. В конце концов они отправили меня на завод – работать!
Похоже, его тошнило при одном воспоминании об этом.
– Почему бы тебе не выучить французский? – спросил я. – Глядишь, все бы изменилось к лучшему.
– Да ты что? На кой черт мне французский? Чтобы сесть на место Петена?
– Но сколько можно болтаться без дела? А так – найдешь себе приличную работу, вся жизнь пойдет по-другому.
Он поглядел на меня с ужасом:
– Работу? Мне? Сдурел ты, что ли? Я тебе вот что скажу – бросай-ка ты все, чем занимаешься, и поехали со мной. Это ж здорово! Мозги у тебя, конечно, набекрень, но ничего, я буду кумекать за двоих. Не пожалеешь!
Никогда еще мои умственные способности не получали такую безжалостную оценку.
– В общем, пока! – сказал он. – Мне пора.
– До свидания! Дай о себе знать.
Он подмигнул, помахал рукой и ушел. А через несколько дней я получил от него весточку. Письмо было написано с жуткими ошибками, но я понял, что у него все хорошо. Зря я тогда отказался – такой шанс упустил!
И вот я получил приказ: ехать самостоятельно на юг. Мне велели найти в Перпиньяне одну молодую пару – они испанцы, воевали против Франко, бежали во Францию и теперь работают в Сопротивлении. Я легко нашел обозначенный на карте, которой меня снабдили, домик на окраине города. Супруги должны были дать мне проводника через границу и проследить, чтобы я благополучно добрался до Барселоны. А там мне надо связаться с британскими агентами – их предупредили о моем приезде радиограммой.
Молодые испанцы показалась мне очень надежными. Оба пылкие, страстные борцы за демократические идеи. Однако все пошло не так гладко: через несколько дней они с сожалением сказали, что возникли некоторые сложности, охрану границы усилили и придется подождать, пока не будет разработан новый план. А пока мне лучше не выходить из дома. Потянулось томительное ожидание. Хозяева уходили на весь день, а я пытался убить время, вяло листая книжки. Наконец они рассказали мне, что и как я должен делать. Со мной будет проводник по имени Фернандо[163]163
Настоящее имя проводника – Хосе. Бежавший в Перпиньян испанский республиканец, он был пламенным коммунистом, и Карскому было приказано делать вид, что он тоже коммунист, чтобы Хосе согласился его вести. На самом деле они добирались вместе до самой Барселоны.
[Закрыть]. Мы поедем на велосипедах. Фернандо первый, я за ним, чуть поотстав, с выключенным фонарем. Если Фернандо остановится и даст звонок, значит, впереди опасность и мне надо спрятаться. Если не остановится и не зазвонит, значит, все хорошо и я его догоняю.
Мы тронулись в путь поздно вечером. Фернандо опередил меня на полсотни метров, так что я еле видел его в потемках. Не прошло и четверти часа, как его фонарь потух и раздался звонок. Я тут же развернулся и поехал домой. Вскоре вернулся и Фернандо и спокойно рассказал, что случилось. По улице шел немецкий патруль – я бы наверняка попался. Придется завтра попытаться еще раз, но действовать иначе. Следующей ночью мы с Фернандо вышли пешком, а километрах в шести от города сели на велосипеды, которые держали для нас наготове двое французов. Дальше покатили в полной темноте, тем же порядком, что накануне. На этот раз все прошло успешно, но для меня поездка оказалась нелегким испытанием. Свет фонаря Фернандо то и дело исчезал на виражах или за кустами, и мне приходилось бешено крутить педали, чтобы разглядеть его.
Сам я ехал без света, не видел дороги и попадал то в колдобины, то в кювет. Это была какая-то сумасшедшая велогонка: я крутил руль во все стороны, падал, поднимался и снова припускал вдогонку за прытким огоньком. Мы проехали километров пятьдесят, когда Фернандо наконец остановился и подождал меня.
Спрятав оба велосипеда в густых зарослях, он подошел ко мне, снисходительно хлопнул по плечу и ушел на поиски другого проводника. Я остался ждать, лег под деревом на влажную траву и заснул.
Фернандо вернулся часа через два и потянул меня за рукав. Я протер глаза. Занимался день. Руки и ноги у меня словно налились свинцом.
– Нашел проводника? – спросил я.
Он покачал головой:
– Нет. Пойдешь со мной и подождешь в рыбачьей лодке.
Мы пошли дальше пешком, дорога тут была не такая ухабистая. Мимо проезжали автомобили и телеги. Потом Фернандо свернул на тропинку, которая привела нас на морской берег. Солнце уже припекало, и я был рад увидеть море. На голубой глади было разбросано множество парусников, яликов, рыбачьих лодок. Одна такая лодка, довольно ветхая, лежала на берегу. К ней-то и подвел меня Фернандо:
– Побудь пока здесь. И не ворочайся, пока я не приду. Ложись на дно, чтобы никто тебя не увидел!
– И долго ждать?
– День или два. Держи свитер и пальто – пригодятся.
– Нет-нет, тебе будет холодно.
– Бери. У меня есть другая одежда. Еду тебе будут приносить.
Я залез в лодку, лег на дно и с головой залез под пальто, чтобы укрыться от холода и посторонних взглядов. Так я пролежал двое с лишним суток, почти не шевелясь. Время от времени невидимая рука давала мне еду и что-нибудь горячее: чай, кофе, а один раз – бутылку подогретого вина, которое здорово меня подбодрило. Когда лежать неподвижно становилось невмоготу и страшно хотелось встать и размяться, я думал: «Вспомни Словакию», имея в виду тот день, когда я твердо решил, что больше никогда не поддамся слабости.
Фернандо наконец вернулся вместе с новым проводником, смуглым человеком невысокого роста с ослепительными зубами. По-французски он говорил плохо. Фернандо спросил, готов ли я идти. Готов, ответил я, если только ноги не отнялись от холода и сырости. Фернандо улыбнулся и похвалил меня за выносливость. Мы сердечно обнялись на прощание, и я двинулся дальше с другим проводником, который повел меня тайной тропой через отроги Пиренеев.
Мы шли среди зеленых зарослей по совершенно диким местам, по временам перед нами открывались прекрасные горные виды. Проводник был очень осторожен и осмотрителен. Разговаривать мы не могли: он знал по-французски всего несколько слов, а я по-испански – еще того меньше. На третий день мы укрылись в пещере. Проводник отправился к другу в ближайшую деревню, чтобы разузнать расположение полицейских постов, а я остался его ждать.
Вернулся он расстроенным. Брат его друга сказал, что тот арестован. Сесть в поезд, как предполагалось раньше, не удастся. Поразмыслив, он решил, что мы проведем ночь тут, в пещере, а утром пойдем в деревню и попробуем раздобыть машину или велосипеды. Мы обсуждали это, сидя в темноте, и вдруг увидели силуэты двух человек, шедших прямо к нам. Нас явно заметили. Проводник схватил меня за плечо, но прятаться было поздно. Те двое подошли ближе, и мы разглядели, что они в штатском, без оружия, с рюкзаками за спиной. Проводник окликнул их:
– Французы?
Они испугались еще больше, чем мы. Старший откликнулся дрожащим голосом. Мы пригласили их в пещеру, и они успокоились. Это был французский офицер с сыном лет восемнадцати-девятнадцати. Они пробирались в Англию, в армию де Голля. Очень скоро мы все прониклись симпатией друг к другу. Они были в худшем положении, чем я, так как пустились в путь без проводника. Я объяснил им, какими трудностями это чревато, и предложил присоединиться к нам. Они с радостью согласились.
Утром мы начали спуск. Первыми шли мы с проводником, а метров на двадцать позади – оба француза. Тропа петляла между деревьев. Вдруг нас кто-то окликнул. Мы замерли, осмотрелись и увидели сидящего посреди небольшой полянки старика испанца и с ним девушку, его дочь. Проводник заговорил с ним. Старик горячо ответил. Несколько раз в разговоре повторилось слово «Барселона», потом старик разразился проклятиями – я понял, что он ярый антифашист. Он предложил нам отдохнуть и переночевать в его хижине, мы, разумеется, согласились.
Старик, французский каталонец, оказал нам самое отменное гостеприимство. Щедро накормил простой пищей, едва ли не истощив все свои припасы, и отказался от денег. Мы с наслаждением помылись, побрились, почистили одежду. Вечером перед сном старик сказал, что он кое-что придумал – проводник постарался перевести нам его слова:
– Все устроится. Я сам о вас позабочусь. Спите спокойно.
Утром он ушел в деревню, а к полудню вернулся с сияющим видом и, оживленно размахивая руками, сказал:
– Полный порядок! Можете не волноваться!
План его был таков. На местной станции мы купим билеты до Барселоны и сядем в поезд. А дальше нами займется контролер, которого предупредит машинист, близкий друг нашего хозяина. Нам только надо быть осторожными, делать все, что скажут, а уж потом как следует воевать и убивать всех, сколько ни попадется, фашистов.
Мы поблагодарили старика и стали обсуждать его предложение. Мне оно казалось сомнительным. Слишком много участвовало в деле друзей и друзей этих друзей. Французы думали так же. Проводник допускал, что риск есть, но считал, что все может и получиться. А главное – у нас нет выбора.