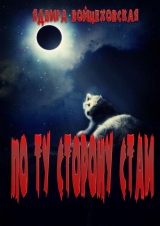
Текст книги "По ту сторону стаи"
Автор книги: Ядвига Войцеховская
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Глава 4
Меня будит шум. Похоже на то, что где-то течёт вода. Я открываю глаза и вспоминаю, что произошло.
Я в Кинг-Голд-Хаус. Плеск воды раздаётся из ванной комнаты, и там, по-видимому, Лена. Интересно, есть ли здесь хоть какая-то одежда и лекарства?
Я захожу в ванную, которая, как оказалось, примыкает к этой спальне. Лена лежит в воде, с наслаждением откинув голову.
– Близзард, – говорит она, чуть приоткрыв глаза.
– Легран, – отвечаю я.
Она такая худая, что похожа на скелет. Кожа бледная, в шрамах и кровоподтёках. Чуть выше левого локтя – перечёркнутый зигзаг клейма, чуть пониже ключицы – две рунические татуировки. Как и у меня. Номера заключённых. Интересно, их можно вывести?
Какие порой дурацкие мысли лезут в голову, и совсем не вовремя. Я вне закона, у меня на руке "волчий крюк", который уж точно не сведёшь никакими притираниями или снадобьями, и в моём собственном мире я не имею ничего – ни дома, ни денег, ни даже шерстяного платья. А я, как дура, думаю о том, удастся ли свести синие утгардские руны, и, если не удастся, то какой фасон платья придется носить. А вокруг нет каменных стен в потёках влаги, конвоиров, выволакивающих тебя, истекающую кровью после разговора по душам, всех на одно лицо, нет жестяной раковины с кровавыми ошмётками собственных внутренностей, а есть зима, такая тёплая, словно мы в тропиках, хотя, наверное, это только так кажется, и есть – свобода. И есть эти слова, иглой засевшие у меня в мозгу – всё, что ты захочешь. И как же много можно, оказывается, захотеть!
Но думать сейчас надо не об этом. Достать прежде всего какую-нибудь одежду, а потом новый ключ – свои у всех нас утеряны безвозвратно – иначе, не имея власти над пространством, мы будем беспомощны, как младенцы. Но зато у нас есть главное: свобода, свобода и ещё раз свобода, и нас уже не остановят толстые крепостные стены и пустота Межзеркалья, превращающая всю силу твоего разума в подобие мыльного пузыря. И теперь я могу воспользоваться ею так, как, чёрт подери, захочу. Я вспоминаю об этом, и моё лицо перекашивает нехорошая усмешка.
– Близзард? – спрашивает Лена.
– Чего бы ты больше всего хотела сейчас, Легран? – вопросом на вопрос отвечаю я, присаживаясь на край ванны.
– Жрать, – грубо отвечает она и хохочет. Я присоединяюсь.
– Для начала жрать, а обо всём остальном мы подумаем чуть-чуть попозже, – говорит она, насмеявшись.
– Месть – блюдо, которое подают холодным, – раздаётся от двери голос Фэрли. Он не входит, а говорит, стоя за порогом. Лена торопливо прикрывается полотенцем.
Когда она, наконец, вытирается и натягивает на себя какое-то платье, мы выходим в комнату. Фэрли сидит в кресле, закинув ногу на ногу, и с наслаждением предаётся пороку, выпуская в воздух кольца табачного дыма. На нём чёрный костюм и длинный плащ, точно он собрался с визитом, волосы собраны сзади и перехвачены лентой.
– Леди, – говорит он и целует нам руку.
Да, этого у Фэрли не отнять. Манеры из него не выбить ничем, даже крепостью Утгард. Полагаю, наоборот, его праправнуки будут гордиться сим знаменательным фактом. Потом – когда-нибудь, когда наступит завтра, которое все мы так ждём. Единственное, что напоминает о тюрьме – это явная, такая же, как у нас, худоба. Мне становится стыдно, что, по-видимому, только я одна не успела привести себя в порядок.
Потускневшее угрюмое зеркало в серебряной раме на стене – и в нём я. Непохожая на себя, с перемазанным лицом и больными глазами. Волосы слипшимися сосульками висят вдоль щёк – таких худых, точно меня морили голодом месяц, не меньше. При помощи знахарки я быстро справилась бы с недугом, но только не под серым небом Межзеркалья, и не на ледяной металлической койке, рядом с которой стоит миска с пойлом, которым впору кормить свиней. Ну, теперь этому не бывать. Будет и знахарка, и какая-никакая одежда, а главное – еда не из мусорной кучи. И горячая вода... Вот чёрт!
Наверное, это отражается у меня на лице, потому что Фэрли укоризненно говорит:
– Кровь твоего рода не испортит никакая грязь Утгарда, Близзард. Ну, а теперь к делу, – продолжает он. – Затопеч притащил Ван Веллера.
Ван Веллер сидит в кресле и добродушно смотрит на меня. Посреди гостиной, полной государственных преступников-смертников, портреты которых с надписью «Вознаграждение 10 000 монет золотом», как и следовало ожидать, висят на каждом углу и украшают первую полосу утренней газеты. Этот седой, как лунь, старик-голландец с золотыми руками не испугался бы, даже если бы к нему пришёл покойный хозяин. Наверное, старый мастер-зеркальщик за свою жизнь видел вещи куда страшнее.
Мне нравится наш мир, и я не хочу, чтобы в нём что-то менялось – потому, что каждый тут на своём месте. Семьи блюдут традиции родовой знати, Династии мастеров подчиняют себе какое-то выбранное их далёким предком ремесло – и уж в этом-то ремесле равных им нет. Учёные сидят в Башне Наук и "считают звёзды", как шутил когда-то Винсент, а на самом деле знают всё о секретах мироздания. Признаться честно, я понятия не имею, чем занимаются учёные, потому что это не моего ума дело: как я уже говорила, думать и решать – не моя задача. Есть ещё челядь – подменыши, потомки фейри, подброшенные людям; если такого подкидыша вовремя не забрать, позволив вырасти среди них, он всегда будет угрозой для общества, которое, как известно, не терпит отличий – значит, его судьба будет предрешена. Карлики-подменыши не блещут красотой, но при должном старании и смекалке могут освоить любую из бытовых профессий, востребованных в огромных особняках поместий; впрочем, люди годны на то же самое.
И вот сейчас передо мной и сидит этот всем известный Ван Веллер, в мастерской которого наверняка пахнет смазочным маслом неведомых механизмов и пылью чужих дорог.
– Не помню вас, мисс, – качает он головой. – Вы ведь у меня никогда ничего не покупали, верно?
Я киваю. Ни я, ни Затопеч.
– Ну, что ж, не беда, – говорит Ван Веллер. – Никогда не поздно начать.
В результате я становлюсь счастливым обладателем новенького кольца, которое обхватывает мой палец, как влитое, и меня отчего-то заполняет такое забытое тёплое чувство, как в детстве, когда я просыпалась от солнечного луча на лице, и первое, что хотелось сделать, это улыбнуться, предвкушая новый день. И я, наконец, со всей ясностью понимаю, чего ещё мне так не хватало всё это время. Нашего мира.
Наш мир – с масляными лампами и свечами, пламя которых трепещет, будто мотылёк. С огнёвками – огненными мотыльками, которых иногда сажают внутрь фонаря. Со звёздами, яркими, словно светлячки, и светлячками, яркими, словно звёзды – потому что на самом деле это фонарики лепреконов. С дублинской эльфийской библиотекой, где чудесные волшебные книги соответствующего эльфам размера и веса выдают под залог твоей любви. Со звёздными часами на маленькой площади в Кракове, половинки которых переворачиваются, когда звёздный свет заполняет хрустальную колбу до краёв. С полными диковинок лавочками мастеров, делающих чудесные вещи: музыкальные инструменты, заставляющие танцевать до упаду, кукол, заставляющих смеяться до слёз, украшения и оружие, которым позавидуют нибелунги. И, конечно, зеркала. Простые, сквозные, портретные – где живут отражения предков. Блуждающие – прихоть остряков, льстивые – фантазия женщин, притворяющиеся дверьми, картинами или стёклами – осмотрительность прагматиков. Прекрасен наш мир, где есть пока ещё кузнецы, фонарщики и трубочисты, идущие с лестницами наперевес, часовщики с цилиндрической линзой, которую они смешно сдвигают на лоб, когда крутят в пальцах сломанную шестерёнку, с досадой прищёлкивая языком, и важные, похожие на пингвинов воспитатели челядинцев-подменышей. И я люблю наш мир таким, каков он на протяжении веков.
Ван Веллер заканчивает. Макрайан порывается что-то сделать, и я даже догадываюсь, что.
– Нет, Уолли! – рявкает Фэрли.
Макрайан подчиняется.
– Прошу, господин Ван Веллер, – Фэрли делает приглашающий жест в сторону дверей, и, когда они выходят, я скорее угадываю, чем слышу, "забудь", срывающееся с его губ. Это слово пахнет ракушками и речным песком, как подёрнутая рябью вода на мелководье.
Фэрли вскоре возвращается и свирепо глядит на Макрайана.
– Не думал, что ты в тюрьме последние мозги потерял, – цедит он сквозь зубы.
– Но, Фэрли... – пытается что-то возразить Уолден.
– Ты знаешь в Британии кого-то ещё, кто может сравниться с Ван Веллером? – вкрадчиво спрашивает Фэрли. – Может быть, у тебя есть с десяток знакомых зеркальщиков, только знай, выбирай?
И ювелир, и учёный. Старый мастер, держащий в руках тайны отражений.
Макрайан молчит.
– Что именно из фразы "по возможности не убивать" ты не понял? – с сарказмом продолжает Фэрли. – Или ты хочешь поставить под удар нас всех? Подозреваю, лично я не выдержу и двух... приватных бесед подряд с нашим... теперешним хозяином, – с Макрайаном надо говорить подоходчивее. Фэрли всегда знает, как и с кем надо разговаривать.
Он немного запинается перед последними словами. Быть может, как раз сейчас настало время поговорить о том, что же произошло? Если, конечно, кого-то что-то не устраивает.
Видимо, устраивает всё и всех. Уже одно то, что мы сейчас здесь, а не в Межзеркалье, дорогого стоит. Придётся немного поступиться принципами. В конце концов, проблема не в самих полукровках, они встречаются даже в очень знатных Семьях, в противном случае мы давно бы исчезли как вид. Проблема в тех из них, кто не принадлежит нашему миру целиком и не воспитан в его традициях. Распущенных дураках, забывших о грани, и бесперечь оглядывающихся на людей. И, наконец, есть главная причина: существует сила, которой нельзя не подчиняться. Цена разумна: всё, что ты захочешь. Вопрос не в личности хозяина – а в его наличии.
Я не знаю, что новый хозяин сказал другим, но, судя по всему, то же самое, или что-то очень похожее.
Помимо того, захотеть можно действительно всё. И кроме контроля мезальянсов полно вещей, о которых стоит позаботиться. Но в итоге ты получишь то, что любишь больше всего на свете. Будем говорить прямо, чего уж там. Наслаждение. Власть. Удовлетворение и месть. Кто бы ни был в конце концов твой хозяин.
Фэрли, похоже, думает о том же.
– Мы не знаем, что здесь произошло, – озвучивает он ход своих размышлений. – Ясно одно: Райт – это уже не Райт, или не совсем Райт. Я даже думаю, вернее, я надеюсь, что... – он осекается и замолкает.
Никто не переспрашивает. И так понятно, что он имел в виду. Ещё вчера мы ни на грош не верили ни в провидицу, ни в Прорицание, но вчера – это было вчера. А теперь мы не могли не признать очевидный факт: Прорицание сбылось. Но мы не лишились хозяина, а попросту его сменили.
Некто без прошлого – в ком от главы Сектора остались только внешность и лишённая эмоций память.
Стоит тишина. В камине трещит огонь, и блики его играют на наших лицах.
– Вы слышали всё сами, господа, – решительно подытоживает Фэрли и ставит в своём монологе точку. – В конце концов, речь идёт о будущем, где само наше существование уже не стоит под вопросом. Прошу вас пока что не покидать этот дом. Полагаю, стоит сделать паузу и осмотреться.
Я быстро привожу себя в порядок, а тем временем внизу, в большой гостиной на столе появляется еда и вино. Я закуриваю сигарету и, грея в руках хрустальный бокал, не отрываясь, смотрю в огонь. Мысли мои возвращаются к Винсу – где он? Что он? Есть он в стране или нет? А, может быть, вообще убит? Я стараюсь об этом не думать. Через пару суток, самое большее, через неделю, я об этом узнаю. Жизнь приучила нас всех думать о сегодняшнем дне.
В гостиную входит Затопеч. В руках у него граммофон; когда-то в юности мы развлекались с такими штуковинами... "Дунайские волны", шановная панна?" – "Затопеч, прекратите, вы невозможны!" – и хохочу, хохочу так, что слёзы выступают на глазах, а он протягивает мне батистовый платок...
Гостиную наполняют звуки старинного танца. И вдруг ко мне подходит Затопеч, склоняя голову в церемонном поклоне.
– Чши окаже ми пани пшиемность и пуйде зэ мноу на таньце? – говорит он.
И я так же вдруг соглашаюсь.
Я словно вижу сон, как будто кусок из затянутого туманом далёкого прошлого, старую фотографию, пожелтевшую, всю в трещинах и царапинах, на которой вроде бы ты, а вроде бы и не ты.
Я танцую с Затопечем на балу в честь совершеннолетия, на мне белое платье с декольте, волосы тяжёлой волной спадают на обнажённые плечи. На пальце кольцо с бриллиантом – я уже помолвлена с Винсом. На балу я, конечно, без перчаток и бриллиант сверкает в свете люстр. И зовут меня там, в этой другой жизни, по-другому: панна Ядвига Войцеховская.
Создатель великий, как давно это было! Да было ли вообще?! Где та девочка с камелией в волосах? И где тот юный шляхтич с точёным профилем, что вёл меня тогда в танце?
Хотя, профиль-то как раз тот же самый, только седина выбелила виски и взгляд жёсткий, беспощадный...
Тогда мы не знали почти ничего: ни счастья хрустальной волны разговора-зова, ни наслаждения властью над жизнью и смертью, ни радости подчинения...
Затопеча представил хозяину его отец, а Затопеч привёл Винса и меня – тогда, когда мы уже превратились в изгоев, отмеченных Утгардом.
И так всё это и тянулось – день за днём, ночь за ночью, месяцами, а потом и годами – в ожидании вожделенного завтра, которое, хоть убей, не желало наступать. Когда нам грозили облавы, мы скрывались в Карпатах, неподалёку от Богом и Дьяволом забытой человечьей деревушки, в месте, которое когда-то было сожжённым имением моего деда, тем более, нам в любом случае негде было жить, потому что Близзард-Холл к тому времени уже отошёл к властям. Часть дома восстановили, а вместе с ней восстановили и опёку владетеля. В итоге до поры до времени мы были в полной изоляции – и в полной безопасности.
Полусгоревший флигель в Карпатах – вместо родового поместья под Нью-Кастлом. Клетка для канарейки – без канарейки, которая сдохла тучу времени назад, грязное тряпьё, пахнущее гарью, и кучи обгоревшего хлама, на который мы вечно натыкались впотьмах, если возвращаться приходилось без фонаря, чтоб свет издалека не заметили деревенские олухи, или кто-то другой. С деревенскими простаками мы бы разобрались быстро, это, наоборот, внесло бы некоторое разнообразие, однако мы не хотели привлекать внимание.
Имущество в Британии давно конфисковали, а сами мы находились вне закона. По ночам я иногда тянулась пальцами к клейму и в бессильной ярости, беззвучно плача, царапала ногтями давно заживший косой рубец – пока не успокаивалась. Тогда я вытирала слёзы и клялась себе, что те, кто когда-то посмел прикоснуться ко мне, и кто хотел, чтобы впереди у меня не было ничего, кроме позора, захлебнутся в своей крови. А потом наступало утро, и дорожки от слёз я убирала, пока не заметил Винсент, умываясь ледяной водой из стоящего в соседней комнате таза.
Винс-Винс-Винс, – бьётся в мозгу в такт вальса, – где же ты? А музыка всё играет и играет.
Напротив меня серые глаза Затопеча. Он тоже, как и я, мыслями далеко отсюда. Быть может, частично в той же самой стране воспоминаний.
– Интересно, где ты сейчас, Ядвига? – подтверждает он мою догадку, назвав по имени. Меня давно никто так не называет.
– Бал в честь совершеннолетия, – чуть улыбаюсь я.
– Ты была такая красивая, – говорит он.
– В прошедшем времени, – уточняю я, и провожу рукой по левой щеке. Один рубец почти пересекает глаз, и красивей от этого я, конечно, не становлюсь.
– Извини. Я не хотел тебя обидеть, – теряется он.
– Пустое, Затопеч, – по фамилии – по старой детской привычке. – Ну не всё ли равно?
Музыка кончается. Я выхожу из гостиной и иду в комнату, которую мы с Леной облюбовали для себя.
На улице уже почти ночь. За оконным стеклом бьётся ветер. Старая развалина Кинг-Голд-Хаус поскрипывает под его напором, изо всех щелей дует.
Облезлый полуразвалившийся дом – вместо всего того, что могло, и должно было быть. Сволочи, позор нашего мира – полукровки, стоящие у горнила власти. На всех ключевых постах, даже во Внутреннем Круге – везде, куда не ткни, полно потомков проклятых людей, взявших моду оглядываться на них, как на эталон и забывающих о своих корнях.
Конечно, кто-то мог подумать, что мы противоречили сами себе, сквозь пальцы глядя на прихоть использовать людей, как рабов или слуг, ибо, если бы мы не хотели, чтобы они прознали о нашем существовании, то держались бы в тени, изредка мирясь с необходимостью браков. Чёрт подери, что за дерьмо?! Да попади человек в наши поместья, он так там и оставался, если, конечно, не предпочитал своей участи смерть. Уж мы-то, наученные веками противостояния, могли позаботиться о собственной безопасности. Да и никакой подменыш не сравнится с человечьей горничной. Паршивку можно наказать, заставив ощутить невыносимую боль, или просто собственноручно выпороть, – и поверьте, ничто не доставит вам такого удовольствия. Другое дело, что сейчас не было предмета для споров, так как пока что решали не мы. И, как бы ни был силён хозяин, нас всё равно осталось мало. Особенно когда началась война, и проклятые лицемеры, наконец, перестали изображать из себя невинных овечек и принялись вовсю использовать ровно те же способы, что и мы.
Я ложусь на кровать и бездумно смотрю в тёмный потолок. Меня тяготит вынужденное бездействие. Фэрли мне, конечно, не указ, но просто-напросто это разумно.
Кто-то открывает дверь. Я автоматически концентрируюсь.
– Близзард, – раздаётся знакомый голос.
– Легран, – говорю я в ответ.
Она подходит к кровати и ложится рядом со мной.
– Очередная точка отсчёта, – в темноте не видно, но я уверена, что она усмехается. – Представляешь, у тебя есть шанс начать новую жизнь.
До этого я улыбалась, теперь хохочу в голос.
– Скорее ад замёрзнет, Легран, – еле выговариваю я. – Чем я начну совсем уж новую жизнь.
– О чём вы с Затопечем говорили? – чуть погодя спрашивает она.
– Не смейся. Ты не поверишь, – с сарказмом отвечаю я. – О девственной чистоте.
– То есть? – в темноте видно, как Лена приподнимается на локте. От удивления, должно быть.
– Бал в честь совершеннолетия. Белое платье. Камелия.
– А... – понимающе тянет она. – А у меня было зелёноё. Подходит к цвету волос. Поэтому.
– Ой, Легран! – восклицаю я. – Ты тоже становишься сентиментальной.
Она закрывает мне рот рукой.
– Ужас! Ненавижу это слово! Никаких сантиментов, Близзард! Но бездействие – оно...
– Невыносимо, – заканчиваю я.
Бездействие, как известно, предвестник скуки – и необдуманных поступков.
Глава 5
– Эдвард!
Нет ответа. Пожилая женщина подходит к двери, прислушивается и, укоризненно качая головой, стучит по резному дереву, сначала не очень громко, поминутно прислушиваясь и ожидая хоть какой-то реакции, а потом всё сильнее и сильнее. Наконец, из-за двери раздаётся неразборчивое мычание.
Эдвард Монфор просыпается. Понедельник. "Ненавижу понедельники", – с отвращением думает он, нашаривая очки. "Тем более после столь хорошо проведённого воскресенья", – додумывает он, вставая.
Вообще-то его фамилия когда-то звучала "де Монфор", но приставку "де" отбросили. Отец говорил, что так зваться могут только напыщенные снобы из аристократов, а их семья к таковым себя не относила, и потому аристократическую частицу постигло забвение. А жаль. Эдвард думает, что неплохо иной раз звучать хоть чуть-чуть поаристократичнее, потому что тогда можно было бы слегка почваниться хотя бы именем, так как других поводов для хвастовства уж точно не находилось. Но когда-то отец разъяснил ему, что из себя представляют все эти, как он тогда сказал, зазнайки, – и что в конечном счёте всех их ждёт Межзеркалье. Эдвард испугался, потому что отцу можно было верить – через его руки проходили все те, кто как раз туда-то и попадал: отец и мать работали в Секторе Всеобщего Покоя. Ещё отцу можно было верить, потому что он никогда не говорил с Эдвардом, как с маленьким. Но всё это было давно, когда и он, и мама были живы. А теперь в Сектор пошёл он, чтобы доказать всем, что и Эдди Монфор кое-что может. Хотя был склонен к полноте, неуклюж и проводить время предпочитал, уединившись с хорошей книгой.
Накануне они очень приятно скоротали время с коллегой из соседнего отдела. У того не было ни жены, ни детей, и он вполне мог посвятить выходные пиву вперемежку с ирландским виски и разговорами о всякой белиберде. У Эдварда тоже не было жены. Зато у него была тётя.
Эдвард хватается за голову и стонет. Как он мог забыть?! Тётя!
– Эдвард! – раздаётся из-за двери рассерженный голос миссис Элоизы. – Если ты сию секунду не спустишься вниз, то пожалеешь, клянусь!
Напоследок она ещё раз изо всех сил ударяет по двери, так, что та содрогается, а у неё чуть не падают очки, и Эдвард слышит, как её шаги удаляются в сторону лестницы.
Он со стоном плюхается на кровать и смотрит в потолок.
Сейчас тётя пойдёт на кухню и будет вязать, изредка звякая спицами, а потом каждые пять минут, а то и того чаще класть рукоделье на колени, поджав губы, прислушиваться и с беспокойством смотреть куда-то в потолок. Точно обеспокоена не количеством пыли на стеклянном колпаке лампы, а надеется разглядеть, что именно он делает.
Иногда Эдварду жаль, что они так обеднели, но тогда он начинает думать, что, будь всё, как в прежние времена, миссис Элоизе уж точно было бы нечем заняться. А сейчас у них всего один подменыш – повар, – да и тот готовит с горем пополам, и больше ничего не умеет, разве только песни поёт. Но Эдвард в них не понимает ни слова. А уж об этикете или чему там ещё можно научить прислужника, речь не идёт вовсе. Да и какой, к чертям, этикет – и кому и зачем он тут нужен? Никому и низачем. Несмотря на то, что они вдвоём – всё же Семья. Точнее, всё, что от неё осталось.
Наконец он кое-как натягивает рубашку, штаны, но вот пиджака не видать. Бесцельно побродив по комнате, заглянув в шкаф и под кровать, он вздыхает и идёт на кухню. Придётся-таки просить тётку помочь.
Элоиза Монфор стоит у плиты и делает пять дел сразу: чистит картошку, моет посуду, жарит яичницу, вытирает со стола и разгневанно глядит на Эдварда. Ну, то есть, всё это делается потихоньку само, точнее, с помощью беспрерывно что-то напевающего себе под нос карлика, который вперевалку перемещается между столом и табуретками, а основным занятием миссис Монфор остаётся воспитание племянника.
– Эдвард! Я никогда не ожидала, что ты окажешься таким безответственным!
– Ну, тётя... воскресенье, – вяло бубнит Эдвард.
– Я не про вчера говорю, Эдвард, а про сейчас! – восклицает миссис Элоиза. – Ты видел, который час? Что скажет мистер Дориш, если ты опоздаешь? Что подумают про тебя, про всю нашу Семью?
Эдвард смотрит на часы и приходит в ужас. "Вот поспал, так поспал", – огорошенно думает он.
А мистер Дориш... Да, мистера Дориша он боится, чего уж там. Тот даже и не скажет ничего, а только посмотрит – а всё равно как обухом по голове. Весь день в себя приходишь. Будто не опоздал или там бумаги перепутал, а государственную измену совершил.
Иногда Эдвард задаётся вопросом – а взяли бы его вообще в такое важное место, если бы не Джеймс? И если бы не тот факт, что когда-то в Секторе работали покойные родители? Ну чувствует он, что не по нему эта работа. Словно там он не на своём месте. Но, с другой стороны, какая альтернатива? В канцелярии Внутреннего Круга младшим помощником бумажки перебирать? Вот и получается, что альтернативы нет. Ну не в ученики же к мастерам идти – с его-то руками, из которых вечно всё падает и ломается? Наверное, он смог бы стать кем-нибудь вроде учителя, он ведь любит книги, но подумать страшно, что с ним сделали бы ученики, только почувствовав слабину. Ну, зато теперь есть шанс, что характер станет о-го-го. Пока ещё, конечно, не стал, но и Рим не за один день строился, так что время впереди есть.
"Хорошо Джеймсу, – беззлобно думает Эдвард, просто констатируя факт, – быть важной шишкой. Сидит в потолок плюёт".
Он вздыхает. Да, будь у него хоть какие-нибудь свои собственные деньжата – сидели бы и плевали вместе. А, может быть, и не плевали бы.
Семья маленькая – он и тётя. Когда-то были ещё папа, мама, сестра, дядя, ещё какие-то родственники – но что вспоминать о тех временах, которые всё равно не вернутся? Эдвард даже и вещи-то, которые им принадлежали, не любит находить. Потому что ни к чему. Потому что покойники всё равно не встанут из могил и не вернутся домой.
Он подпирает рукой щёку и задумывается. Вспоминаются школьные годы, хоть и маленькие, детские, но приключения, игры на крошечном стадионе, заросшем одуванчиками, где вечно бродили ничьи собаки, и нужно было прилагать усилия, чтоб не показать, что ты их боишься – потому что они похожи на волков из детской книжки, с жуткими жёлтыми глазами. А потом всё равно кто-то догадался, и время от времени, когда они приходили погонять мяч, ему начинали рассказывать страшные истории об Оборотнях из Одуванчиковых Зарослей, от которых он вздрагивал ровно два раза. А на третий уже нет. На третий раз, когда тётка в наказанье заперла его до вечера в комнате, он начал сочинять дальше свою Историю, где страшного не было, зато были приключения. Вспоминается всё это с налётом тихой грусти. Прошлого не вернуть, что ж поделать. Так же, как не вернуть Семью. И не он виноват, что его друг Джеймс отдалился от него. Это вышло как-то само собой. После того как Джеймс окончательно переехал в старинный дом, который достался ему по наследству. Жалко, что Эдварду не доставалось никогда и ничего – ни по наследству, никак. Он и не расстраивался об этом особо, а в тот раз почему-то взял и расстроился. Конечно, не удивительно – просто доставаться было не от кого. И тут они с Джеймсом вдруг обнаружили, что им не о чем говорить. Вот ведь странная штука – столько лет было о чём, а потом раз – и нет. Если, конечно, не считать дурацких разговоров о погоде, о природе и прочей чуши. С тех пор они виделись один раз, да и то это всего лишь дань былой дружбе.
– Эдвард! – восклицание миссис Элоизы выводит его из задумчивости. – Ты совсем мозги растерял? Как можно быть таким растяпой?!
Эдвард вздрагивает и приходит в себя. В самом деле, что это с ним? Он вспоминает о Дорише – это более насущно. Поёжившись, отказывается от завтрака, быстро натягивает на себя тёплое пальто и мчится к зеркалу в прихожей.
– Эдвард, постой! – нагоняет его голос тётки. – Купи мне, будь добр, у вас в Хокни что-нибудь от простуды. Ты ведь не завтракал, у тебя есть лишних десять минут.
Эдвард кивает. Вот всегда она так. Не одно, так другое. Уж тётка найдёт, на что потратить эти его десять минут. Ну и ладно. В конце концов, ему не трудно. Значит, у него будет на пять собственных минут меньше, но это лучше, чем ничего.
Оттопырив палец, он кое-как поворачивает ключ и исчезает за расступившейся гладью зеркала.
Тётка стоит и некоторое время смотрит ему вслед.
– Миссис. Пуговица оторвалась, да и ботинки, кажись, не чищены, – ворчливо сообщает зеркало, снова превращаясь в картину с цветами. Миссис вздыхает и отправляется обратно на кухню: надо переделать ещё кучу дел, да и спина что-то разболелась – видно, к непогоде.
Дети так быстро растут...
Эдвард выходит из аптеки и останавливается напротив спортивного магазинчика, такого крошечного и замызганного, что не сразу понятно, чем там торгуют. Но, на взгляд Эдварда, его достоинств это не умаляет нисколько. Это и есть та причина, по которой он не спорил с тёткой. Ещё со школьных лет он любит бывать тут – лучше всего в одиночку – просто как в музее. Конечно, он ничего не купит – как не купил и в прошлый раз; этого не случится ни сейчас, ни потом. Эдвард никогда не был предрасположен к спорту, ни к какому вообще. Плохо быть полным, и ладно, хоть в школе не смеялись. Он здесь затем, чтобы просто смотреть и мечтать, ведь это никому не запрещено.
Маленькая улочка его мира, точнее, и вовсе переулок. Ночной – какое красивое название. Толстые пыльные стёкла в витринах, за которыми чего только нет: можно найти кораблик в пузатой бутылке, сломанный вечный двигатель, маленькие хрустальные часы, работающие на лунной тяге, волшебные гадальные карты, окантованный медью капитанский компас с затонувшего корабля и много чего ещё. Фонари выстроились не ровным рядом, а повторяют линию застройки – одна лавочка вылезает вперёд, зато соседнюю и не видать, будто она стесняется. Над каждой входной дверью тоже маленький фонарь, у каждой лавочки другой, уж кто во что горазд. И все их вечерами зажигает фонарщик, появляясь в дальнем конце переулка в компании неизменной лестницы. Но сейчас уже утро, и фонарщик давным-давно прошёл и всё погасил. А жаль. Когда-то Эдвард подолгу поджидал момента, чтобы посмотреть и на фонарщика тоже, но так никогда и не набрался храбрости и не попросился хоть разок залезть на лестницу.
Он несколько минут стоит у витрины, не заходя внутрь, а потом вздыхает и отходит прочь.
Час ранний, и город пустынен. Кроме того, учебный год в разгаре, и школьников вовсе нет, они уже сидят за партами и выводят ровные строчки в прописях или решают задачи.
Навстречу ему идут две женщины, одетые в тёмные шерстяные пальто. Капюшоны надвинуты так низко, что и лиц не видать. Оно и не удивительно, – думает Эдвард, поёживаясь – погода не холодная, но ветер довольно-таки сильный.
Он, скользя на мокрой брусчатке, пытается на полном ходу обойти женщин по кривой слева, но не рассчитывает и толкает одну из них. Учитывая то, что движется он с немалой скоростью, толкает довольно сильно. Вот чёрт!
– Извините, – Эдвард краснеет и мельком бросает взгляд на её лицо, которое теперь можно разглядеть, потому что от толчка капюшон немного сдвинулся. И застывает.
Эдвард только начинает догадываться, что они где-то встречались, когда видит женщину лишь с правой стороны. Этот чёткий, как камея, профиль, прищуренные серые глаза, жёсткая, даже жестокая усмешка – где он её видел? Он злится на себя за дурацкую привычку краснеть всякий раз по поводу и без, и потому мысли о женщине у него где-то на десятом месте.
И тут она чуть поворачивается к нему, и он видит левую сторону её лица: щёку ближе к виску пересекают полосы шрамов, одна из них идёт практически через глаз. И Эдвард вдруг понимает, кто это.








