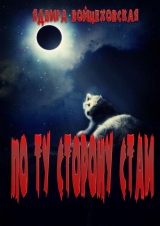
Текст книги "По ту сторону стаи"
Автор книги: Ядвига Войцеховская
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Книга первая
Часть первая. «Бездна»
Глава 1
Всё случилось до идиотизма просто.
Нас взяли прямо около дома Джонсонов. Сам Джонсон – судейский чиновник – то ли что-то не сделал, то ли сделал, да не так. Нам было без разницы. Отвратное имя, отвратная хибара в типовом районе. Сквозное зеркало, нахально притворяющееся какой-то абстрактной новомодной мазнёй и вполне себе способное забросить неизвестно куда. Мы завалили их всех: самого, жену и поварёнка, который не успел смыться. В этом вонючем сарае ещё и поварёнок был! Грязный, словно только что вылез из канавы. Наверное, он жил у них в угольном подвале, не иначе.
– У вас нет носового платка? – спрашиваю я Винсента.
Странная штука боль. Можно убить сразу, не пошевелив даже пальцем, но зачем? Боль – это наркотик, а хозяину не важно, как именно выполнен приказ. Чёрная бездна заполняет тебя до краёв и изливается волной, подобно штормовому морю. Боль, увечья или смерть – всего лишь плод внушения, да только вот незадача – тело об этом не знает.
Винсент молча подаёт мне платок. Я стягиваю кольцо – зеркальный ключ – и вытираю скользкие пальцы.
Чудесная весенняя ночь вокруг, и голова кружится от запаха роз и прилива адреналина. И вдруг события начинают развиваться с быстротой урагана.
Где-то совсем рядом раздаётся еле слышный шорох, и меня почти тотчас сбивают с ног. Кольцо, как живое, выскальзывает из пальцев и исчезает в темноте, фонарь ударяется о землю, и я слышу звон разбитого стекла. Нечто наваливается сверху с такой силой, что я не могу пошевелиться.
– Чёрт подери! – испуганно говорит кто-то, по голосу совсем ещё мальчик. Интересно, он просто не ожидал, что плюхнется на женщину или...? Или. Холод касается моей левой руки.
– Да у неё на плече... глядите!
– "Волчий крюк". Что ж ты, клейма утгардского никогда не видел, что ли? – удивляется другой, по голосу постарше.
– Нет, сэр, – почти шепчет первый. – У меня практика... третий день только.
– А. Стажёр, – равнодушно констатирует старший и сплёвывает. – Учись, студент. А ты кого ожидал здесь встретить? Санта-Клауса?
– У неё пальцы... в чём это?
– В том самом, малыш, о чём ты думаешь. Она, сука... – ощутимый пинок под рёбра, – ...просто так бы... – ещё один пинок, – ...отсюда не ушла... "Чистильщики".
"Покойники", – с мрачным сарказмом думаю я, от души жалея, что издевательская кличка пока не соответствует действительности.
Слабо бьёт. Чему их там только учат, в этом Секторе Всеобщего Покоя. Будь сейчас на его месте я, всё вышло бы по-другому.
"Не ушла". Значит, Винс успел, рванулся назад и рискнул пройти через наглое зеркало. Молодец. Где бы у чёрта на рогах он ни оказался, это "где-то", по крайней мере, не здесь.
Как близко до свободы – всего несколько шагов и ключ, которого у меня уже нет. И непреодолимая преграда в виде дежурного наряда Сектора.
– Двое и прислужник, – кто-то ещё выходит из дома.
– Урожайная ночка, а? – вставляю я с насмешкой.
– Ах ты... – он не договаривает. Вот теперь удар так удар! Сразу видно, нача-а-альник пришёл. "Покойник" пинком заставляет меня перевернуться на спину, и теперь приходится лежать на руках, стянутых наручниками. К самому лицу опускается огонёк – кажется, такие фонари называются "Летучая мышь". Назывались – где-то там, в другой жизни.
– Близзард, – говорит он. – Я мог бы и догадаться.
Презрительно усмехаюсь. А что мне ещё остаётся?
– Ключ её где? – спрашивает он.
Да, я бы тоже хотела это знать. Его коллеги переглядываются, и тот, что постарше, быстро меня обыскивает. Результат отрицательный.
– Бабу в Сектор, – распоряжается начальник. – Эдвард, в дом не заходи, – останавливает он молодого, который делает было шаг к крыльцу. – Периметр прочесать, бирюльку её найти. Хоть всё здесь вверх дном переверните.
– Что, не боишься, что нервы сдадут? – иронизирую напоследок перед тем, как старший с такой силой дёргает меня к себе, что земля уходит из-под ног. И всё так же благоухают невидимые в темноте розы...
Чёртов засранный кабинет в чёртовом Секторе. Стол завален бумагами, скрепками и прочим мусором; на стене прилеплены фотографии тех, кого Внутренний Круг жаждет видеть за решёткой тюрьмы Утгард. Рудольф, Анри, кто-то ещё... Винс, рядом я собственной персоной, почему-то Лена, хотя она уже давно не на свободе. Не могу больше никого разглядеть – зрение всё время стремится расфокусироваться после того, как меня хорошенько прикладывают затылком об стену и пихают к низкой длинной лавке, липкой, будто её облили пивом. На ней я, по-видимому, должна ожидать своей дальнейшей участи.
Рядом со мной сидит какой-то чудной старик и дрожащими пальцами перебирает пустоту, будто чётки – их, видать, отобрали. Из обрывков разговоров я выясняю, что вроде бы он тут за то, что торговал в деревенском трактире амулетами "от порчи", которые, надо полагать, не делали ни шиша или делали как раз обратное, – в общем, за чушь собачью. Юморист. Зачем ему это было надо, не представляю. Старик, всхлипывая, нудно бубнит себе под нос одно и то же, будто заезженная пластинка. Он занимается этим до тех пор, пока не натыкается на мой тяжёлый взгляд.
– Заткнись, – говорю я. Он вздрагивает.
В помещении никого. Рыщут, похоже, "на периметре". Чудесная предстоит вечеринка, Близзард. Только последняя – но разве не относительно всё в этом мире? Ещё час назад я была охотником, сейчас – добыча, а завтра... Завтра будет завтра.
Вокруг нет ни одного зеркала, а если бы и были, так что с того, когда нет ключа? Наручники врезаются в плоть с такой силой, что я, кажется, останусь без рук прежде, чем меня засунут в ледяной ад Межзеркалья. А что впереди ждёт именно он, нет ни малейшего сомнения.
Межзеркалье всегда ждёт в итоге таких, как я...
...Отверженных, выкинутых за борт соплеменниками, решившими идти вперёд. Не пожелавших, подобно этим соплеменникам, слиться с людьми и прикидываться, что мы такие же, как и они.
Да, у меня тоже было две руки, две ноги и одна голова. Но ещё у меня была гордость, чистая кровь, память о Тёмных Веках и желание, а, главное, возможность держаться от людей подальше. От их дурацких домов, дурацких машин, фабричного дыма, поездов, телефонов – и дурацких суеверий. Даже иные слова у них были дурацкие, и от них попросту болел язык. А тот, кто назвал бы меня ведьмой или фейри, был бы мёртв быстрее, чем успел произнести это слово до конца. Дурацким и опасным был весь мир в радиусе нескольких миль вокруг меня – если там находились люди.
Однако всё же мы жили в этом мире, а не в каком-нибудь другом, и год на дворе стоял тысяча девятьсот девяносто пятый, – и потому от костров святейшей инквизиции нас отделяло несколько сотен лет. Но надо было быть самовлюблённым легкомысленным дурнем, чтобы забыть о том, что история движется по спирали. Время от времени кто-нибудь брал и открывал своё поместье, снимая опёку владетеля: конечно, куда как интереснее было слиться с местным дворянством. Балы, охота, смешанные браки, плодящие полукровок, взращённых не в сообществе себе подобных, а в окружении людей. А следом за этим неизбежно революции, войны, народные восстания, просто идиотские смуты. И виной всему – чёртовы полукровки, не воспитанные, как должно. У них напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения, заставивший их хотя бы не распускать свои поганые языки. Поместья горели, как костры, оставляя после себя чёрные руины, где нельзя было найти и трупов тех, кто ещё вчера гордо выезжал в сопровождении сонма слуг и псовой охоты. Надменных заносчивых глупцов, из-за скуки поплатившихся собственной жизнью. Трусов, не способных драться и убивать, из опасения предстать перед Кругом – за убийство всего-то кучки никчёмных людишек, напуганного деревенского сброда, которые сильны только тогда, когда их много.
Всё это было пройдено сотни раз – да только большинство, верно, были нерадивыми учениками, которых следовало бы учить уму-разуму палкой – до тех пор, пока не осталось бы ни одного, кто не усвоил урока: стоит людям узнать про нас и заподозрить неладное – и одно тянет за собой другое, как снежный ком, катящийся с горы. Сначала просто косые взгляды, потом в соседней деревне дохнет корова, а затем ещё одна или две – и можете считать, что костёр и в приложение к нему озверевшая толпа с дрекольем вам обеспечены. Плюс масса незабываемых впечатлений, только, к сожалению, последних на этом свете. Природа людей такова, что они боятся всего, чего не понимают. Байки о Благом Дворе, Дикой Охоте Неблагого, о ведьмах и дроу хорошо рассказывать ночью под одеялом, зная, что это всего только выдумка. Стоит появиться человеку, немного отличному от других – и страх затмевает всё. А потом он рождает ненависть. Не знаю, как они умудрились открыть электричество – и научились не кидаться с топором наперевес на паровозы и машины...
Долгая будет нынче ночь, Близзард. За стеклом раскачивается от ветра простой жестяной фонарь, а где-то в вышине выглядывает в разрывы туч луна. Начинают болеть рёбра, по которым прошёлся тяжёлый сапог, и по-прежнему остаётся пять проклятых часов до рассвета, а я слишком устала, чтобы спать... И всё ещё не так устала, чтобы спать... Иногда мне кажется, что я никогда не устану – и никогда не высплюсь. Хорошая память – странная штука. И благо, и проклятье...
...Солнце лиловое-лиловое, словно поникший цветок вереска у меня в руке. Я сорвала его просто так – чтоб не заплакать, – когда сидела и пыталась высушить волосы и платье. Мимо солнца быстро бегут тучи и они похожи то на растрёпанную русалку, то на кормилицу в чепце, то на шмеля над лепестками шиповника. Эти тучи совсем не такие, как облака над горами, сквозь которые прорываются столбы синего света и падают вниз, будто сделанные из твёрдой воды. Сейчас облака чёрные, словно уголь в камине – с самого раннего утра. Мне не следовало уходить так далеко от дома, нет, не следовало.
...Гроза подкрадывается внезапно, откуда-то из-за грабовых верхушек, и – вот досада – не проходит и минуты, как я уже мокрая, будто упала в реку, и даже на ресницах дрожат капли. Странно: и вереск, и дождь, а теперь и мои волосы тоже пахнут сегодня так, словно растопили камин. Хочется заплакать, но нельзя – плакать недостойно. И предательские капли на ресницах – это всего только дождь, правда? Как маленькая. Дедушка тоже может подумать, что я маленькая, а это совсем не так, ведь мне почти десять.
В конце еловой аллеи уже виднеется имение. Тени от деревьев подсказывают мне, что день перевалил далеко за середину, и я непременно опоздаю к обеду.
Дедушка в гостиной, и тишина такая, что мне становится страшно. Не слышно даже звона обеденной посуды.
– Простите, дедушка, – тихо говорю я. На каминных часах четверть третьего, и никакое чудо не избавит меня от наказания.
Взгляд мой останавливается на дедушкиных руках: пальцы сжались на рукояти трости так крепко, что, того и гляди, она переломится пополам. Дедушка почему-то не смотрит в мою сторону, и это ещё хуже, чем если бы он бранил меня. Хотя это недостойно – предпочесть наказанию низкую брань.
– Курва мац, – вдруг говорит дедушка сквозь зубы и пристукивает тростью. Быть может, он не слышал, как я вошла? Я пугаюсь и так сжимаю цветок в кулаке, что он превращается в бесформенный тёплый комочек, так что уж и не разберёшь, что это было. И тут же слышу, как он продолжает: – Зофья.
Пани Зофья живёт на севере, за горами. Я видела её всего один раз, а жаль – она такая красавица. Когда я буду совсем взрослой, у меня непременно будет точно такое же платье, и такая же милая маленькая шляпка, и элегантные башмачки с пуговками, обтянутыми шёлком. Однако, как чудно, что дедушка назвал её этими словами. Он никогда не позволяет себе таких слов, даже если очень рассержен. Я слышала их совсем недавно – от мальчишки, который ловил саламандр в грабовом лесу за вересковой пустошью. Там жуть до чего много деревьев, коричнево-серых, высоких, как гора, так что и верхушек не видать, а на земле целое море листьев, в которые проваливаешься, будто в сугроб. Саламандры – чёрные с ярко-оранжевыми крапинками, похожие на головешки – неподвижно сидят на камнях. Греются на солнце. А подойдёшь чуть ближе – они ныряют куда-то в прошлогодние листья, и только их и видели. Мальчишка сказал, что они могут жить в огне, а, значит, о них легко обжечься. "Ты кто?" – спросил он. "Я оттуда, – ответила я. – Из-за леса". Тогда он обозвал меня лгуньей и сказал, что "там" никто не живёт, одни привидения. И тут ударил гром.
– Сегодня Зофья. Кто завтра? Что, Ядзя? – спрашивает внезапно дедушка. – Ах, да: четверть третьего... От дождя у тебя вьются волосы. Ступай, дитя, не сейчас, – продолжает он и бросает взгляд на солнце, мимо которого летят чёрные клочья.
Сердце начинает биться где-то в горле; я прихожу в детскую и тихонько сажусь на краешек кровати. Мне страшно шевельнуться и нарушить тишину неосторожным звуком. Я уже понимаю, что случилось что-то страшное. Оно пахнет мятой, чабрецом и полынью сверкающего летнего дня – с запахом горящего камина, и от этого в животе становится холодно, будто я проглотила кусок льда. Но вокруг никого, даже кормилицы нет – верно, ей велено оставаться на кухне, и она сидит там и так же, как и я, прислушивается к каждому шороху. Вдруг мне кажется, что я слышу её голос – она спрашивает кого-то: "Пан хочет...?" – но последние слова тонут в звенящей тишине.
К вечеру, когда фиолетовое солнце остывает и проваливается за деревья парка, я узнаю, что усадьба пани Зофьи сгорела дотла. Может быть, пани Зофья принесла домой саламандру? Мне тут же вспоминается тёмный грабинник, саламандры, похожие на головешки, и снова становится страшно. Один раз зимой у нас тоже мог случиться пожар: из горящего камина выстрелил уголёк – да и упал чуть дальше квадрата, обитого жестью, прямо на ковёр. После там осталась крошечная дырочка с обгоревшими краями. А ещё я видела в лесу обугленное дерево – молния расколола его на две части...
– Я что-то покажу тебе, Ядзя, – говорит утром дедушка – и я догадываюсь, что будет нечто такое, чему я предпочла бы наказание, даже самое страшное. Тёмные ели позади, и он подаёт мне руку. Я знаю: тут кончается действие защиты, которая нужна, чтобы к нам не забрался никто чужой. Опёка владетеля исчезнет, только если он умрёт, но думать об этом глупо, потому что как может дедушка – и умереть?
...Чёрные руины, от которых сильно тянет гарью – и мне боязно подойти ближе, будто они до сих пор пышут жаром. Но показывать страх нельзя, это слабость, и я подхожу к стенам, на которых уже прочертил полосы вчерашний дождь. Подумать только, ещё день назад тут был такой же особняк, как у нас, а теперь так тихо, словно на много миль вокруг нет ни одной птицы, и шмели не жужжат над шиповником, да и сам он стоит со свернувшимися от пламени листьями, коричневыми, словно обёрточная бумага. Я трогаю их – и они рассыпаются в пальцах щепотками пыли...
Дедушка что-то говорит, но я не слышу ни слова. Вместо слов – живые картины, как в волшебном калейдоскопе, купленном у цыган на ярмарке, да только он, видать, зачарован злобным колдуном. Ужас пробирает до костей, но и оторваться невозможно, как ни старайся... Нет защиты – значит, нет уже в живых того, кто очерчивал невидимый круг... "Запомни, Ядзя". Я запомню... Каждый обугленный камень. Каждую скрученную огнём былинку... "Смотри, дитя", – голос дедушки откуда-то издалека, – и новый поворот дьявольского калейдоскопа. Теперь уж я не смогла бы не смотреть, даже если бы меня пригрозили разорвать на части. Лопаются стёкла над маленьким балконом, увитым плющом – там наверняка была спальня, – и огонь, вырываясь наружу, принимается лизать каменные стены, а плющ чернеет, сворачивается и рассыпается золой – как шиповниковые листья в моих пальцах... "Запомни и это, Ядзя". Я запомню – у людей нет ничего, кроме ненависти, взращённой на благодатной почве страха и удобренной завистью. Для них мы – страшная сказка, рассказанная охотниками у ночного костра. Но ведь у охотников есть факелы и ружья... В спальне сгорает и милая маленькая шляпка, и превращается в обгорелую бесформенную тряпку платье, которое я так хотела бы носить, когда вырасту... "Не смей забыть это, Ядзя". Кровь – не вода, и её нельзя разбавить, не подвергнув опасности свой мир. Не запятнав позором честь Семьи... "Не отводи глаз, дитя". Смотри же: нельзя открыть сердце тем, кто тотчас же вырвет его и с ненавистью и страхом растопчет, пролив кровь тебе подобных. Будь проклят тот, кто забудет это...
Каждое слово – ясное, как чистый свет, что плещется в звёздных часах. Я протягиваю руку и прикасаюсь пальцами к почерневшей стене мёртвого дома. Я вырасту, и – клянусь честью – никогда не дам дедушке повода считать себя недостойной быть частью своей Семьи. На пальцах остаётся копоть вчерашнего пожара – я просто не посмею не запомнить.
...Я поднимаю руку и смотрю на пальцы, словно ожидаю увидеть на них чёрный мазок сажи, который был здесь двадцать лет назад. Но вижу только немного засохшей крови и землю с чёртовой клумбы, что была возле дома этих кровосмешенцев.
Хорошая память – то ли благо, то ли проклятье...
Наш мир оставался неизменен веками. Когда пришли города, он остался в них отдельными домами и пророс крошечными переулками в самых неожиданных местах. Он был на обратной стороне городов, надвинувшихся, как огромные дымные монстры; мы так и жили, переходя через изнанку зеркальной глади, расступающейся при повороте ключа. Нам даром не нужна была чёртова человечья цивилизация – с вечным смогом, грохотом подземки и визгом автомобильных шин. Эти слепцы вечно бежали по каким-то своим никчёмным делам, и не могли ощутить красоту земли даже на четверть. Живое тепло брусчатки, игру света за стёклами кованого фонаря, холмы и леса, населённые множеством существ. Иногда люди замечали что-то, малую толику, отбрасывали чёрный цвет и щедро добавляли розовый: так рождались их сказки.
Мы слишком долго сидели в своих поместьях, думая, что существующий порядок вещей незыблем. А когда проснулись и выглянули наружу, было уже поздно. Оказалось, что везде, куда ни плюнь, полно полукровок. Под угрозой вырождения Внутренний Круг, скрепя сердце, допускал приток свежей крови, но "приток" не означал "лавина" – и отнюдь не означал попустительство в воспитании. Сейчас же этот приток грозил ассимиляцией – и вот тогда слово "полукровки" для нас стало бранью. Недолго пришлось гадать над тем, чего ожидать от нынешнего Круга. Новых порядков – и бравых молодцев из Сектора Всеобщего Покоя. Кто оказался не согласен и говорил хоть полслова поперёк – того ждало с распростёртыми объятьями Межзеркалье.
А Межзеркалье всегда готово было высосать последние крупицы жизни.
Закон был прямо-таки милосерден. На первый раз тот, кого ловили на убийстве – неважно, человека или соплеменника – и неважно, из мести, для развлечения или по неосторожности, – отделывался сравнительно легко: полугодом ссылки в Межзеркалье, в тюрьму Утгард, где его поджидал палач с раскалённым тавром. Дело было не столько в самом убийстве, сколько в факте ослушания. Полукровая шваль, дорвавшаяся до власти, всеми силами жаждала втоптать нас в грязь, уравняв с ворами и бродягами. Да и какой ещё реакции можно было ожидать от тех, кто тяготел к людям?! Конфискация большей части имущества ввергала в нищету, но никакая нищета не могла сравниться с позором – о, да, снова будь благословен Закон. А вот второй раз был последним. После второго раза дорога лежала только в один конец: в пустоту между зеркалами, на краю времени. Там было то же самое солнце, только в этом "нигде" оно висело в другом небе, омерзительно низком и всё время словно беременном снегом. Пустота сначала отнимала тепло, а за ним и разум.
Мы вовсе не были кровавыми маньяками – но никому не позволено было решать за нас: отправить к праотцам провинившегося слугу, или охотиться на слонов, или сидеть в гостиной и мирно пить чай. И сейчас нас просто убирали с дороги. Не пожелав подчиниться и смешаться с людьми, мы исчезали, как тени от солнечных часов в полдень – вымирающие ископаемые, дремлющие под сенью гербов и девизов.
Где-то там, в прошлой жизни мы были молоды и горячи, и бурлила кровь шляхетская, и разлетались о стены кубки старинной работы – а мы пьянели уже не от вина, а от крови. Шумел в ушах тугой ветер ночной погони – охоты на особую дичь, под яркими звёздами и кровавой луной... Поднималась над протаявшей землёй красная дымка, – и нам не указ была шваль без роду, без племени, "псы поганые, попанувать вздумавшие".
...В двадцать лет, оставив в Утгарде мужа, я неожиданно оказалась единственным осколком своей Семьи – без средств к существованию, с клеймом на плече, статусом поднадзорной и лютой ненавистью ко всем тем, в чьих жилах текла хоть капля человечьей крови. Меня грела только мысль о том, что моя Семья была отомщена. Попадись я ещё раз, мне грозила пожизненная ссылка, а я выходила из вестибюля Сектора с низко опущенной головой, больше всего на свете презирая себя – за слабость и трусость. Я не смогла тогда покончить с собой – чтоб не дать прикоснуться ко мне палачу, а потом много, много кому ещё. После шести месяцев сплошного кошмара впереди был только позор. Чёрт подери! Стала бы я думать о том, чтобы соблюсти их проклятый закон, который в моих глазах и законом-то не был! Что ещё ты можешь потерять, если и так твой статус ниже, чем у последнего нищеброда? Ты можешь попытаться только утолить свою ярость и свою жажду мести – перед Межзеркальем, где когда-нибудь кончались все пути.
Я была зла, как чёрт – на людей, полукровок и даже на ровню, избравшую молчаливый нейтралитет. Словно именно мне суждено было впитать в себя всю ненависть, скопившуюся за века костров и серебряных пуль.
Молчите и дальше, трусливые дурни, которые могут только тихонько ворчать по углам. Молчите – и скоро люди начнут входить в ваши поместья, как в свои, пинком открывая дверь. А те немногие Семьи, что не стали ещё слабовольной жертвой скуки и мезальянса, будут вынуждены пускать их девок хозяйками фамильных спален. И когда-нибудь наш хрустальный мир не выдержит и разлетится на осколки...
Мои пальцы помнили маслянистую копоть недавнего пожара, и мне было не важно, руины чьего дома услужливо подсовывает мне память – пани Зофьи или моего собственного, и что это за место – Карпатские горы или Британия. О, я, верно, зубами перегрызла бы глотку любому, кто усомнился бы в моём праве на месть.
А после Утгарда был наш мир, уже не похожий на себя, словно отразившийся на поверхности озера, по которой разбегаются круги от дождевых капель. Тёмные провалы узких окон, готические своды, под которыми ещё дрожали гулкие шаги подкованных железом сапог – и заляпанные сургучом двери, с которых мы, ломая ногти, сдирали казённые печати. Мы были теми, кто существовал теперь по ту сторону закона – но это пока не могли стать по эту сторону его. По ту сторону морали – потому что мораль можно было и изменить, – тогда, когда поменялся бы закон. По ту сторону общества – до наступления вожделенного завтра, пока тупое стадо баранов силой не убедили, что та сторона – не самая худшая из зол. Иногда мне начинало казаться, что это диагноз – всю жизнь быть "по ту сторону". Но теперь мы жаждали мести, желая получить по счетам – кровью и жизнями шелудивых безродных псов, возомнивших о себе невесть что.
Кровь за кровь.
Жизнь за десятки жизней.
О, да, ешьте власть, досыта – полными ложками, – если сможете. А если не сможете, мы вколотим вам её в глотку силой.
Чтоб никому и никогда больше не хотелось сдвинуть чашу весов и перемешать понятия "мы" и "они", слепив безликое нечто.
Нас ждёт Сектор, казённые кабинеты и чиновники, знающие толк в искусстве допросов.
Нас ждёт приговор Внутреннего Круга, но мы бы наплевали в бороды всем плюгавым извращенцам, трусливо отводящим взгляд в сторону.
Их ждёт страх.
Нас ждёт Утгард.
В огромной пустоте без начала и конца, там, где кончается время...
Входят «начальник», как я его про себя окрестила, и молодой парень в очках по имени Эдвард. Ну да, он же недавно тут у них, значит, именно на мне он и будет тренироваться. Какая прелесть!
Они проходят к столу, и старший кладёт на него моё кольцо-ключ. Коротко взблёскивает камень в центре звезды с четырьмя лучами – по числу сторон света – и гаснет. Такой знакомый металлический ободок, вот, кажется, только протяни руку – и он сам скользнёт на палец. Интересно, долго они там ползали? Вернее, не они, а он, молодой, кто же ещё. Начальник ловит мой взгляд и тут же убирает кольцо в сейф.
Потом пинками выпроваживает старика в коридор.
– Посиди тут пока, – слышится из-за двери его голос.
– Начинай, Монфор, – командует он, возвращаясь.
Я перевожу взгляд на молодого. Ах, вон оно что! Понятно. Эдвард Монфор, потомок и наследник Семьи Монфор, ветвь от древа.
Начальник подходит и выбивает из-под меня табуретку. Я валюсь на пол, словно мешок с мукой, ожидая, что табуретка вот-вот опустится мне на голову.
– Установка у тебя правильного хода мысли, – поясняет он.
– Мистер Дориш? – полувопросительно говорит Монфор. Перспектива быть за главного его, видимо, пока не впечатляет. Ну, это только пока.
Ах ты, Дориш-Дориш, пёс поганый... Как же я тебя не признала?
– Что непонятно, Монфор? – рявкает Дориш. – Допрос с пристрастием. Можете делать что угодно, только до смерти не заморите, разумеется. Впрочем, вы вряд ли смогли бы, о чём это я? – а вот это уже немного презрительно. Ах да... всего лишь стажёр...
– Сыворотка правды в столе, но она вам мало поможет – их всех так напичкали антидотом, что он у них вместо крови, – продолжает инструктировать Дориш.
Да, это ты правильно сказал. Так что начинайте уж этот ваш "допрос с пристрастием".
– Да, мистер Дориш, только... и так всё понятно, тогда зачем это? Приговор ведь тот же самый будет... Межзеркалье, – на этом слове стажёр запинается. – Завтра, когда Круг...
Значит, уже завтра. Быстро они работать стали. Во имя спокойствия и всеобщего блага, та-та-та-та-та, барабанная дробь. А ты бледнеешь, дорогой. Тебе бы сейчас идти, немного стесняясь, по сверкающему паркету бальной залы, подавать руку барышне в белых перчатках, а потом вести её под музыку старинного танца.
– Монфор, ты что, дурак? – грубо перебивает Дориш – и стажёра, и мои мысли, которые, о, Создатель, так далеко отсюда... – Ты не был в том доме? Не видел, что стало с Джонсонами? Там стены до потолка кровью забрызганы, не заметил?! Появись мы двумя секундами позже – она бы ушла. И завтра это случилось бы с чьей-нибудь ещё семьёй, так же, как когда-то с твоей, ты не думал об этом?
– Нет, сэр. То есть, думал, сэр. Давно думаю, – тихо отвечает Монфор, с ненавистью глядя на меня.
Ну да, конечно. Боль, ведь так? В исполнении Лены Легран – это не слабо. Тебе не повезло с родителями, да, студент? Кажется, у тебя был кто-то ещё? Брат, сестра? Телу из мяса и костей не легче от того, что всё это – только игры сознания, власть чужого разума, и потому оно корчится в агонии и умирает.
Он подходит ко мне и рывком поднимает с пола. Я снова на проклятой табуретке, Монфор неловко устраивается напротив, за столом, а Дориш подходит ближе. Его цепкие пальцы сжимаются на моём подбородке и рывком разворачивают лицо, вынуждая смотреть ему в глаза.
– Ну, что, Близзард, поговорим?
– Говори ты, а я послушаю, – цежу я сквозь зубы.
В глазах темнеет от удара.
– Это для начала, – бросает он.
– Тогда переходи к середине, иначе ты до завтра не продвинешься дальше начала, – во рту солоно, и на зубах скрипят крошки, словно я наглоталась песку.
– До завтра надо ещё дожить, Близзард, – спокойно говорит он. – В Утгарде холодно, но гораздо хуже будет, если до этого я переломаю тебе всё, что смогу.
Я сплёвываю кровь и смотрю на стажёра. В его глазах что угодно, только не безразличие. Ненависть? Интерес? Жалость? Тоже нет. Страх перед насилием?
В точку. Он ненавидит, но он ещё не научился насилию. Не научился получать удовольствие от него. От боли. От ужаса жертвы. Ничего, ты сможешь, Эдвард, малыш Эдди, рано или поздно, всё впереди. Охота. Хищники. Добыча. Учись, студент...
Дориш, видимо, замечает ровно то же самое, что и я, и делает аналогичные выводы. Он хватает меня за руку и рывком задирает рукав платья.
– Ну-ка, покажи ему ещё раз, что там у тебя выжжено, Близзард. И расскажи, чему для тебя равняется цена жизни, ведь он ещё не знает, что нулю, он только читал, что так бывает. Блесни интеллектом, расскажи про "чистильщиков" – рыцарей без страха и упрёка. Лижущих пятки своему хозяину, как дворовые шавки, – он словно примеривается, а потом с ненавистью выплёвывает последнее. Эдвард вздрагивает, с ужасом глядя на отпечаток утгардского тавра. Дориш обводит пальцем его контур, нежно гладит меня по руке, как любовник, которого, кстати сказать, у меня никогда не было.
– Позволишь личный вопрос, Дориш? – с издёвкой говорю я. – Татуировки побуждают тебя думать о непристойностях?
Он, не слушая меня, продолжает:
– Хорошие манеры оставь для тех, кто за этими стенами снаружи. Понял?
Стажёр молча кивает. Дориш отпускает мою руку и проводит пальцем по щеке. Я в отвращении отшатываюсь.
– Ну, что, посекретничаем? Что за дельце у вас было к Джонсонам – ведь не дуэль же и не кровная месть? Что твой хозяин хотел от них? Неужто не расскажешь, Близзард? – почти ласково спрашивает он. – Мне – да не расскажешь, а?
Я гомерически хохочу. Дориш ухмыляется, и достаёт из стола кастет. Он с нескрываемым удовлетворением демонстрирует его мне, а потом с силой насаживает на пальцы.
– Дьявол меня подери, да ты, оказывается, знаешь толк в удовольствиях, – говорю я, и, едва перестав хохотать, начинаю снова. Ну, смешно же, чёрт возьми. Так смешно, что слёзы выступают из глаз. Давай, Дориш, ведь это приятно, уж мне ли не знать?
Он размахивается, и я, кажется, даже слышу свист рассекаемого воздуха. Левую щёку обжигает адская боль. За секунду до удара я успеваю зажмуриться и тем самым спасаю глаз. На губах вкус моей собственной крови – терпкий, с привкусом металла. Он размахивается ещё раз. И ещё – удар догоняет меня уже на полу. Он что, серьёзно думает, что достанет меня ЭТИМ? Он никогда не попадал под горячую руку хозяина и его болевую атаку... А, вот и она... Тело, уже превратившееся в отбивную, становится помехой и не даёт сопротивляться. Снова порция боли – это подключается недоносок Монфор... Ты ещё неопытен, Эдди, и удар слабоват. Вспомни, что говорила умная старая тётя Лена, малыш Эдди. Ненависть, заполняющая до краёв, одна сплошная чёрная бездна – или красная, бархатистая, пахнущая вином, металлом и корицей: смотря какой нужен результат. Желание причинить боль – большее, чем желание вкусно поесть, выпить вина или овладеть женщиной. Сила удара – вот что отличает одного человека от другого. Сила ментального удара – вот чем пока отличаешься ты...








