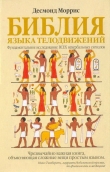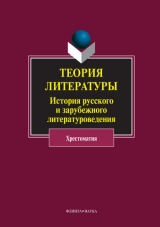
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Вместе с тем существование такого эстетического единства для целой эпохи или литературной школы объясняет факт одновременного и независимого друг от друга появления поэтических произведений, сходных по своим приемам и в одинаковом направлении преодолевающих господствующую литературную традицию. <…> Мы полагаем, что духовная культура каждой большой исторической эпохи, ее философские идеи, ее нравственные и правовые убеждения и навыки и т. д. образуют в данную эпоху такое же единство, как и ее художественный стиль. Изменение жизни в этих параллельных рядах различных культурных ценностей происходит одновременно. Между изменениями в области эстетики, морали, философии и религии историки культуры издавна почувствовали связь, которую часто истолковывают как (37) зависимость одного ряда от другого, например изменения поэтической формы от эволюции душевного «содержания» и т. п. Мы думаем, однако, что не односторонняя зависимость определяет связь этих отдельных намеченных нами единств, а одинаковое жизненное устремление, которое обусловливает собою все указанные частные изменения в соответствующих ценностных рядах, органически связанных между собою как различные проявления одной и той же формы культурного творчества. Это не исключает, конечно, в отдельных случаях возможности непосредственного влияния из одного ряда в другой.
<…> Эволюция стиля как системы художественно-выразительных средств или приемов тесно связана с изменением общего художественного задания, эстетических навыков и вкусов, но также – всего мироощущения эпохи. В этом смысле большие и существенные сдвиги в искусстве (например, Ренессанс и барокко, классицизм и романтизм) захватывают одновременно все искусства и связаны с общим сдвигом духовной культуры. Даже в других искусствах, более обособленных в своих технических средствах, рассматривая самостоятельное развитие эстетического ряда – например эволюцию орнамента от Возрождения к барокко, – мы наблюдаем только ряд внеположных фактов, последовательную смену явлений, при которой одни художественные формы следуют во времени за другими, на них непохожими: причина этой смены, обусловливающая процесс развития, остается за пределами ряда. Впрочем, с чисто методологической точки зрения условное и искусственное обособление вопросов поэтики может (38) быть чрезвычайно плодотворно, и такие темы, как история классической комедии во Франции, лирическая поэма в эпоху Байрона или композиционная техника романа в письмах, выгодно отличаются внутренним единством и отчетливостью поставленной задачи от эклектических историко-литературных исследований старого типа (39). <…>
1. Охарактеризуйте понимание В.М. Жирмунским диалектики содержания и формы в применении к литературному произведению.
2. Что, по мнению ученого, является материалом поэзии? Как происходит превращение материала в эстетический объект?
3. Почему Жирмунский характеризует прием как факт художественно-телеологический?
4. Что в этой связи составляет задачу теоретической поэтики и каков предмет исследования исторической поэтики?
5. Как определяется Жирмунским стиль художественного произведения?
6. Попытайтесь изъяснить основные понятия, составляющие поэтику, в их взаимосвязи и взаимосоотнесенности.
7. Где, по мнению ученого, лежит граница между исследованием художественного произведения с точки зрения поэтики и лингвистики?
8. Какой путь предлагается Жирмунским для того, чтобы выявить основные черты поэтики определенной эпохи или школы?
Невельско-Витебский кружок и М.М. Бахтин
М.М. БахтинПроблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве[18]18
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 6, 10–12, 24, 27, 29, 32–33, 36–47, 49–50, 56–66, 69–71.
[Закрыть]
Настоящая работа является попыткой методологического анализа основных понятий и проблем поэтики на основе общей систематической эстетики. (6) <…>
<…>
Поэтика, лишенная базы систематико-философской эстетики, становится зыбкой и случайной в самых основах своих. Поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества. Это определение подчеркивает ее зависимость от общей эстетики (10).
В своем стремлении строить научное суждение об искусстве независимо от общей философской эстетики искусствоведение находит материал, как наиболее устойчивую базу для научного обсуждения: ведь ориентация на материал создает соблазнительную близость к положительной эмпирической науке. В самом деле: пространство, массу, цвет, звук – все это искусствовед (и художник) получает от соответствующих отделов математического естествознания, слово он получает от лингвистики. И вот на почве искусствоведения рождается тенденция понять художественную форму, как форму данного материала, не больше, как комбинацию в пределах материала в его естественнонаучной и лингвистической определенности и закономерности; это дало бы возможность суждениям искусствоведения быть позитивно-научными, в иных случаях прямо математически доказуемыми.
Этим путем искусствоведение приходит к созданию предпосылки общеэстетического (11) характера, психологически и исторически совершенно понятной на основе нами сказанного, но едва ли правомерной и могущей быть доказанной систематически, предпосылки, которую мы, несколько развив сказанное выше, формулируем так: эстетическая деятельность направлена на материал, формирует только его: эстетически значимая форма есть форма материала – естественнонаучно или лингвистически понятого; утверждения художников, что их творчество ценностно, направлено на мир, на действительность, имеет дело с людьми, с социальными отношениями, с этическими, религиозными и иными ценностям и, – суть не более как метафоры, ибо на самом деле художнику предлежит только материал: физико-математическое пространство, масса, звук акустики, слово лингвистики, – и он может занять художественную позицию только по отношению к данному, определенному материалу.
Эта предпосылка общеэстетического характера, молчаливо или высказанно лежащая в основе очень многих работ и целых направлений в области наук об отдельных искусствах, дает нам право говорить об особой общеэстетической концепции, ими некритически предполагаемой, которую мы назовем материальной эстетикой.
Материальная эстетика – как бы рабочая гипотеза направлений искусствоведения, претендующих быть независимыми от общей эстетики; опираются на нее и формалисты и В.М. Жирмунский: это и есть та предпосылка, которая их объединяет (12) <…>
Проблема той или иной культурной области в ее целом-познания, нравственности, искусства – может быть понята как проблема границ этой области.
Та или иная возможная или фактически наличная творческая точка зрения становится убедительно нужной и необходимой лишь в соотнесении с другими творческими точками зрения: лишь там, где на их границах рождается существенная нужда в ней, в ее творческом своеобразии, находит она свое прочное обоснование и оправдание; изнутри же ее самой, вне ее причастности единству культуры, она только голо-фактична, а ее своеобразие может представиться просто произволом и капризом (24). <…>
Надо также раз и навсегда помнить, что никакой действительности в себе, никакой нейтральной действительности противопоставить искусству нельзя: тем самым, что мы о ней говорим и ее противопоставляем чему-то, мы ее как-то определяем и оцениваем; нужно только прийти в ясность с самим собою и понять действительное направление своей оценки.
Все это можно выразить коротко так: действительность можно противопоставить искусству только как нечто доброе или нечто истинное – красоте (27). <…> Переходим к художественному творчеству.
Основная особенность эстетического, резко отличающая его от познания и поступка, – его рецептивный, положительно-приемлющий характер: преднаходимая эстетическим актом, опознанная и оцененная поступком действительность входит в произведение (точнее – в эстетический объект) и становится здесь необходимым конститутивным моментом. В этом смысле мы можем сказать: действительно, жизнь находится не только вне искусства, но и в нем, внутри его, во всей полноте своей ценностной весомости: социальной, политической, познавательной и иной. Искусство богато, оно не сухо, не специально; художник специалист только как мастер, то есть только по отношению к материалу (29). <…>
Действительность познания и этического поступка, входящую в своей опознанности и оцененности в эстетический объект и подвергающуюся здесь конкретному, интуитивному объединению, индивидуации, конкретизации, изоляции и завершению, то есть всестороннему художественному оформлению с помощью определенного материала, мы – в полном согласии с традиционным словоупотреблением – называем содержанием художественного произведения (точнее, эстетического объекта).
Содержание есть необходимый конститутивный момент эстетического объекта, ему коррелятивна художественная форма, вне этой корреляции не имеющая вообще никакого смысла.
Вне отнесенности к содержанию, то есть к миру и его моментам, миру – как предмету познания и этического поступка, – форма не может быть эстетически значима, не может осуществить своих основных функций.
Позиция автора-художника и его художественное задание может быть и должно быть понято в мире в связи со всеми ценностями познания и этического поступка: объединяется, индивидуализуется, оцельняется, изолируется и завершается не материал – он не нуждается ни в объединении, ибо в нем нет разрыва, ни в завершении, к которому он индифферентен, ибо, чтобы (32) нуждаться в нем, он должен приобщиться к ценностно смысловому движению поступка, – а всесторонне пережитый ценностный состав действительности, событие действительности (33). <…>
Как осуществляется содержание в художественном творчестве и в созерцании и каковы задачи и методы эстетического анализа его? Этих проблем эстетики мы должны здесь вкратце коснуться. Последующие замечания отнюдь не носят исчерпывающего предмет характера и лишь намечают проблему; причем композиционного осуществления содержания с помощью определенного материала мы здесь совершенно касаться не будем.
1) Должно строго различать познавательно-этический момент, действительно являющийся содержанием, то есть конститутивным моментом данного эстетического объекта, и те суждения и этические оценки, которые можно (36) построить и высказать по поводу содержания, но которые в эстетический объект не входят.
2) Содержание не может быть чисто познавательным, совершенно лишенным этического момента; более того, можно сказать, что этическому принадлежит существенный примат в содержании. <…> Все познанное должно быть соотнесено с миром свершения человеческого поступка, должно быть существенно связано с поступающим сознанием, и только таким путем оно может войти в художественное произведение.
Самым неправильным было бы представлять себе содержание как познавательное теоретическое целое, как мысль, как идею.
3) Этическим моментом содержания художественное творчество и созерцание овладевает непосредственно путем сопереживания или вчувствования и сооценки… Непосредственно этично лишь самое событие поступка (поступка – мысли, поступка – дела, поступка – чувства, поступка – желания и пр.) в его живом свершении изнутри самого поступающего сознания; именно это событие и завершается извне художественной формой, но отнюдь не его теоретическая транскрипция в виде суждений этики, нравственных норм, сентенций, судебных оценок и т. п.
<…> Необходимо подчеркнуть, что сопереживает художник и созерцатель отнюдь не психологическому сознанию (да (37) ему и нельзя сопереживать в строгом смысле слова), но этически направленному, поступающему сознанию.
Каковы же задачи и возможности эстетического анализа содержания?
Эстетический анализ должен прежде всего вскрыть имманентный эстетическому объекту состав содержания, ни в чем не выходя за пределы этого объекта, – как он осуществляется творчеством и созерцанием. Обратимся к познавательному моменту содержания.
Момент познавательного узнания сопровождает повсюду деятельность художественного творчества и созерцания, но в большинстве случаев он совершенно неотделим от этического момента и не может быть выражен адекватным суждением. Возможное единство и необходимость мира познания как бы сквозит через каждый момент эстетического объекта и, не достигая полноты актуализации в самом произведении, объединяется с миром этического стремления, осуществляя то своеобразное интуитивно-данное единство двух миров, которое, как мы указывали, является существенным моментом эстетического как такового. Так, за каждым словом, за каждой фразой поэтического произведения чувствуется возможное прозаическое значение, прозаический уклон, то есть возможная сплошная отнесенность к единству познания.
Познавательный момент как бы освещает изнутри эстетический объект, как трезвая струя воды примешивается к вину этического напряжения и художественного завершения, но он далеко не всегда сгущается и уплотняется до степени определенного суждения: все узнается, но далеко не все опознается в адекватном понятии (38).
Но, выделив то или иное познавательное постижение из содержания эстетического объекта, – например, чисто философские постижения Ивана Карамазова о значении страдания детей, о неприятии божьего мира и др., или философско-исторические и социологические суждения Андрея Болконского о войне, о роли личности в истории и др., – исследователь должен помнить, что все эти постижения, как бы они ни были глубоки сами по себе, не даны в эстетическом объекте в своей познавательной обособленности и что не к ним отнесена и не их непосредственно завершает художественная форма; эти постижения необходимо связаны с этическим моментом содержания, с миром поступка, миром события. Так, указанные постижения Ивана Карамазова несут чисто характерологические функции, являются необходимым моментом нравственной жизненной позиции Ивана, имеют отношение и к этической и религиозной позиции Алеши и этим вовлекаются в событие, на которое направлена завершающая художественная форма романа; также и суждения Андрея Болконского выражают его этическую личность и его жизненную позицию и вплетены в изображаемое событие не только его личной, но и социальной и исторической жизни. Таким образом, познавательно-истинное становится моментом этического свершения.
Если бы все эти суждения не были тем или иным путем необходимо связаны с конкретным миром (39) человеческого поступка, они остались бы изолированными прозаизмами, что иногда и происходит в творчестве Достоевского, имеет место и у Толстого, например, в романе «Война и мир», где к концу романа познавательные философско-исторические суждения совершенно порывают свою связь с этическим событием и организуются в теоретический трактат. <…> Переходим к задачам анализа этического момента содержания.
Его методика гораздо сложнее: эстетический анализ, как научный, должен как-то транскрибировать этический (40) момент, которым созерцание овладевает путем сопереживания (вчувствования) и сооценки; совершая эту транскрипцию, приходится отвлекаться от художественной формы, и прежде всего от эстетической индивидуации: необходимо отделить чисто этическую личность от ее художественного воплощения в индивидуальную эстетически значимую душу и тело, необходимо отвлечься и от всех моментов завершения; задача такой транскрипции трудная и в иных случаях – например, в музыке – совершенно невыполнимая.
Этический момент содержания произведения можно передать и частично транскрибировать путем пересказа: можно рассказать другими словами о том переживании, поступке и событии, которые нашли художественное завершение в произведении. Подобный пересказ, при правильном методическом осознании задачи, может получить большое значение для эстетического анализа. <…> В результате, хотя вчувствование и ослабело и побледнело, но зато выступает яснее чисто этический, незавершимый, причастный единству события бытия, ответственный характер сопереживаемого, яснее выступают те связи его с единством, от которых отрешала форма; это может облегчить этическому моменту и переход в познавательную форму суждений: этических – в узком смысле, социологических и иных, то есть его чисто теоретическую транскрипцию в тех пределах, в каких она возможна. <…> (41).
Транскрибировав в пределах возможного этический момент содержания, завершаемый формою, собственно эстетический анализ должен понять значение всего содержания в целом эстетического объекта, то есть как содержание именно данной художественной формы, а форму – как форму именно данного содержания, совершенно не выходя за пределы произведения.
В какой мере анализ содержания может иметь строго научный общезначимый характер?
Принципиально возможно достижение высокой степени научности, особенно когда соответствующие дисциплины – философская этика и социальные науки – сами (42) достигнут возможной для них степени научности, но фактически анализ содержания чрезвычайно труден, а известной степени субъективности избежать вообще невозможно, что обусловлено самым существом эстетического объекта; но научный такт исследователя всегда может удержать его в должных границах и заставит оговорить то, что является субъективным в его анализе. Такова в основных чертах методика эстетического анализа содержания.
При решении вопроса о значении материала для эстетического объекта должно брать материал в его совершенно точной научной определенности, не обогащая его никакими чуждыми этой определенности моментами (43).
<…> Лингвистика является наукой, лишь поскольку она овладевает своим предметом – языком. Язык лингвистики определяется чисто лингвистическим мышлением.
Каково бы ни было то или иное историческое высказывание по своему значению для науки, для политики, в сфере личной жизни какого-нибудь индивидуума, – для лингвистики это не сдвиг в области смысла, не новая точка зрения на мир, не новая художественная форма, не преступление и не нравственный подвиг, – для нее это только явление языка, может быть, новая языковая конструкция. <…>
Лишь так: изолируя и освобождая чисто языковой момент слова и создавая новое языковое единство, его конкретные подразделения, лингвистика овладевает методически своим предметом – индифферентным к внелингвистическим ценностям языком (или, если угодно, создает новую чисто лингвистическую ценность, к которой и относит всякое высказывание) <…> (44).
Какое же значение имеет язык строго лингвистически понятый для эстетического объекта (45) поэзии? Дело идет вовсе не о том, каковы лингвистические особенности поэтического языка, – как склонны иногда перетолковывать эту проблему, – а о значении лингвистического языка в его целом как материала для поэзии, а эта проблема носит чисто эстетический характер.
Язык для поэзии, как и для познания и для этического поступка и его объективации в праве, в государстве и проч., – является только техническим моментом <…>
Но поэзия технически использует лингвистический язык совершенно особым образом: язык нужен поэзии весь, всесторонне и во всех своих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова не остается равнодушной поэзия.
<…> Только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят до своих последних пределов; поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого.
Но, будучи столь требовательной к языку, поэзия тем не менее преодолевает его как язык, как лингвистическую определенность. Поэзия не является исключением из общего для всех искусств положения: художественное творчество, определяемое по отношению к материалу, есть его преодоление.
Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит.
Это имеет место во всех искусствах: внеэстетическая природа материала – в отличие от содержания – не (46) входит в эстетический объект: не входит физико-математическое пространство, линии и фигуры геометрии, движение динамики, звук акустики и проч.; с ними имеют дело художник-мастер и наука эстетика, но не имеет дела первичное эстетическое созерцание. Эти два момента должно строго различать: художнику в процессе работы приходится иметь дело и с физическим, и с математическим, и с лингвистическим, эстетику приходится иметь дело и с физикой, и с математикой, и с лингвистикой, но вся эта громадная техническая работа, совершаемая художником и изучаемая эстетикой, без которой не было бы художественных произведений, в эстетический объект, создаваемый художественным созерцанием, то есть эстетическое бытие как таковое, в последнюю цель творчества, не входит: все это убирается в момент художественного восприятия, как убираются леса, когда здание окончено.
Технике в искусстве мы, во избежание недоразумений, дадим здесь совершенно точное определение: техническим моментом в искусстве мы называем все то, что совершенно необходимо для создания художественного произведения в его естественнонаучной или лингвистической определенности – сюда относится и весь состав готового художественного произведения как вещи, но что в эстетический объект непосредственно не входит, что не является компонентом художественного целого; технические моменты – это факторы художественного впечатления, но не эстетически значимые слагаемые содержания этого впечатления, то есть эстетического объекта (47) <…>
Эстетика должна определить имманентный состав содержания художественного созерцания в его эстетической чистоте, то есть эстетический объект, для решения вопроса о том, какое значение имеет для него материал и его организация во внешнем произведении; поступая так, она неизбежно по отношению к поэзии должна установить, что язык в его лингвистической определенности вовнутрь эстетического объекта не входит, остается за бортом его, сам же эстетический объект слагается из художественно-оформленного содержания (или содержательной художественной формы).
Громадная работа художника над словом имеет конечною целью его преодоление, ибо эстетический объект вырастает на границах слов, границах языка как такового; но это преодоление материала носит чисто имманентный характер: художник освобождается от языка в его лингвистической определенности не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его: художник как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием, заставляет язык, усовершенствуя его лингвистически, превзойти себя самого. <…> Имманентное преодоление есть формальное определение отношения к материалу не только в поэзии, но и во всех искусствах.
Не перепрыгивать через лингвистический язык должна и эстетика словесного творчества, но воспользоваться всей работой лингвистики для понимания техники творчества поэта на основе правильного понимания места материала в художественном творчестве, с одной стороны, и своеобразия эстетического объекта – с другой.
Эстетический объект как содержание художественного виденья и его архитектоника, как мы уже указывали, есть совершенно новое бытийное образование, не (49) естественнонаучного, – и не психологического, конечно, – и не лингвистического порядка: это своеобразное эстетическое бытие, вырастающее на границах произведения путем преодоления его материально-вещной, внеэстетической определенности.
Слова в поэтическом произведении слагаются, с одной стороны, в целое предложения, периода, главы, акта и проч., с другой же стороны, созидают целое наружности героя, его характера, положения, обстановки, поступка и т. п. и, наконец, целое эстетически оформленного и завершенного этического события жизни, переставая при этом быть словами, предложениями, строкой, главой и проч.: процесс осуществления эстетического объекта, то есть осуществления художественного задания в его существе, есть процесс последовательного превращения лингвистически и композиционно понятого словесного целого в архитектоническое целое эстетически завершенного события, причем, конечно, все словесные связи и взаимоотношения лингвистического и композиционного порядка превращаются во внесловесные архитектонические событийные связи (50).