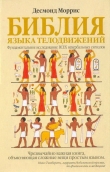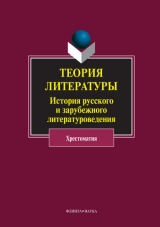
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Миф ничего не скрывает и ничего не афиширует, он только деформирует, миф не есть ни ложь, ни искреннее признание, он есть искажение. Сталкиваясь с альтернативой, о которой я только что говорил, миф находит третий выход (95). Поскольку первые два типа восприятия угрожают мифу полным разрушением, то он вынужден идти на какой-то компромисс, миф и является примером такого компромисса; ставя перед собой цель «протащить» интенциональный концепт, миф не может положиться на язык, поскольку тот либо предательским образом уничтожает концепт, когда пытается его скрыть, либо срывает с концепта маску, когда его называет. Создание вторичной семиологической системы позволяет мифу избежать этой дилеммы, оказавшись перед необходимостью сорвать покров с концепта или ликвидировать его, миф вместо этого натурализует его.
Теперь мы добрались до самой сути мифа, которая заключается в том, что он превращает историю в природу (96).
В чем суть мифа? В том, что он преобразует смысл в форму, иными словами, похищает язык (98).
Чрезвычайно трудно одолеть миф изнутри, ибо само стремление к избавлению от него немедленно становится в свою очередь его жертвой; в конечном счете миф всегда означает не что иное, как сопротивление, которое ему оказывается. По правде говоря, лучшим оружием против мифа, возможно, является мифологизация его самого, создание искусственного мифа, и этот вторичный миф будет представлять собой самую настоящую мифологию. Если миф похищает язык, почему бы не похитить миф? Для этого достаточно сделать его отправной точкой третьей семиологической системы, превратить его значение в первый элемент вторичного мифа. Литература дает нам несколько замечательных примеров таких искусственных мифов (103). <…>
1. Охарактеризуйте определение мифа, данное Р. Бартом. В границах каких научных дисциплин дается это определение?
2. Что есть «означающее», «означаемое» и «знак», по терминологии Барта? Какими отношениями эти понятия связаны друг с другом в языке и мифе?
3. О каких двух семиологических системах говорит Барт?
4. Почему миф является вторичной семиологической системой?
5. Охарактеризуйте определение концепта, данное ученым.
6. Как, по его мнению, соотносятся в мифе форма и концепт?
IV
Постструктуралистские методологии и методики анализа в современном литературоведении
Дискурсный анализ
М. ФукоСлова и вещи. Археология гуманитарных наук[37]37
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – С. 34–37, 287–288, 326–329, 333–334, 341.
[Закрыть]
<…> Итак, в каждой культуре между использованием того, что можно было бы назвать упорядочивающими кодами, и размышлениями о порядке располагается чистая практика порядка и его способов бытия.
В предлагаемом исследовании мы бы хотели проанализировать именно эту практику. Речь идет о том, чтобы показать, как она смогла сложиться начиная с XVI столетия в недрах такой культуры, как наша: каким образом наша культура, преодолевая сопротивление языка в его непосредственном существовании, природных существ, какими они воспринимались и группировались, и проводившихся обменов, зафиксировала наличие элементов порядка и то, что проявлениям этого порядка обмены обязаны своими законами, живые существа-своей регулярностью, слова – своим сцеплением и способностью выражать представления; какие проявления порядка были признаны, установлены, связаны с пространством и временем для того, чтобы образовать положительный фундамент знаний, развивавшихся в грамматике и в филологии, в естественной истории и в биологии, в исследовании богатств и в политической экономии. Ясно, что такой анализ не есть история идей или наук; это, скорее, исследование, цель которого – выяснить, исходя из чего стали возможными познания и теории, в соответствии с каким пространством порядка конструировалось знание; на основе какого исторического a priori и в стихии какой позитивности идеи могли появиться, науки – сложиться, опыт – получить отражение в философских системах, рациональности – сформироваться, а затем, возможно, вскоре распасться и исчезнуть. Следовательно, здесь знания не будут рассматриваться в их развитии к объективности, которую наша современная наука может наконец признать за собой; нам бы хотелось выявить эпистемологическое поле, эпистему, в которой познания, рассматриваемые вне всякого критерия их рациональной ценности или объективности их форм, утверждают свою позитивность и обнаруживают, таким образом, историю, являющуюся не историей их (34) нарастающего совершенствования, а, скорее, историей условий их возможности; то, что должно выявиться в ходе изложения, это появляющиеся в пространстве знания конфигурации, обусловившие всевозможные формы эмпирического познания. Речь идет не столько об истории в традиционном смысле слова, сколько о какой-то разновидности «археологии».
Но это археологическое исследование обнаруживает два крупных разрыва в эпистеме западной культуры: во-первых, разрыв, знаменующий начало классической эпохи (около середины XVII века), а во-вторых, тот, которым в начале XIX века обозначается порог нашей современности. Порядок, на основе которого мы мыслим, имеет иной способ бытия, чем порядок, присущий классической эпохе. Если нам и может показаться, что происходит почти непрерывное движение европейского ratio, начиная с Возрождения и вплоть до наших дней <…> то, так или иначе, вся эта квазинепрерывность на уровне идей и тем, несомненно, оказывается исключительно поверхностным явлением; на археологическом же уровне выясняется, что система позитивностей изменилась во всем своем объеме на стыке XVIII и XIX веков. Дело не в предполагаемом прогрессе разума, а в том, что существенно изменился способ бытия вещей и порядка, который, распределяя их, предоставляет их знанию. <…> Возможно, что познания умножают друг друга, идеи трансформируются и взаимодействуют (но как? – историки нам этого пока не сказали); во всяком случае, с определенностью можно сказать одно: археология, обращаясь к общему пространству знания, определяет синхронные системы, а также ряд мутаций, необходимых и достаточных для того, чтобы очертить порог новой позитивности.
Таким образом, анализ раскрыл связь, которая существовала в течение всей классической эпохи между теорией представления и теориями языка, природных классов, богатства и стоимости. Начиная с XIX века именно эта конфигурация (35) радикально изменяется: исчезает теория представления как всеобщая основа всех возможных порядков; язык как спонтанно сложившаяся таблица и первичная сетка вещей, как необходимый этап между представлением и формами бытия в свою очередь также сходит на нет; в суть вещей проникает глубокая историчность, которая изолирует и определяет их в присущей им связи, придает им обусловленные непрерывностью времени формы порядка; анализ обращения и денег уступает место исследованию производства; изучение организма заменяет установление таксономических признаков; а главное – язык утрачивает свое привилегированное место и сам в свою очередь становится историческим образованием, связанным со всей толщей своего прошлого. Но по мере того, как вещи замыкаются на самих себя, не требуя в качестве принципа своей умопостигаемости ничего, кроме своего становления, и покидая пространство представления, человек в свою очередь впервые вступает в сферу западного знания. Странным образом человек, познание которого для неискушенного взгляда кажется самым древним исследованием со времен Сократа, есть, несомненно, не более чем некий разрыв в порядке вещей, во всяком случае, конфигурация, очерченная тем современным положением, которое он занял ныне в сфере знания. Отсюда произошли все химеры новых типов гуманизма, все упрощения «антропологии», понимаемой как общее, полупозитивное, полуфилософское размышление о человеке. Тем не менее утешает и приносит глубокое успокоение мысль о том, что человек – всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму (36).
<…> На этом пороге (который нас отделяет от классического мышления и образует нашу современность) впервые возникло то странное формообразование знания, которое называют человеком и которое открыло пространство, присущее наукам о человеке. Пытаясь выявить этот глубокий сдвиг в западной культуре, мы восстанавливаем ее разрывы, ее неустойчивость, ее недостатки на нашей почве, безмолвной и наивно полагаемой неподвижной; именно эта почва снова колеблется под нашими шагами (37).
<…>
Труд, жизнь, язык
Главное в том, что в начале XIX века сложилась такая диспозиция знания, в которой одновременно фигурируют историчность экономии (в соответствии с формами производства), конечность человеческого бытия (в соответствии с редкостью благ и трудом) и приближение конца Истории – будь то бесконечное замедление или же решительный перелом (287). <…> Конечность во всей своей истине дается во времени – и вот времени наступает конец. Исполненное величия раздумье о конце Истории – это утопия причинного мышления, тогда как греза о первоначале – это утопия классифицирующего мышления.
Эта диспозиция исполняла свою принудительную роль очень долго; в конце XIX века Ницше в последний раз заставил ее вспыхнуть и воссиять. Он взял тему конца времен, чтобы заставить бога умереть, а последнего человека – блуждать во тьме; он взял тему конечности человеческого бытия, чтобы показать чудо пришествия сверхчеловека; он взял великую и непрерывную цепь Истории, чтобы искривить ее и замкнуть в вечном повторении. Смерть бога, неминуемость сверхчеловека, ожидание роковой годины и страх перед ней – все это буквально, шаг за шагом повторяло те элементы, которые уже наличествовали в диспозиции мышления XIX века и образовывали его археологическую сетку; тем не менее эти элементы воспламенили застывшие формы, сложили странные и почти невероятные образы из их обуглившихся останков; и в этом свете, о котором мы еще доподлинно не знаем, был ли он последним пожаром или новой зарей, разверзлось нечто такое, чему суждено было, по-видимому, стать пространством современного мышления. Во всяком случае, именно Ницше сжег для нас и даже задолого до нашего рождения разнородные обещания диалектики и антропологии (288). <…>
Человек и его двойник
<…> Вся система сеток, которая налагалась в ходе анализа на последовательность представлений <…> все эти хитросплетения <…> оказались ныне отвергнутыми столь решительно, что трудно даже восстановить, как эта система вообще могла функционировать. Последним «куском», который был отброшен (и исчезновение которого навсегда отдалило от нас классическое мышление), оказалась как раз первая из этих сеток: дискурсия, которая обеспечивала изначальное, самопроизвольное, наивное развертывание представлений в таблице. С того дня, как дискурсия перестала существовать и функционировать внутри представления как его первое упорядочение, классическое мышление разом перестало быть нам непосредственно доступным.
Порог между классической и новой эпохой (или, иначе говоря, между нашей предысторией и тем, что пока еще является для нас современностью) был окончательно преодолен, когда слова перестали пересекаться с представлениями и непосредственно распределять по клеткам таблицы познание вещей. В начале XIX века слова вновь обнаружили свою древнюю, загадочную плотность; правда, отнюдь не с тем, чтобы восстановить кривую мироздания, на которой располагались они в эпоху Ренессанса, и не для того, чтобы смешаться с вещами в круговой системе знаков. Оторванный от представления, язык существует с тех пор и вплоть до нашего времени – и вплоть до нас еще – лишь в разбросанных формах: для филологов слова предстают в качестве объектов, созданных и оставленных историей; для формализаторов язык должен отбросить свое конкретное содержание и выявить лишь повсеместно значимые формы дискурсии; для интерпретаторов слова становятся текстом, который надо взломать, чтобы смог обнаружиться полностью скрытый за ними смысл; наконец, язык возникает как нечто самодостаточное в акте письма, который обозначает лишь себя самого. Эта раздробленность предполагает для языка если и не преимущества, то по крайней мере иную судьбу, чем для труда или жизни. Когда картина естественной истории распалась, живые существа не рассеялись, но, напротив, по-новому сгруппировались – вокруг жизни и ее загадки; когда исчез анализ богатства, все экономические процессы перегруппировались вокруг производства и того, что делало его возможным; наоборот, когда рассеялось единство всеобщей грамматики – дискурсия, тогда язык выявился в разнообразии способов своего бытия, единство которых, несомненно, не могло быть восстановлено. Быть может, именно по этой причине философская рефлексия так долго держалась поодаль от языка. В то время как она неустанно устремляла в направлении жизни и труда свой поиск объекта (326), концептуальных моделей, своей реальной и глубинной почвы, она уделяла языку лишь попутное внимание; здесь речь шла главным образом об устранении тех помех, которые она могла встретить в языке <…>. Непосредственно и самостоятельно язык вернулся в поле мысли лишь в конце XIX века. Можно даже было бы сказать, что в XX веке, если бы не было Ницше-филолога (а он в этой области был столь мудрым, знал так много, писал такие хорошие книги), который первым подошел к философской задаче глубинного размышления о языке.
И вот теперь в том самом философско-филологическом пространстве, которое открыл для нас Ницше, внезапно появляется язык во всем своем загадочном многообразии, которым надо было овладеть. Тогда появляются в качестве проектов (быть может, бредовых, но кто скажет это сразу же?) темы всеобщей формализации всякой речи или целостного истолкования мира, которое было бы в то же время его полной демистификацией, или общей теории знаков; или еще тема (исторически она возникла, несомненно, раньше других) неустанного преобразования, полного вмещений всей человеческой речи в одно-единственное слово, всех книг – в одну страницу, всего мира – в одну книгу. Великая цель, которой посвятил себя вплоть до конца жизни Малларме, и поныне властвует над нами; ненавязчиво напоминая о себе, она сопутствует всем нашим сегодняшним усилиям свести раздробленное бытие языка к жесткому, быть может недостижимому, единству. Попытка Малларме замкнуть всякую возможную речь в хрупкую плоть слова, в эту вполне материальную тонкую чернильную линию, проведенную на бумаге, отвечает, по сути, на вопрос, который Ницше предписывал философии. Для Ницше речь шла не о том, чтобы знать, каковы добро и зло сами по себе, но о том, кто обозначается или, точнее, кто говорит, коль скоро словом Agathos люди обозначают самих себя, а словом Deilos – других людей. Потому что именно здесь, в том, кто держит речь и, еще глубже, владеет словом,? именно здесь сосредоточивается весь язык. На этот ницшеанский вопрос – кто говорит? – Малларме отвечает вновь и вновь, что это говорит само слово в его одиночестве, в его хрупкой трепетности, в его небытии – не смысл слова, но его загадочное и непрочное бытие. В то время как Ницше, который отстаивал до конца свой вопрос о том, кто говорит, вторгается, наконец, вовнутрь этого вопрошания, чтобы дать ему (327) самообоснование говорящего и вопрощающего субъекта («Се человек!»), – Малларме неустанно устраняет самого себя из своего собственного языка, соглашаясь остаться в нем простым исполнителем чистого обряда. Книги, в которой речь складывалась бы сама собой. Вполне может быть, что все вопросы, которые действительно возбуждают наше любопытство (Что такое язык? Что такое знак? Говорит ли все то, что безмолвствует в мире, в наших жестах, во всей загадочной символике нашего поведения, в наших снах и наших болезнях, – говорит ли все это и на каком языке, сообразно какой грамматике? Все ли способно к означению (если нет, то что именно?) и для кого, и по каким правилам? Каково отношение между языком и бытием, и точно ли к бытию непрестанно обращается язык – по крайней мере тот, который поистине говорит? И что такое тот язык, который ничего не говорит, никогда не умолкает и называется «литературой»?), – вполне может быть, что все эти вопросы возникают ныне в этом все еще зияющем разрыве между вопросом Ницше и ответом Малларме.
Мы уже знаем, откуда возникают все эти вопросы. Они стали возможными в силу того, что в начале XIX века, после того, как речь с ее законом отдалилась от представления, бытие языка оказалось как бы расчлененным. Однако эти вопросы стали неизбежными, когда у Ницше и Малларме мысль вынуждена была вернуться к самому языку, к его неповторимому трудному бытию. Вся любознательность нашей мысли вмещается теперь в вопрос: что такое язык? Как охватить его и выявить его собственную суть и полноту? В известном смысле этот вопрос приходит на смену тем вопросам, которые в XIX веке касались жизни или труда. Однако характер этого исследования и всех вопросов, которые его разнообразят, пока еще не вполне ясен. Можно ли здесь предчувствовать рождение, начало нового дня, который едва возвещает о себе первым лучом света, но позволяет уже догадываться, что мысль (та самая мысль, которая говорит уже тысячелетия, не ведая ни того, что она говорит, ни того, что вообще значит говорить) уже близка к тому, чтобы уловить самое себя во всей своей целостности и вновь озариться молнией бытия. Не это ли подготовил Ницше, когда внутри своего собственного языка он убил разом человека и бога и тем самым возвестил одновременно с Возвратом многообразный и обновленный свет новых богов? Не пора ли просто-напросто признать, что все эти вопросы о языке являются лишь продолжением и завершением того события, осуществление и первые последствия которого археология относит к концу XVIII века? Раздробление языка, совпавшее по времени с его превращением в объект филологии, по-видимому, является лишь позже всего выявившимся (поскольку самым скрытым и самым глубоким) следствием разрыва классического порядка; пытаясь преодолеть этот разрыв и выявить язык в его целостности, мы (328) лишь довершаем то, что произошло до нас и помимо нас в конце XVIII века. Каким, однако, могло бы быть это завершение? Является ли само это стремление восстановить потерянную целостность языка завершением мысли XIX века, или же оно предполагает формы, с нею уже несовместимые? Ведь раздробленность языка связана по сути дела с тем археологическим событием, которое можно обозначить как исчезновение Дискурсии. Обретение вновь в едином пространстве великой игры языка могло бы равно свидетельствовать и о решительном повороте к совершенно новой форме мысли и о замыкании на себе самом модуса знания, унаследованного от предшествующего века.
Верно, что на все эти вопросы я не могу ни сам ответить, ни выбрать подходящий ответ из двух возможных. Я даже не надеюсь когда-нибудь на них ответить или найти основания для выбора. Но, во всяком случае, теперь я знаю, почему, вслед за другими, я могу ставить перед собой эти вопросы, более того, не могу не ставить их. И лишь простаки удивятся тому, что я лучше понял это из Кювье, Боппа или Рикардо, нежели из Канта или Гегеля (329).
<…> Когда естественная история становится биологией, анализ богатств – экономией, размышление о языке, что важнее всего, превращается в филологию, а классическая дискурсия, в которой находили свое общее место бытие и представление, исчезает вовсе, тогда в глубине этого археологического изменения появляется человек в его двусмысленном положении (333) познаваемого объекта и познающего субъекта; разом и властелин и подданный, наблюдатель и наблюдаемый… (334). <…>
<…> Очевидно должна существовать истина, принадлежащая строю объекта <…> и в то же время должна существовать истина, принадлежащая строю дискурса, – истина, которая позволяет выразить природу или историю познания истинным языком. Однако положение этого истинного дискурса (в данном разделе книги многоликое слово «дискурс» принимает смысловой оттенок: оно означает не столько «речь», сколько «речь-мысль». Здесь перед нами не классическая дискурсия, не явления собственно языкового плана, но различные «речемыслительные» образования внутри современной эпистемы. – Прим. перев.) остается двусмысленным. Одно из двух: либо этот истинный дискурс находит свое обоснование и образец в той самой эмпирической истине, происхождение которой в природе и истории он прослеживает, и тогда получается исследование позитивистского типа <…> либо истинный дискурс предвосхищает ту истину, природу и историю которой он должен определить, намечает ее заранее и поддерживает издали, и тогда перед нами дискурс эсхатологического типа (истина философского дискурса формирует истину в процессе становления) (341). <…>