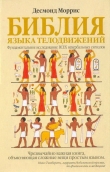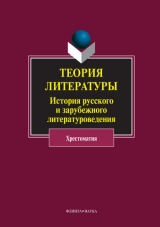
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
Чувственный образ – исходная форма мысли – вместе и субъективен, потому что есть результат нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних возбуждениях и проецируется душою. Отделять эту последнюю сторону от той, которая не дается человеку внешними влияниями и, следовательно, принадлежит ему самому, можно только посредством слова. Речь нераздельна с пониманием, и говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему.
Быть может, мы не впадаем в противоречие со сказанным выше о высоком значении слова для развития мысли, если позволим себе сравнить его с игрою, забавою. Сравнение «n'est pas raison», не является доказательством [пер. с франц. – Н.Х.], но оно, как говорят, может навести на мысль. Забавы нельзя устранить из жизни взрослого и серьезного человека, но взрослый должен судить о ее важности не только по тому, какое значение она имеет для него теперь, а и по тому, что значила она для него прежде, в детстве. Ребенок еще не двоит своей деятельности на труд и забаву, еще не знает другого труда, кроме игры; игра – приготовление к работе, игра для него исчерпывает лучшую часть его жизни, и потому он высоко ее ценит. Точно так мы не можем отделаться от языка, хотя во многом стоим выше его (во многом – ниже, насколько отдельное лицо ниже всего своего народа); о важности его должны судить не только по тому, как мы на него смотрим, но и по тому, как смотрели на него предшествующие века (121). <…>
1. Какова сущность внутренней формы слова и ее главнейшее свойство?
2. Сформулируйте основные функции внутренней формы слова. Как проявляет себя внутренняя форма слова (средство сгущения мысли)?
3. Как представляет внутренняя форма слова значение слова?
4. Объясните положение А.А. Потебни о том, что «язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее».
5. Как, по мнению ученого, слово связано с мифом и чем последний сходен с наукой?
II
Русское литературоведение XX века: кружки, школы, направления
Социологическое направление
Г.В. ПлехановФранцузская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии[13]13
Плеханов Г.В. Литература и эстетика. – М.: Художественная литература, 1958. – Т. 1. – С. 76–82, 84–88.
[Закрыть]
Изучение быта первобытных народов как нельзя лучше подтверждает то основное положение исторического материализма, которое гласит, что сознание людей определяется их бытием <…> А… как обстоит дело с поэзией и вообще с искусством на более высоких ступенях общественного развития? Можно ли, и на каких ступенях, подметить существование причинной связи между бытием и сознанием, между техникой и экономикой общества, с одной стороны, и его искусством-с другой? (76) <…>
Французское общество XVIII века с точки зрения социологии характеризуется прежде всего тем обстоятельством, что оно было обществом, разделённым на классы. Это обстоятельство не могло не отразиться на развитии искусства. В самом деле, возьмем хоть театр. На средневековой сцене во Франции, как и во всей Западной Европе, важное место занимают так называемые фарсы. Фарсы сочинялись для народа и разыгрывались перед народом. Они всегда служили выражением взглядов народа, его стремлений и – что особенно полезно отметить здесь – его неудовольствий против высших сословий. Но, начиная с царствования Людовика XIII, фарс склоняется к упадку; его относят к числу тех развлечений, которые приличны только для лакеев и недостойны людей утонченного вкуса. <…> На смену фарсу является трагедия. Но французская трагедия не имеет ничего общего со взглядами, стремлениями и неудовольствиями народной массы. Она представляет собой создание аристократии и выражает взгляды, вкусы и стремления высшего сословия <…> (77).
Со стороны формы в классической трагедии должны прежде всего обратить на себя наше внимание знаменитые три единства, из-за которых велось так много спора впоследствии, в эпоху <…> борьбы романтиков с классиками. Теория этих единств была известна во Франции еще со времени Возрождения; но литературным законом, непререкаемым правилом хорошего «вкуса» она стала только в семнадцатом веке (78).
В своем настоящем значении единства представляют собой минимум условности (79).
Почему же актеры должны были обнаруживать величие и возвышенность? Потому что трагедия была детищем придворной аристократии и что главными действующими лицами в ней выступали короли, «герои» и вообще такие «высокопоставленные» лица, которых <…> долг службы обязывал казаться, если не быть «величавыми» и «возвышенными» (80).
<…> Изысканность легко переходит в манерность, а манерность исключает серьезную и вдумчивую обработку предмета. И не только обработку. Круг выбора предметов непременно должен был сузиться под влиянием сословных предрассудков аристократии. Сословное понятие о приличии подрезывало крылья искусству <…> Этого достаточно для того, чтобы вызвать падение классической трагедии. Но этого еще недостаточно для того, чтобы объяснить появление на французской сцене нового рода драматических произведений. А между тем мы видим, что в тридцатых годах XVIII века появляется новый литературный жанр, – так называемая comedie larmoy-ante, слезливая комедия, которая в течение некоторого времени пользуется весьма значительным успехом. Если сознание объясняется бытием, если так называемое духовное развитие человечества находится в причинной зависимости от его экономического развития, то экономика XVIII века должна объяснить (81) нам <…> и появление слезливой комедии. Спрашивается, может ли она сделать это?
Не только может, но отчасти уже и сделала, правда без серьезного метода. В доказательство сошлемся… на Гетнера, который в своей истории французской литературы рассматривает слезливую комедию как следствие роста французской буржуазии… Недаром же она называется также буржуазной драмой (82).
<…> Героем буржуазной драмы является тогдашний «человек среднего состояния», более или менее идеализированный тогдашними идеологами буржуазии <…>.
Известно, что идеологи французской буржуазии… не обнаружили большой оригинальности. Буржуазная драма была не создана ими, а только перенесена во Францию из Англии <…> В этом заключалась одна из тайн ее успеха, и в этом же заключается разгадка того <…> что франзузская буржуазная драма <…> довольно скоро отходит на задний план, отступает перед (84) классической трагедией, которая, казалось бы, должна была отступить перед нею.
Дитя аристократии, классическая трагедия беспредельно и неоспоримо господствовала на французской сцене, пока нераздельно и неоспоримо господствовала аристократия… в пределах, отведенных сословной монархией, которая сама явилась историческим результатом продолжительной и ожесточенной борьбы классов во Франции. Когда господство аристократии стало подвергаться оспариванию, когда «люди среднего состояния» прониклись оппозиционным настроением, старые литературные понятия начали казаться этим людям неудовлетворительными, а старый театр недостаточно «поучительным». И тогда рядом с классической трагедией, быстро клонившейся к упадку, выступила буржуазная драма. В буржуазной драме французский «человек среднего состояния» противопоставил свои домашние добродетели глубокой испорченности аристократки. Но то общественное противоречие, которое надо было разрешить тогдашней Франции, не могло быть решено с помощью нравственной проповеди. Речь шла тогда не об устранении аристократических пороков, а об устранении самой аристократии (85). Понятно, что это не могло быть без ожесточенной борьбы, и не менее понятно, что отец семейства («Le pere de famille»), при всей неоспоримой почтенности своей буржуазной нравственности, не мог послужить образцом неутомимого и неустрашимого борца. Литературный «портрет» буржуазии не внушал героизма. А между тем противники старого порядка чувствовали потребность в героизме, сознавали необходимость развития в третьем сословии гражданской добродетели. Где можно было тогда найти образцы такой добродетели? Там же, где прежде искали образцов литературного вкуса: в античном мире.
И вот опять явилось увлечение античными героями. <…> Теперь увлекались уже не монархическим веком Августа, а республиканскими героями Плутарха. <…>
Историки французской литературы нередко с удивлением спрашивали себя: чем объяснить тот факт, что подготовители и деятели французской революции оставались консерваторами в области литературы? И почему господство классицизма пало лишь довольно долго после падения старого порядка? Но на самом деле литературный консерватизм новаторов того времени был чисто внешним. Если трагедия не изменилась как форма, то она претерпела существенное изменение в смысле содержания.
Возьмем хоть трагедию Сорена «Spartacus», появившуюся в 1760 году. Ее герой, Спартак, полон стремления к свободе (86). Ради своей великой идеи он отказывается даже от женитьбы на любимой девушке, и на протяжении всей пьесы он в своих речах не перестает твердить о свободе и о человеколюбии. Чтобы писать такие трагедии и рукоплескать им, нужно было именно не быть литературным консерватором. В старые литературные меха тут влито было совершенно новое революционное содержание.
<…> Классическая трагедия продолжала жить вплоть до той поры, когда французская буржуазия окончательно восторжествовала над защитниками старого порядка и когда увлечение республиканскими героями древности утратило для нее всякое общественное значение. А когда эта пора наступила, тогда буржуазная драма воскресла к новой жизни и, претерпев некоторые изменения, сообразные с особенностями нового общественного положения, но вовсе не имеющие существенного характера, окончательно утвердилась на французской сцене (87).
Даже тот, кто отказался бы признать кровное родство романтической драмы с буржуазной драмой восемнадцатого века, должен был бы согласиться с тем, что, например, драматические произведения Александра Дюма-сына являются настоящей буржуазной драмой девятнадцатого столетия.
В произведениях искусства и в литературных вкусах данного времени выражается общественная психология, а в психологии общества, разделенного на классы, многое останется для нас непонятным и парадоксальным, если мы будем продолжать игнорировать, – как это делают теперь историки-идеалисты вопреки лучшим заветам буржуазной исторической науки, – взаимное отношение классов и взаимную классовую борьбу (88). <…>
1. В какую зависимость ставит Г.В. Плеханов развитие литературы?
2. Чьи интересы и посредством каких приемов выражала классическая трагедия?
3. С чем связывает Плеханов появление нового литературного жанра?
4. Кто герой этого жанра?
5. Почему этот жанр вновь оказывается вытесненным классической трагедией?
6. Каково, по мнению Плеханова, содержание ее нового витка и как оно связано с революционным настроением буржуазии?
В.М. ФричеСоциология искусства[14]14
Фриче В.М. Социология искусства. – М.; Л.: Госиздат, 1929. – С. 12–13, 16–21, 23, 25–28, 30, 32, 34–35.
[Закрыть]
<…>
Предлагаемая вниманию читателя книжка представляет собой… только «опыт», только попытку наметить содержание этой все еще не существующей науки об искусстве. Наша задача ответить на поставленный некогда Микиельсом вопрос: «Какое искусство соответствует отдельным периодам в истории развития человеческого общества». Однако мы не придерживаемся строго исторической точки зрения, которая обязывала бы выяснить, какое искусство закономерно соответствует отдельным сменявшим друг друга общественно-экономическим формациям, большинство из коих повторялось в ходе развития человечества – охотничий строй в палеолите и у современных охотников Африки и Австралии, первоначальное земледелие в неолите и у современных «дикарей», феодально-земледельческо-жреческая общественная организация в Египте, в архаической Греции, в Средние века. н. э. Западе, абсолютистические общества в эпоху эллинизма, в Европе в XVI, XVII, XVIII столетиях, наконец, буржуазное общество в Греции классического периода, в Италии и Нидерландах XV–XVII веков, в Европе второй половины XIX века. Так как (12) одинаковые или аналогичные общественно-экономические организации должны порождать одинаковые или аналогичные типы искусства, то эти повторяющиеся общественно-экономические организации нами и рассматриваются одновременно, несмотря на то, что они разделены географическими условиями и хронологическими датами. При таком рассмотрении легко установить повторяемость известных художественных типов, жанров, тем, стилей при наличии одинаковых или схожих общественных условий. Рассматривая искусство этих повторявшихся неоднократно в истории человечества общественных формаций, мы, однако, не освещаем в каждом отдельном случае самое искусство со всех его сторон, во всех его проявлениях, а исходим из отдельных его сторон, чтобы показать, какое они получали выражение и решение на разных ступенях общественного развития (13) <…>
<…>
Пластическое искусство – живопись, скульптура – родилось лишь после того, как техника обработки орудий труда достигла значительной высоты, и лишь после того, как в процессе технической работы в психике палеолитического охотника отложилось чувство (линейной) формы, вне которой невозможно никакое пластическое искусство. Это чувство формы родилось в первобытном охотнике, однако, не только после того, как техническая обработка орудий подготовила для этого чувства психофизиологическую почву, но и вследствие этой технической работы, как последствие ее, причинно ею обусловленное. Прежде чем появиться на свет в виде удивительной в своем роде пещерной живописи и костяной скульптуры, чувство художественной формы проявлялось гораздо скромнее, а именно – в виде тех примитивных украшений, которые охотник палеолита наносил на свое орудие или на камень и кость. Эти зазубрины и линии – правильно повторявшиеся, – ритмически расположенные, не имели никакого практического назначения. Они не делали орудие более отвечающим своему назначению. Они были украшением – художественным украшением. Этот линейный ритм или эта ритмика линий родилась в процессе (16) ритмически-правильно повторявшихся манипуляций, которые охотник производил во время обработки камня.
<…> Если позволительно видеть в этой линейной ритмике, подкрепленной чувством формы, начало и исток пластических искусств, то самая эта линейная ритмика (или геометрический орнамент) был не чем иным, как повторением ритмических рабочих движений, производимых во время технической обработки орудий, но без их практического смысла. Иначе – пластическое искусство родилось из игры технически-производственных ритмов (как поэзия и музыка родились из игры отвлеченных от работы рабочих ритмов).
Искусство было в своем первоначале не чем иным, как практически бесцельным повторением работы, работой превращенной в игру.
Каждое новое орудие труда, в особенности каждое новое усовершенствованное орудие борьбы за существование, наполняло палеолитического охотника чувством бодрости, чувством растущей безопасности, чувством господства над природой. Каждое новое такое орудие производства знаменовало собой как бы новый шанс на победу – отсюда повышенное настроение первобытного охотника. Получался некоторый избыток психических сил, психической энергии, ненужной для непосредственной борьбы за существование, и этот избыток энергии и силы выражался в стремлении повторить, но уже практически бесцельно самый процесс работы, причем родившееся в процессе труда чувство ритма и чувство формы подсказывали сознательное ритмизирование линий (17). <…>
Как на аналогию, поясняющую вышесказанное, можно указать на тот факт, что некоторые ныне живущие в Африке племена, стоящие на низкой ступени цивилизации, возвращаясь с полевых работ домой, где их ждет ужин, приближаясь к деревне, начинают, вместе с женами, вернувшимися после приготовления ужина к ним, плясать, повторяя, но уже практически бесцельно, те ритмические движения, которые они раньше делали во время работы – здесь также работа переходит в игру и в искусство (Бюхер. «Работа и ритм»).
В основе пластического искусства, как и вообще всякого искусства, лежит таким образом чувство ритма, родившееся во время работы, родившееся из работы. На ритме построена не только живопись и скульптура, но и архитектура (см. Гинзбург. «Ритм в архитектуре»). Ритм есть нечто весьма, с одной стороны, понятное и близкое даже человеку, на низших ступенях цивилизации стоящему, ибо ритм – везде: в природе, где, правильно чередуясь, приходят и уходят светила, приводя с собой день и ночь, ритмически правильно набегают и убегают волны; есть он и в строении человеческого тела (пальцы на руках и ногах) и в работе организма (кровообращение, дыхание). А с другой стороны, ритм имеет в себе нечто таинственное. Он принуждает человека с силой неодолимой. В нем есть-как выразился Гёте – «нечто волшебное». Известна принуждающая сила плясового ритма. <…> Не менее известна и принуждающая (18) сила музыкально-словесного ритма, образно выраженная в греческих легендах об Орфее и Арионе, околдовывавших своей песнею и зверей и стихию, или в финской Калевале, где старый певец Вейнемейнен зачаровывает пеньем не только зверей, но и богов.
<…> Такой же «колдовской», принуждающий характер присущ и тому линейному ритму, который, родившись, как всякий ритм, из работы, потом, отслоившись от нее, лег в основу пластического искусства. Этот проникающий и организующий пластическое искусство ритм и позволил ему выполнять в общественной жизни человечества на всех ступенях общественного развития последнего его существенную социальную функцию, служа средством особого рода принуждения, направленного или на самую природу, или на богов, или на психику общественного человека (19).
Изобразительное искусство – как и всякое искусство выполняет определенную социальную функцию. Посредством образов воздействуя на чувства и воображение, а через них и на мысль индивидуума, оно организует, упорядочивает, направляет их в интересах общественного коллектива или той или иной части этого коллектива, т. е. того или иного класса данного общества, если оно дифференцировалось на классы. Данное определение относится, впрочем, главным образом к тем изобразительным искусствам, которые эту задачу легче могут выполнить – к живописи и скульптуре, т. е. к изобразительным искусствам идеологического порядка. Так называемые прикладные искусства – архитектура и художественное ремесло или предметы художественной промышленности, как выполняющие задания непосредственно практические, утилитарные – являются в большей степени средствами организации материально-бытовой жизни. На низших ступенях общественного развития скульптура и живопись в значительной мере служили таким же непосредственно-практическим целям. Живописный или скульптурный образ был средством установления известной связи между (20) членами группы или коллектива, заменяя нашу письменность. <…>
На низшей ступени общественного развития живописный или скульптурный образ служит не только заменой письма, телеграммы, стенгазеты, но и средством запечатлеть какое-нибудь для данной группы или племени важное «историческое» событие. <….>
Если оставить в стороне чисто прикладную функцию некоторых пространственных искусств и остановиться только на более идеологических видах пластических искусств, то они на разных ступенях общественного развития в зависимости от общественных потребностей и от формы (21) мировоззрения, соответствующего данному уровню общественного развития, выполняют несколько различные функции. <…>
Живопись и скульптура мадленских охотников были в самом деле не чем иным, как колдовским актом (23). <…>
От охоты человечество в своем историческом развитии перешло к земледелию; земледельческие коллективы, первоначально коммунистические, распались на классы землевладельцев и крестьян и организовались в классовое феодальное государство, первобытная магия выросла в религию, рядом с феодалом над массой земледельцев стал жрец.
В этих феодально-земледельческо-жреческих общественных организациях искусство продолжало играть ту же практическую социально-утилитарную роль, превратившись, однако, из художественно-магического действа в религиозно-культовой акт.
Искусство-магия сменилось искусством-религией. Первое воздействовало непосредственно на природу, подчиняло непосредственно природу человеку, второе воздействовало на богов – хозяев и распорядителей природы. Первое повелевало, второе умилостивляло. И то и другое имело в виду в конечном счете материальное благо человека на земле. Теперь, когда была налицо религия, когда (25) образовалось представление о «душе», первоначально в виде «двойника», «Ка» – в Древнем Египте, искусство-религия служили делу материального устройства человека не только на земле, но и за гробом. На примере Египта можно проследить это превращение искусства-магии, соответствующего охотничьей орде, в искусство-религию, соответствующее феодально-земледельческому и жреческому общественному строю.
Пещера, где младенец совершал свое магическое действо, превращается здесь в архитектурную постройку, в храм, где обитает божество, мыслившееся сначала как животное, потом – как человеческая фигура с звериной головой, и, наконец, – в образе человека; изображение животного на стене пещеры превращается в изображение бога; звериная пляска, имевшая целью околдовать зверя, становится «священной пляской жрецов» (напр., пляска планет), имевшей целью подчинить человеку течение планет; первобытная охотничья песня, вероятно сопровождавшая пещерное магическое действо, звучит теперь как религиозный гимн в честь богов, в честь бога солнца Ра. Если египетское искусство было таким образом, с одной стороны, религиозно-литургическим актом, то, с другой стороны, оно служило делу устроения загробного блага двойника – «души», «Ка». Для него строится пирамида, в склепе ставится скульптурное изваяние или живописное изображение, портрет «Ка», который будет вечно жить, даже если мумия распадется, стены склепа покрываются рельефами, изображающими хозяйство усопшего, которым он будет владеть и распоряжаться и в царстве блаженных. (26) <…>
В поднимавшихся буржуазных обществах, в период борьбы буржуазии с дворянством, в период организации этого класса, искусство служит, как и в предыдущие общественные эпохи, цели совершенно практической, «утилитарной», а именно – делу воспитания членов нового буржуазного коллектива к их исторической миссии.
Искусство-магия и искусство-религия становятся морально-гражданской педагогикой.
Таково искусство греческой городской демократии VI–V веков.
По внешности религиозное – оно, однако, выражает и укрепляет идею независимого и свободного гражданского коллектива (27).
Когда в Италии в конце XIII века торгово-промышленная буржуазия победила дворянство, религиозное искусство и здесь сменилось искусством, выявлявшим и укреплявшим чувство гражданского самосознания. Флорентийская буржуазия поспешила увековечить свою победу над дворянством… Граждански-политическая тенденция флорентийского искусства XV века отчетливо сказывалась и в тех батальных картинах, которые флорентийская синьория заказывала Леонардо да Винчи и Микель Анджело, и в таких фресках, как «Воскресение из мертвых» Синьорелли, где все воскресшие-вразрез с средневековой традицией – изображены нагими, а не одетыми, так что герцога и епископа не отличишь от ремесленника и крестьянина (целая декларация гражданского равенства!), и в скульптурах Донателло и Микель Анджело, (28) провозглашавших идею совершенного человека – гражданина. <…>
Там, где буржуазия закончила свою борьбу за власть, там, где она стала господствующим классом, где она накопила значительные богатства, там, где она выходит из политической борьбы и не занята в производстве материальных благ, там искусство повсюду освобождается от религиозных, моральных, гражданских идей, выражает идею наслаждения жизнью и все более уходит в свои специальные формально-технические задания.
В таких буржуазных обществах искусство-магия, искусство-религия, искусство-педагогика превращается в искусство «чистое» (30). <…>
Ту же эволюцию от идейно-организующего к чистому прошло и искусство буржуазных обществ XIX века (32). <…>
Ту же эволюцию прошла русская буржуазная живопись.
Передвижники-шестидесятники, пионеры буржуазного искусства, создают искусство, долженствующее воздействовать на поэтическую мысль и на социальное чувство общественного индивидуума. «Содержание» для них было в искусстве самым существенным. «Художественная форма, – повторяли они вслед за Чернышевским, – не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью идеи не в состоянии дать ответа не вопрос: да стоило ли трудиться над подобными пустяками». <…>
В конце XIX и в начале XX века русская буржуазия хотя и не стояла еще у власти, однако, материально и социально находилась приблизительно в том же положении, как голландская в XVII веке и французская – в эпоху второй империи и третьей республики… На смену передвижникам пришел «Мир искусства». Чернышевский в роли учителя уступает место Дягилеву (!). «Искусство свободно, – провозглашает этот присяжный идеолог нового направления в искусстве. – Оно не имеет «ближайшей утилитарной цели». «Оно не ратует за права гражданина». «Творец должен любить только красоту и только с ней вести беседу» <…> (34).
Этой теории вполне соответствовала практика «Мира искусства» – живопись бессодержательная, безыдейная, стремившаяся доставлять лишь «наслаждение», «вкусная» сервировка красок, искусство «чистое».
Из этого лагеря вышла и «История живописи» Бенуа, написанная со специальной целью доказать, что «проповедническое искусство» передвижников было «ужасно» и что «драгоценное свободное искусство», «не зависящее от литературы и школьной указки» – словом, «настоящая живопись» – родилась только вместе с «Миром искусства».
Итак – резюмируем – каждому существенному этапу в общественном развитии человечества соответствует искусство, выполняющее определенную социальную функцию (35).
<…>