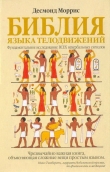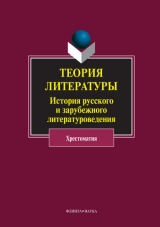
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
1. С каких позиций рассматривает М.Л. Гаспаров взаимосвязь строфики и ритмики?
2. На каком материале и в каком временном диапазоне ведет наблюдение ученый?
3. Охарактеризуйте результаты, к которым приходит Гаспаров, наблюдая за чередованием тяжелоударных и легкоударных строк 4-ст. ямба и 4-ст. хорея внутри строфы.
4. Как выглядит, по мнению ученого, эволюция строфического ритма в целом?
5. Говоря об изоморфизме строения стиха на разных уровнях, какой новый уровень изоморфизма выделяет Гаспаров?
Ю.И. ЛевинБ. Пастернак. Разбор трех стихотворений[24]24
Левин Ю.И. Избранные работы. Поэтика. Семиотика. – М.: Школа: Языки русской культуры, 1998. – С. 156–157, 159, 161.
[Закрыть]
1. «Когда смертельный треск сосны скрипучей…»
Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленою пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.
Тогда, возней лозин глуша окрестность,
Над чащей начинает возникать
Служилая и страшная телесность.
Медаль и деревяшка лесника
……………………………………
Не радоваться нам, кричать бы на крик.
Мы заревом любуемся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик,
И ярок тем, что мертв, как лампион.
1927
Это странное и зловещее стихотворение[25]25
[Мы процитировали первую, третью и заключительную строфы. – Н.Х.]
[Закрыть] (напечатанное в «Новом мире», 1928, № 1 и не включенное автором ни в один прижизненный сборник) соседствует с поэмами о революции и «Спекторским», предшествуя попыткам поэта «мериться пятилеткой» и «в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни». Нет никаких оснований сомневаться в искренности этих надежд и попыток, – но оборотная сторона надежды-опасение, а высшая его степень – страх и ужас, и именно эта оборотная сторона с визионерской яркостью увидена и запечатлена в разбираемом стихотворении. Оно построено именно как видение, с характерной двойственностью реальности и иллюзии и колебанием между ними. На фабульном уровне все описанное в тексте предстает как (156) картина, возникшая в воображении в результате впечатления от треска падающей (или качающейся) сосны <…> Но эта картина становится непререкаемой действительностью благодаря дробной убедительности зримых и слышимых реалий («медаль и деревяшка лесника», «трещат шаги комплекции солидной», «мясистые щеки» и т. д.) и живому неподдельному ужасу восклицания последней строфы.
Стихотворение начинается с резко подчеркнутого мотива смерти: «смертельный», «погребает». Отметим кольцевое построение: кончается стихотворение словами «мертв, как лампион». Но если «смерть» в начале относится к сфере природы, то в конце – к социально-исторической сфере.
Слово смертельный в 1-ой строке двусмысленно: оно может относиться к смерти дерева, – точнее было бы сказать «смертный» или «предсмертный», – и одновременно означает «несущий смерть», – и «смертельный треск» становится подобным выстрелу, направленному в «я» 1-ой строфы или в «мы» 5-ой. Строка 2 говорит, прежде всего, об акустическом эффекте: звук поглощается мягкой лесной почвой; одновременно возникает коннотация: упавшее дерево погребено в этой почве. Двузначность, смысловая двуплановость вообще является организующим семантическим принципом этого стихотворения, что мы увидим и в дальнейшем; эта микросемантическая двуплановость как бы разыгрывает макросемантическую двуслойность («природный» и «социально-исторический» слои).
В 3-ей строке вторгается прямо названная «История». Она отождествляется с «нерубленою пущей», т. е. «рощей» 1–2 строк (хотя и с оговоркой: «иных дерев»), вбирая в себя весь соответствующий семантический комплекс, связанный со смертью. И здесь продолжается та же двуплановость: «нерубленая» означает и богатство, полноту – и дикость, неухоженность, запущенность (на что намекает и слово «пуща», заменившее «рощу»); одновременно, в силу законов поэтической семантики, «нерубленая» намекает и на возможность рубки – и не как ухода и заботы, а как насилия (ср. «И с топором порубщика ведут»). Та же двуплановость в «перегное»: это и богатая, плодородная почва – и результат смерти, гниения, – и колыбель – и могила (причем акцентировано последнее значение: «погребает перегной»).
Во 2-ой строфе развертывается сложное и неоднозначное историософское построение (157): [ «периоды затишья» сменяются временем обоюдного насилия «нарушителей», «охранителей». – Н.Х.].
<…> 3–4 строфы всецело посвящены «леснику», т. е. охранительным силам. О «браконьерах» и «порубщиках» уже нет речи, они <…> полностью подавлены его «служилой и страшной телесностью». В леснике подчеркнуто не «природное», а именно «служилое» (медаль) <…>. Основная его черта – устрашающая массивность («страшная телесность», «комплекции солидной», «мясистых щек»), соотносящаяся со всеподавляющей мощью государства. Эта массивность влечет за собой определенный звуковой комплекс: <…> «глуша» – двойственное слово: в нем и оглушительный, оглушающий звук (составной элемент того подавления всего, о котором говорилось выше), и состояние оглушения, тишина, глухота (как следствие этого подавления).
Далее, с лесником связан и светоцветовой комплекс: «озаренный лес», «мясистых щек китайским фонарем», «зарево», «краской хвачен», «ярок», «лампион». Единственный цвет здесь-красный, что служит лишним подтверждением соотнесенности стихотворения с современностью (ср. распространенность символики и метафорики «красного», а также «зари», «зарева» в публицистической и поэтической фразеологии 20-х годов).
Наиболее яркое проявление двойственности в семантике стихотворения – двуплановость «красного» (159): [за праздничной «видимостью» болезненность, смерть. – Н.Х.].
<…> Пастернак оказался проницательнее, увидев в «сильных» не мифических «новых людей», а лишь «служилую и страшную телесность», чреватую смертью и несущую смерть-а отнюдь не «изжитье последних язв».
И тут стоит обратить внимание на один знаменательный факт. У наиболее чутких к «шуму времени» русских поэтов в 20 —30-х гг. появляется тема зловещей, дьявольской силы, часто облеченной фольклорными, или же «простонародными», плебейскими атрибутами. Мы имеем в виду такие стихи Мандельштама, как «Сегодня ночью, не солгу» (1925), «Я с дымящей лучиной вхожу» (1931), «Фаэтонщик» (1931) и ряд других, где возникает мир, в котором все «страшно, как во сне» <…> В обстановке террора, бесправия, неблагополучия и неустойчивости, когда «и воздух пахнет смертью», человек чувствует себя по-детски беспомощным, и мир страшных снов и детских страхов становится адекватной моделью его самоощущения.
Сходные настроения и образы – в стихах Ахматовой («Страх, во тьме перебирая вещи» (1921), «Третий Зачатьевский» (1922), «Слух чудовищный бродит по городу» (1922), «За озером луна остановилась» (1922), «От тебя я сердце скрыла» (1936) и т. д.): крысы и призраки, «перекличка домовых», «стук зловещий», постоянное ощущение, что «что-то нехорошее случилось». К той же тематической сфере, заслуживающей подробного самостоятельного анализа, относится и рассмотренное стихотворение Пастернака (161).
1. Когда было написано стихотворение? Охарактеризуйте данный период в творчестве Б. Пастернака.
2. Что, по мнению Ю.И. Левина, является организующим семантическим принципом этого стихотворения?
3. Чем порождена его макросемантическая двуслойность?
4. Охарактеризуйте основной мотив и связанный с ним центральный образ стихотворения.
5. Какими поэтическими приемами создается данный образ? Какую функцию в его создании выполняет звуковой и свето-цветовой строй стихотворения? Какая черта оказывается доминантной? Что она символизирует?
6. В рамках какого методологического направления выполнен данный анализ?
Ю.Н. ЧумаковПир поэтики: Стихотворение Ф.И. Тютчева «Кончен пир, умолкли хоры…»[26]26
Чумаков Ю.Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений. – М.: Языки славянской культуры, 2008. – С. 312–319, 322, 325–326, 329–336, 338, 340.
[Закрыть]
В экзистенциональном смысле всякий пир – это чрезмерность, чреватая катастрофой. Определение годится и для круга людей, собравшихся пить, есть и говорить, и для спектра метафор всеобщего характера. Мотивами пира отмечена целая эпоха в русской поэзии от Державина до Некрасова. Когда все более явным становится ускоряющийся бег истории и ее драматические наклоны. «Пиры», «Пир во время чумы», «Пир на весь мир» – вот названия, взятые наугад. Пир во всех измерениях наполняет и лирику Тютчева с ее майскими грозами, громокипящим кубком Гебы, преизбытком жизни, разлитом в знойном воздухе («Весенняя гроза», «В душном воздуха молчанье…» и ми. др.). С образами пира Тютчев связывает, помимо природно-космических и душевных стихий, стихию истории, стадии которой он хочет лирически освоить. Два культурно-исторических зона придвинуты Тютчевым друг к другу в стихотворении «Кончен пир, умолкли хоры…» (1850). Написанное во время творческого подъема на самом переломе века после нескольких лет молчания, оно, вместе с картиной завершенного пира, чрезвычайно привлекательно для рассмотрения ввиду пиршественного изобилия поэтических средств, употребленных автором:
(1) Кончен пир, умолкли хоры,
(2) Опорожнены амфоры,
(3) Опрокинуты корзины,
(4) Не допиты в кубках вины, (312)
(5) На главах венки измяты, —
(6) Лишь курятся ароматы
(7) В опустевшей светлой зале…
(8) Кончив пир, мы поздно встали —
(9) Звезды на небе сияли,
(10) Ночь достигла половины…
(11) Как над беспокойным градом,
(12) Над дворцами, над домами,
(13) Шумным уличным движеньем
(14) С тускло-рдяным освещеньем
(15) И бессонными толпами, —
(16) Как над этим дольным чадом,
(17) В горнем выспреннем пределе
(18) Звезды чистые горели,
(19) Отвечая смертным взглядам
(20) Непорочными лучами…
Первое читательское восприятие текста как будто не дает никаких поводов для сложности усвоения. Стихотворение развертывает урбанистический мотив, правда, не столь уж частый у Тютчева. Вырисовывается даже некоторое подобие фабулы: гости покидают пиршественный зал, выходят наружу и, перешагивая строфораздел, как порог, идут по улицам города. Однако тут же выясняется, что это совсем не так. М.Л. Гаспаров пишет: «Стихотворение это удивительно тем, что интерьер, рисуемый в первой строфе, – античный, а картина ночного города, рисуемая во второй строфе, – современная: что в античных городах не было ночью ни освещения, ни шумного движения, было хорошо известно при Тютчеве» (Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у Тютчева // Тютчевский сборник. Таллин, 1990. С. 13). Возникающий здесь пространственно-временной парадокс и является непосредственным поводом для погружения в поэтику этого стихотворения.
Ее рассмотрение будет проведено в достаточно традиционной манере: тип композиции, лексика, интонационно-синтаксический пласт, рифмические структуры строф, фоника, пространственно-временное устройство и авторская позиция, интертекстуальные включения. Все это – вместе со смыслообразующими местами каждого уровня и обобщением в конечном итоге (313). Подобные аналитические операции вполне аутентичны самой сути тютчевской поэзии с ее обваливающейся спонтанностью, которая хотя и заключена автором в жесткие композиционные рамки, но все равно чувствуется в центробежном давлении компонентов различных уровней, тяготеющих к самодостаточности и потому заметных.
Среди излюбленных лирических композиций Тютчева особое место занимают сдвоенные восьмистишия, разделенные обязательным пробелом. Резонируя на внешние и внутренне космические стихии, Тютчев широко использует именно эти уравновешенные формы в качестве своего рода «противосейсмической» защиты. К их числу принадлежат выдающиеся образцы тютчевской лирики: «Цицерон», «О чем ты воешь, ветр ночной?..» <…> Двухчастные построения, как правило, уходят в сторону от психофизического параллелизма, который осложняется или заменяется отношениями нетождественного тождества, поляризованного единства, вариативными повторами, редупликацией, развитием мотива, риторической сентенцией.
«Кончен пир, умолкли хоры…» (в дальнейшем – КП) вполне соответствует жанру «двойчатки», но в то же время это единственная форма, отклоняющаяся от канона: вместо восьмистиший – два десятистишия. Аналога ей в тютчевской поэзии вообще нет. Увеличение объема строфы позволяет Тютчеву более тщательно и изыскано разработать тему пира. Стихотворение начинается формулой конца («Кончен пир»), но тема не только не остановлена, она развертывается, дистанцируясь от самой себя, меняя крупный план на общий, превращаясь в другое. Остановленное у Тютчева всегда динамично, потому что он умеет и любит схватывать переходные, текучие состояния. Это не случайное качество, не романтические прихоти – это фундаментальная интуиция мира изменчивости (314) и инертности, различимых лишь дискурсивно. Вот почему все, что совершается в двух строфах КП, движется и стоит одновременно. Вполне корректным будет, например, описание строф как соположенных, автоматически замкнутых миров, но в то же время видно, что они поступательно-возвратно взаимодействуют, отторжены друг от друга и проницаемы, противоречиво тяготея сразу к дискретности и синтезу. <…>
Хорошо известно, что «замечательной чертой поэзии Тютчева является обилие повторений, дублетов». Они встречаются в стихотворениях, написанных друг за другом, и на большой временной дистанции. Прямых аналогов у КП нет, но существуют важные переклички и частичные повторы мотивов… которые накрепко вписывают стихотворение в поэтический контекст. Зато само КП выполняет принцип дублетности внутри себя, что также наблюдается у Тютчева («Как дымный столп светлеет в вышине…», «Два голоса» и т. п.). Стремление Тютчева к круговому ходу стихотворения связано не только с чувством тождества природы и духа, но и с необходимостью овладеть стихией своего поэтического сознания, которое постоянно уносит «в неизмеримость темных волн». Эти волновые состояния души («Дума за думой, волна за волной») Тютчев замыкает в оформляющий круг, вырезает из хаоса, превращая «волну» в «частицу» текста, то есть совмещая в самом себе антиномии, описанные впоследствии теоретическим принципом дополнительности. В контрастирующих мирах КП Тютчев сначала усматривает утрату порядка, обрыв культурной эпохи, а затем ищет путь, на котором может возникнуть новый порядок из исторического хаоса (315).
<…> Лексический уровень КП свидетельствует, что Тютчев свободно сопрягает в одном тексте слова различных рядов и различной стилистической окраски. В первой строфе – сплошная античная атрибутика: «пир», «хоры», «амфоры», «корзины», «кубки», «вина», «венки», «ароматы», «светлый зал». Крупный план придвигает вещи вплотную, и предметно-телесный мир, лишенный украшательных подробностей, открыт всем пяти чувствам и в то же время прост и прям, как дорическая колонна. Совершенно иной характер лексики во второй строфе. «Дворцы», «дома», «шумное уличное движенье», «тускло-рдяное освещенье», «бессонные толпы» – все это, показанное общим планом, не имеет никаких черт античности. Впрочем, «беспокойный град» может быть принят и за тот же самый, бывший античный, вернее всего, римский город, но перенесенный в тютчевскую современность через огромный промежуток времени, который весь укладывается в межстрофический пробел стихотворения.
Кроме новых реалий в первой половине строфы надо указать на присутствие в ее второй половине яркой экспрессивно-оценочной лексики и эмфатической фразеологии («дольный чад», «горний выспренный предел», «звезды чистые», «смертные взгляды», «непорочные лучи»), которые неустранимо и недвусмыслено завершают КП форсированными христианскими мотивами. Таким образом, в пределах одной только лексики вырисовывается главная контроверза КП, оформленная противостоянием двух его строф: столкновение двух культурных эпох или даже эонов – античности и христианства.
Грамматические формулы функционально соответствуют лексическим значениям, со своей стороны участвуя в построении (316) контрастирующего поэтического пространства обеих строф. Количество имен существительных в них соответственно 15 и 11, т. е. примерно равное, но качество предметной пластики в первой строфе выше. Однако резкий контраст дает число глаголов и кратких причастий: в первой строфе – 10 форм, во второй – всего 1 глагол на всю строфу («горели»). Зато в количестве прилагательных наблюдается обратное отношение: в первой – 2, в качестве определений к одному существительному («В опустевшей светлой зале»), во второй – 11, из которых одно – составной эпитет («с тускло-рдяным освещеньем»). Там и там по одному деепричастию в смежных позициях. Из 6 глаголов на обе строфы – 5 в прошедшем времени, 1 – в настоящем («лишь курятся ароматы»). Это эффектное изменение (раньше было «курились») подчеркнуто выделяет ст. 6 в его центральной позиции: глагол стоит особняком, возникая после пяти кратких причастий кряду, а остальные глаголы размещаются в ст. 1, 8, 9, 10. Глагол «курятся» призван, таким образом, удерживать в настоящем то, что на глазах сию минуту стало прошедшим, но удерживает лишь плывущий в воздухе чад, который позже будет назван на месте «ароматов» в ст. 16. В обеих строфах почти все существительные во множественном числе, но все-таки по 3 в каждой из них явлены в единственном, что и выдвигает их впереди остальных: «пир», «зала», «ночь» – «град», «чад», «предел» (не считая «движенья» и «освещенья»). Из множественных чисел значимы, конечно же, «звезды», но об этом ниже. И последний момент: только в античной строфе есть единственное местоимение первых лиц – «мы», и далее сплошь третьи лица, в том числе «бессонные толпы».
Казалось бы, что при рассмотрении КП можно пренебречь областью лексических преобразований, т. е. тропов. Достаточно общего взгляда, чтобы убедиться в исключительной автологичности первой строфы, т. е. в употреблении Тютчевым слов и выражений в их прямом непосредственном значении. Это даже удивительно, так как Тютчев в целом – поэт металогический, любитель сложной метафоры, символа, аллегории, и автол огня у него встречается крайне редко. Тем важнее оказывается этот, видимо, вполне осознанный Тютчевым поэтический ход, придающий лирическому изображению античного мира стройную соразмерность, ясность, простоту, собранность. При этом характер (317) только что закончившегося пира мог быть каким угодно, даже оргиастическим, но тем сильнее впечатляют эти «развалины роскошного убора» (Батюшков), эти гости, спокойно выходящие из светлой залы под ночное небо.
На фоне этого сдержанного описания педалируется напряженно-экстатическая атмосфера второй строфы. Строго говоря, и она не слишком тропеична, но, тем не менее, почти весь ее лексический состав осложнен и сдвинут со стороны семантики. В картине города (ст. 11–15) это происходит за счет эпитетов: 3 из 5 насквозь металогичны. «Беспокойный град» – метонимичен, «бессонные толпы» – гиперболичны, не говоря уже о символической перегруженности в контексте Тютчева «сон – бессоница». Кроме того, «беспокойный» и «бессонные» усиливают друг друга позиционно и фонически. «Тускло-рдяный» – слишком тютчевский составной эпитет, восхитивший Л. Толстого, соединяет в себе взаимоотрицающие характеристики слепой мутности и огненной воспаленности. Достигая друг друга, сплетаясь с остальными словами, только три этих эпитета, не считая иных выразительных средств, способны создать в полу строфе металогическую стилистику, наполняющую картину ночного города эйфорической тревогой.
Металогия окончания КП поддерживается за счет одушевления «звезд» и шести эпитетов полустрофы, осложненных сакральными коннотатами. Вместе с тем, металогический ст. 18 («Звезды чистые горели»), перекликаясь с автологическим ст. 9 («Звезды на небе сияли»), возводит композиционно-смысловую крышу над всем стихотворением. Соединяется несоединимое. Соединяется – потому что имеет место повтор, мотивный дублет, тавтология, потому что мир во все времена лежит под теми же звездами. Несоединимое – потому что по смыслу первой строфы «звезды» – небесные тела, а их мифологические олицетворения элиминированы; что же касается второй строфы, то «звезды» в ней – одушевленные существа, чистые и непорочные, которые представляют небо Христа-вся фразеология совпадает с этим! – и поддерживают тех, кто внизу, это есть «бессонные толпы». Поэтому там и там «звезды» отнюдь не тождественны друг другу и находятся в несовпадающих пространствах, внешнем и внутреннем. Тем не менее, несмотря на разность миров, притяжение через их границы все равно остается (318).
<…> «Ровная интонация» (Ю.Н. Тынянов. – Прим. Ю.Н. Чумакова) далеко не монотонна. 10 простых предложений в ст. 1 – 10 последовательно группируются в две неравные цепочки: 7 и 3 – различным способом интонирования. В длинной – ст. 1 содержит 2 предложения, а ст. 6–7 – 1. В короткой интонационно доминирует ст. 8 («Кончив пир, мы поздно встали»), а два последних стиха, с одной стороны, мотивируют позднее вставание гостей со своих лож. а с другой – как бы и независимы в самих констатациях. Обилие грамматических предикатов придает первой строфе внутреннюю динамику, инерцию длительности. Вместе с тем почти вся их семантика говорит об остановленности, опорожненности, опустошении, и только звезды остаются гарантом высокой стабильности.
Если первая строфа вся выложена из линейно-последовательных синтаксических порций, то вторая – целиком замыкается в сложное синтаксическое образование, где интонация напряженно-долго восходит к ст. 18, оставляя для нисхождения всего два стиха. Этот синтаксически нераздельный монстр, одним предложением уравновешивающий десять предшествующих, даже не так просто квалифицируется: во всяком случае, не гипотаксис в противоположность паратаксису. Фразу можно понять как растянуто-редуцированное риторическое восклицание со свернутой эмфазой, в упрощенной форме не редкое у Тютчева («Как тихо веет над долиной…», «Как он любил родные ели…», «Тихой ночью, поздним летом…», «Как на небе звезды рдеют…» и др.), но она похожа и на зачин фольклорного типа (напр., у Пушкина: «Как по Волге-реке, по широкой / Выплывала остроносая лодка»; ср.: «Как над этим дольным чадом… / Звезды чистые горели»). Однако конструкция все-таки усложнена: далеко оттянутая анафора с союзом «как» по смыслу двуступенчата, потому что вначале она сопровождает перечисление, а во второй раз его обобщает (319). Интонационная градация еще более напрягает структурное ожидание, длящееся до ст. 18.
Рассмотрение интонационно-синтаксического сегмента осложняет композиционно-смысловые отношения между строфами. Внешний контраст усиливается благодаря резкому различию в синтаксическом рисунке. В то же время внутри строф обнаруживается инверсированное несовпадение синтаксических и смысловых структур. В первом случае смысловая остановленность противоречит синтаксической динамике, во втором – описание бурного городского движения тонет в тормозящем синтаксисе. В результате в обеих строфах превалирует статика, хотя и по-разному организованная. Тютчев обычно тяготеет к остановке времени.
Ритмика стихотворения в целом поддерживает тематическую композицию. Тютчев написал его четырехстопным хореем со сплошными женскими окончаниями <…> Вокруг КП располагаются два из очень немногих текстов, написанных тем же размером с женской клаузулой: это природно-космические ландшафты «Тихой ночью, поздним летом…» (первое четверостишие) и «Не остывшая от зною…», оба – шедевры Тютчева.
Ст. 1 («Кончен пир, умолкли хоры…») с большим нажимом демонстрирует полноударность метра (-́∪-́∪-́∪-́∪), однако эта ритмическая форма далее не встречается, за исключением вариативного повтора в ст. 8, где, впрочем, первое ударение звучит заметно слабее, чем в ст. 1. В ст. 2–7, заключающих в себе перечень пиршественной атрибутики, пропущены все ударения на первых иктах, а пропуски третьего икта равномерно варьируются: ст. 2, 3, 6 (-∪-́∪-∪-́∪), ст. 4, 5, 6 (-∪-́∪-́∪-́∪). Что касается трех последних стихов первой строфы, то ст. 9, 10 имеют классически устойчивую ритмическую форму (-́∪-́∪-∪-́∪), где возврат ударения на первом икте и синтаксический лаконизм придают им интонационную независимость (о ст. 8 сказано (320) выше). Ритмические формулы ст. 1, 8 —К) образуют вокруг строфы подобие ассиметрического кольца, в котором последние стихи откликаются на акцентную выразительность ст. 1.
Ст. 11, в свою очередь, открывает вторую строфу единственной на все стихотворение ритмической формулой «Как над беспокойным градом» (-∪-∪-́ ∪-́ ∪), контрастирующей со ст. 1 ив особенности со смежным ст. 10, отделенным пробелом. Весомости ударений на первом и втором иктах ст. 10, поддержанных характером словоразделов и фонически, противостоит неустойчивая, какая-то «убегающая» строка, что объясняется как раз сдвигом ударений на третьем и четвертом иктах в конец стиха, теряющего равновесие, и длинным словом «беспокойным», стоящим между коротких слов в середине строки.
Как и в первой строфе, во второй – четыре стиха с ударением на начальном икте, но только ударных нет совсем. Они расположены иначе и, будучи сдвинуты в пары (ст. 13, 14 и 17, 18), занимают общую позицию, подобно перекрестным рифмам внутри пятистишия. Эта позиция симметрична, их ритмические формы тождественны (-́∪-́∪-∪-́∪), но пространственно они полярны по вертикали:
(13) Шумным уличным движеньем,
(14) Тускло-рдяным освещеньем —
земля, город, низ, —
(17) В горнем внутреннем пределе
(18) Звезды чистые горели —
небо, мироздание, верх.
Трехударных ритмических форм без первого ударения – 2; двухуд арных – 3.
Заключая краткий обзор ритмики, следует заметить, что эти трехударные ст. 16, 19 и двухударные ст. 12, 15, 20 также расположены внутри строфы в определенном порядке, чего никак нельзя сказать о ритмических формах первой строфы.
В строфической композиции КП одно из важнейших мест отведено рифме. Сами по себе рифмы стихотворения ничем не примечательны, за исключением «хоры – амфоры», но их бедность и однообразие более чем компенсируется прихотливой рифмической структурой. Здесь тоже виден контраст, возможно, (321) рассчитанный. Для своих десятистиший Тютчев берет два двойных и два тройных созвучия, но выстраивает их таким образом, что рифмическая структура в каждом случае приобретает единственный и неповторимый рисунок. Обычно строфы создаются постоянным повторением рифменных групп, хотя значимые отступления от строфического канона, конечно, встречаются. Зачем же Тютчеву при наличии всего двух строф понадобилось произвести на свет эти штучные изделия? (322)
<…> Многомерность рифмической структуры КП соблазняет использовать ее схему как порождающее смысловое устройство, наряду с тематикой и лексикой. Рифмическая схема второй строфы, принятая за ее инфраструктурную модель, задает тексту – даже без обращения к лексико-тематическому фону – характер сложной и замкнутой устроенности, изощренного архитектурного расчета, высокой авторитетности. (325) <…>
Семантика чисто стиховых уровней до сих пор проблематична теоретически и практически. Поэтика КП способна прояснить семантические возможности на межуровневых зависимостях внутри стиха. Для этого надо еще раз обратиться к метрическому уровню и соотнести его с рифмическим. Здесь открываются неожиданные и не совсем объяснимые факты почти абсолютного соответствия рифмующих стихов второй строфы с их ритмическими формами и словораздельными вариациями. Те же самые отношения в первой строфе как бы нарочито изменчивы и неупорядочены, а наблюдаемые соответствия скорее разведены, чем сближены (326).
<…> Рассмотрение рифмического построения десятистиший КП показало, что оно вступает в разветвленную структурно-семантическую связь с метрическим, интонационно-синтаксическим, композиционным и другими уровнями текста. Даже взятая как изолированный сегмент, рифмическая структура второй строфы способна выполнять смыслообразующие функции и служить аналитическим инструментом, выясняющим многомерные отношения обеих строф. Уже собрано достаточное количество данных, которые позволяют видеть в каждой строфе, на ее концентрированном лирическом пространстве художественные модели двух миров, двух культур – античности и христианства. Различные ритмо-рифмические структуры строф показывают, что первая сложена из свободно лежащих, равноправных компонентов, подобных недообработанным камням, в то время как вторая, иерархически-замкнутая и связанная, возводит из более унифицированных частей, как из обтесанных камней, высокое и всеобъемлющее здание (329).
Звуковой состав рифм КП достаточно выразителен. Он распределяется следующим образом: а – 11 (более чем на строфу!), е – 4, и – 3, о – 2. Однако самое интересное здесь-группировка рифм. КП начинается с единственной пары на «о», затем следует пара на «и», затем пять (!) рифм на «а» и, наконец, одно «и». Ассонансная группа на «а» продолжается уже парами во второй строфе, перемежаясь с парами на «е» (еще один модус рифмической структуры). С точки зрения вокализма вся вторая строфа, да и большая часть первой, за исключением разрезающего строфы «и» ст. 10, тяготеет к монотонности (11 – а, 4 – е, 1 – и). Тем сильнее воздействие звукового обвала, с которого начинается стихотворение, ст. 1–4. Пять полнозвучных «о», поддержанных шестью графемами, где звук редуцирован, сменяются четырьмя «и», подхватывающими «пир» из ст. 1. Яркий фонический аккорд обнаруживает внутри себя контрастирующую структуру из гласных различного образования (низкотональное, компактное «о» и высокотональное, диффузное «и»), и этим началом задается слияние звуковой структуры рифм с фоникой всего стихотворения (330).
<…> Все пересечения и включения друг в друга структурно-семантических срезов КП образуют вместе поэтическое пространство, некий целостный мир более высокого порядка, который, выстраивая сам себя, выстраивает пространственно-временной континуум двух культурно-исторических эпох в их соотнесенности. Следовательно, как бы античность и христианство ни отталкивались друг от друга, как бы ни разводил их Тютчев, сам же он их и соединил, и это соединение, конечно, подлежит описанию.
Пир кончен, пиршественная зала опустошена, но ореол античной эпохи настолько притягателен, что приведенное в беспорядок пространство пира все равно выглядит собранным, (331) человечески обжитым, уютным. Это классика, вернее всего, римская! А точнее, это наше представление о классике, наше знание, которое живет с ними всегда. Лирическое повествование Тютчева придвигает к нам пространство античности с прекрасными аксессуарами его быта: амфорами, курильницами, кубками, венками, светильниками? всеми этими телесно-ощутимыми вещами, несущими «выпуклую радость узнавания» (О. Мандельштам. – Ю.Ч.). Античное пространство размыкается на глазах, знаки размыкания, растраты видны кругом: амфоры опорожнены, корзины опрокинуты и т. д. Оно неоднократно, ступенчато: ст. 1–7 как бы еще в зале, а ст. 8 —10 – уже под открытым небом. Но ощущение замкнутости сохраняется до конца первой строфы. Изображено то состояние растворенности и покоя, которое наступает в тот момент, когда всплеск самозабвения только что оставлен позади. Не случайно, что авторская позиция здесь интимна и выражена множественным «мы», которое включает друг в друга лирическое сознание, участников пира и читателей – это одно поле! Есть некий героический и печальный пафос в переживании «откупоренности» античного пространства, его опорожнения, опустошения, истощения – всего того, что по-гречески называется «кенозисом». В античной строфе присутствует в связи с этим некоторое горизонтальное движение в продольном, как бы анфиладном пространстве, которое изливается или выдувается в другое.