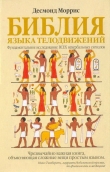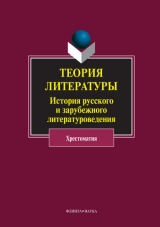
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Если мы попытаемся рассмотреть литературные жанры с синхронической точки зрения, нам следует вначале понять, что никакие разграничения и дифференциации не могут быть осуществлены, исходя из исключительно формальных или тематических характеристик (101).
<…> Структурный анализ, который еще не применялся к большинству жанров, позволит мало-помалу осуществить такой синхронический срез, в коем соотношение традиционных жанров и жанров, не освященных традицией, представало бы не как логическая классификация, а как собственно литературная система в данной конкретной исторической ситуации. Но поскольку «каждая синхроническая система имеет свое прошедшее и будущее как неотделимые структурные элементы системы», постольку структурная история литературных жанров нуждается в других синхронических срезах – в литературной продукции предшествующих и последующих периодов.
Если теперь мы попытаемся рассмотреть литературные жанры с диахронической точки зрения, нам понадобится исходить из связей отдельного текста с последовательным рядом текстов, образующих жанр.
<…> Как описать историческую эволюцию жанра, если общий характер этого жанра не следует понимать ни как вневременную норму ни как произвольную условность? Как изменяется жанровая структура, не теряя при этом своей специфичности? Как представить развитие жанра во времени иначе, чем движение к шедевру и закат в эпигонской стадии?
Если заменить субстанциалистское понятие жанра (жанр как идея, проявляющаяся в каждом индивидууме и способная повториться лишь как жанр) историческим понятием преемственности, «где все, что предшествует, расширяется и дополняется тем, что следует» (Аристотель), отношение отдельного текста с рядом текстов, образующих жанр, предстанет как непрерывный процесс созидания и модификации определенного горизонта. Новый текст создает у читателя (слушателя) горизонт ожидания и правила, которые он знает благодаря предшествующим текстам и которые незамедлительно подвергаются вариациям, ректификациям, модификациям, но иногда просто репродуцируются. Вариация и ректификация определяют параметры жанрового пространства, модификация и репродукция определяют границы структуры жанра.
<…> Чем (103) более текст является стереотипным воспроизведением жанровых характеристик, тем больше он теряет в своей художественной и исторической ценности. Это же касается литературных жанров <…>
Историчность литературного жанра проявляется в процессе создания жанровой структуры, ее вариаций, расширения и исправлений, вносимых в нее; процесс этот может продолжаться до расцвета данного жанрового образования или до его вытеснения новым. <…> Прерывистый характер данной эволюции [поэзия нонсенса. – Н.Х.], вариативные усложнения либо упрощения текстов, введение новых правил, делающих возможной дифференциацию, транспозицию готовой структуры на изобразительную форму другого жанра <…> – все это характеризует историческую жизнь литературных жанров и служит опровержению органицистской схемы…
<…> Методологический постулат, согласно которому рождение и смерть тех или иных литературных форм, то есть любое изменение в истории жанра, находит по крайней мере соответствие в общественно-исторической ситуации или получает импульс от нее, уже не поддерживается даже марксистской теорией и социологией литературы (105) <…>.
<…> Форма нового жанрового образования может равным образом происходить из структурных модификаций, когда группа уже существующих простых жанров подчиняется некоему высшему организационному принципу. Классический пример здесь – тосканская «novella», созданная Боккаччо, которая предписывает свои нормы всей дальнейшей эволюции новеллы как современного жанра. С генетической точки зрения «Декамерон» Боккаччо интегрировал удивительное разнообразие более старых нарративных или дидактических жанров: такие средневековые формы, как «пример», фаблио, легенда, миракль, лэ, vida (жизнеописание), nova (история) любовная казуистика, восточные рассказы, Апулей и милетские любовные истории, флорентийские истории и анекдоты. Согласно Хансу-Иоргу Нейшеферу, Боккаччо перенес все это тематическое и формальное разнообразие в устойчивую структуру нового жанра с помощью трансформации, правила которой могут быть определены как темпорализация сюжетных схем – с точки зрения формы, и как проблематизация моральных норм – с точки зрения содержания. Путь, ведущий от более старых нарративных и дидактических форм к жанровой структуре новеллы, куда они интегрируются, может быть описан через следующие оппозиции: однополюсные или дву-полюсные персонажи; типическое действие или исключительный случай; однозначный или амбивалентный характер моральных норм; трансцендентная фатальность или утверждение автономии человека. Характеристики, которые сохранит позднейшая теория новеллы – такие, как «необычайное происшествие» или разрешение нравственного казуса, – если их взять изолированно, недостаточны, чтобы определить жанр: они достигают своей специфической функции и тем самым своей исторической эффективности лишь в жанровой структуре, созданной Боккаччо. Это, естественно, не означает, что с данного момента все элементы такой структуры должны содержаться во всех позднейших мицеллах. Последователи Боккаччо не довольствовались простым повторением его исходной структуры (107) <…> В своем историческом развитии, дающем порой упрощающие (например, забавная сказочка), порой усложненные (например, казуистическая проза мадам де Лафайет) варианты, новелла станет выдвигать на первый план самые разные формы, предполагаемые ее полигенетической природой. <…>
Если придерживаться фундаментального принципа историзации понятия формы и рассматривать историю литературных жанров как временной процесс непрерывного становления и изменения горизонта ожидания, нужно заменить все образы эволюции, зрелости и увядания нетелеологическими понятиями, позволяющими оперировать ограниченным числом возможностей. При таком подходе шедевр определяется через модификацию, столь же неожиданную, сколь и обогащающую, жанрового горизонта; его предыстория определяется запасом еще широко открытых возможностей, а эволюция жанра к своему историческому концу – исчерпанием последних возможностей, уже разрушающих свободу действий, которая была ему предоставлена <…> (109).
Формалистская теория пытается описать историю жанров только как имманентный процесс эволюции и смены литературных систем. Она абстрагировала функцию литературных жанров в социальной истории и повседневной реальности, исключила проблемы рецепции и влияния на современного и будущего читателя, полагая, что это относится к области социологии и психологии. Впрочем, историчность литературы не исчерпывается преемственностью доминирующих систем, функций и форм или изменениями жанровой иерархии. Недостаточно связать «литературный ряд», с одной стороны, с языком или «языковой функцией», с другой, – с «нелитературными рядами». Поскольку литературные жанры связаны с жизнью и несут социальную функцию, литературная эволюция тоже должна быть определена через свою функцию в истории и эмансипации общества, а смена литературных систем изучена в их корреляции с общим историческим процессом. <…> Ее следует дополнить пониманием функций литературы, рассмотренной под углом рецепции: мы убедились, что литературные жанры, выполняя роль ориентирующих рамок, позволяют нам точно определить эти функции. Исследование взаимосвязей между литературой и обществом, литературным произведением и публикой позволит избежать социологических и психологических упрощений в той мере, в какой оно сумеет воссоздать жанровый горизонт ожидания, заранее задающий как интенцию произведений, так и понимание их читателями и тем самым побуждающий их постичь ту или иную историческую ситуацию в ее былой актуальности.
<…> Совсем не в качестве начала, обретающего свое значение только в отдаленном конце, в полностью развитой национальной литературе, но как начало, имеющее значение в самом себе, литература Средних веков может вновь стать незаменимой парадигмой, ибо она является проявлением автономного движения, формирующегося в народных языках, архаические жанры которых, свидетельствуя и об идеале и о реальности замкнутого исторического мира, открывают нам первичные структуры, в которых утверждает себя в некоем новом свете социальная (освободительная или охранительная) и созидательная роль коммуникации, роль всякой литературной деятельности (118).
1. Чем вызван отход Х.-Р. Яусса от традиционной нормативной эстетики, утверждающей незыблемость канонов?
2. Почему так важна для Яусса позиция реципиента? На устранении какого разрыва строит свой методологический подход ученый?
3. Можно ли даже откровенно новаторское произведение рассматривать как абсолютное новшество? Как вы понимаете утверждение ученого, что литературное произведение «не монумент, а партитура».
4. Чем, по мнению ученого, создается «горизонт ожидания» для читателя, пытающегося осмыслить новое произведение, его жанр?
5. Что значит, по Яуссу, явление «смешения жанров»? Почему понятие «доминанты» придает этому явлению методологическую продуктивность?
6. Чем продиктована необходимость рассматривать жанры с синхронической и диахронической точек зрения?
Р. БартМиф сегодня[36]36
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс: Универс, 1994. – С. 72–73, 75–79, 81–84, 86–89, 95–96, 98, 103.
[Закрыть]
Что такое миф в наше время? Для начала я отвечу на этот вопрос очень просто и в полном соответствии с этимологией: миф – это слово, высказывание.
<…> Миф – это коммуникативная система, сообщение, следовательно, миф не может быть вещью, конвентом или идеей, он представляет собой один из способов означивания, миф – это форма.
Легко убедиться в том, что попытки разграничить разного рода мифы на основе их субстанции совершенно бесплодны: поскольку миф – это слово, то им может стать все, что достойно рассказа. Для определения мифа важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем сообщается; можно установить формальные границы мифа, субстанциональных же границ он не имеет. Значит, мифом может стать все что угодно? Я полагаю, что дело обстоит именно так, ведь суггестивная сила мифа беспредельна (72).
<…> Мифическое слово есть сообщение <…> мифическое сообщение формируется из некоторого материала, уже обработанного для целей определенной коммуникации; поскольку любые материальные носители мифа (73), изобразительные или графические, предполагают наличие сознания, наделяющего их значением, то можно рассуждать о них независимо от их материи. Эта материя не безразлична, ибо изображение, конечно, более императивно, чем письмо; оно навязывает свое значение целиком и сразу, не анализируя его, не дробя на составные части. Но это различие вовсе не основополагающее, поскольку изображение становится своего рода письмом, как только оно приобретает значимость; как и письмо, оно образует высказывание.
В дальнейшем мы будем называть речевым произведением, дискурсом, высказыванием и т. п. всякое значимое единство независимо от того, является ли оно словесным или визуальным… Этим мы не хотим сказать, что мифическое высказывание следует рассматривать только в плане языка; в действительности изучением мифов должна заниматься общая наука, более широкая, чем лингвистика, имя этой науки семиология.
Семиология есть наука о формах, поскольку значения изучаются в ней независимо от их содержания (75).
Напомню теперь, что в любого рода семиологической системе постулируется отношение между двумя элементами: означающим и означаемым. Это отношение связывает объекты разного порядка, и поэтому оно является отношением эквивалентности, а не равенства. Необходимо предостеречь, что вопреки обыденному словоупотреблению, когда мы просто говорим, что означающее выражает означаемое, во всякой семиологической системе имеются не два, а три различных элемента, ведь то, что я непосредственно воспринимаю, является не последовательностью двух элементов, а корреляцией, которая их объединяет. Следовательно, есть означающее, означаемое и есть знак, который представляет собой результат ассоциации первых двух элементов. Например, я беру букет роз и решаю, что он будет означать мои любовные чувства. Может быть, в этом случае мы имеем лишь означаемое, розы и мои любовные чувства? Нет, это не так, в действительности имеются только розы, «отягощенные чувством». Однако в плане анализа мы выделяем три элемента: «отягощенные чувством» розы с полным основанием могут быть разложены на розы и любовные чувства, и розы и чувства существовали по отдельности до того, как объединиться и образовать третий объект, являющийся знаком. Если в жизни я действительно не в состоянии отделить розы от того, о чем они сообщают, то в плане анализа я не имею права смешивать розы (76) как означающее и розы как знак; означающее само по себе лишено содержания, знак же содержателен, он несет смысл (77).
В мифе мы обнаруживаем ту же трехэлементную систему, о которой я только что говорил: означающее, означаемое и знак. Но миф представляет собой особую систему и особенность эта заключается в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической системой. Знак (то есть результат ассоциации концепта и акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй системе <…> материальные носители мифического сообщения (собственно язык, фотография, живопись, реклама, ритуалы, какие-либо предметы и т. д.), какими бы различными они ни были сами по себе, как только они становятся составной частью мифа, сводятся к функции означивания, все они представляют собой лишь исходный материал для построения мифа; их единство заключается в том, что все они наделяются статусом языковых средств. Идет ли речь о последовательности букв или о рисунке, для мифа они представляют собой знаковое единство, глобальный знак, конечный результат, или третий элемент первичной семиологической системы. Этот третий элемент становится первым, то есть частью той системы, которую миф надстраивает над первичной системой (78).
<…> В мифе имеются две семиологические системы, одна из которых частично встроена в другую; во-первых, это языковая система, язык (или иные, подобные ему способы репрезентации); я буду называть его языком-объектом, поскольку он поступает в распоряжение мифа, который строит на его основе свою собственную систему; во-вторых, это сам миф, его можно называть метаязыком, потому что это второй язык, на котором говорят о первом. Когда семиолог анализирует метаязык, ему незачем интересоваться строением языка-объекта, учитывать особенности языковой системы; он берет языковой знак в его целостности и рассматривает его лишь с точки зрения той роли, которую он играет в построении мифа. Вот почему семиолог с полным правом одинаково подходит к письменному тексту и рисунку: ему важно в них то свойство, что оба они являются знаками, готовыми для построения мифа; и тот и другой наделены функцией означивания, и тот и другой представляют собой язык-объект (79).
Означающее мифа двулико: оно является одновременно и смыслом и формой, заполненным и в то же время пустым. Как смысл означающее предполагает возможность какого-то прочтения, его можно увидеть, оно имеет чувственную реальность (в противоположность языковому означающему, имеющему сугубо психическую природу); означающее мифа содержательно <…> Как целостная совокупность языковых знаков смысл мифа имеет собственную значимость, он является частью некоторого события <…> в смысле уже содержится готовое значение, которое могло бы оказаться самодостаточным, если бы им не завладел миф и (81) не превратил бы его в полую паразитарную форму. Сам по себе смысл уже есть нечто законченное, он предполагает наличие некоторого знания, прошлого, памяти, сравнения фактов, идей, решений.
Становясь формой, смысл лишается своей случайной конкретности, он опустошается, обедняется, история выветривается из него и остается одна лишь буква. Происходит парадоксальная перестановка операций чтения, аномальная регрессия смысла к форме, языкового знака к означающему мифа. <…>
Однако главное здесь заключается в том, что форма не уничтожает смысл, она лишь обедняет его, отодвигает на второй план, распоряжаясь им по своему усмотрению. Можно было бы подумать, что смысл обречен на смерть, но это смерть в рассрочку; смысл теряет свою собственную значимость, но продолжает жить, питая собой форму мифа. Смысл является для формы чем-то вроде хранилища конкретных событий, которое всегда находится под рукой, это богатство можно то использовать, то прятать подальше по своему усмотрению; все время (82) возникает необходимость, чтобы форма снова могла пустить корни в смысле и, впитав его, принять облик природы, но прежде всего форма должна иметь возможность укрыться за смыслом. Вечная игра в прятки между смыслом и формой составляет самую суть мифа.
Обратимся теперь к означаемому. История, которая словно сочится из формы мифа, целиком и полностью впитывается концептом. Концепт всегда есть нечто конкретное, он одновременно историчен и интенционален, он является той побудительной причиной, которая вызывает к жизни миф <…> Концепт помогает восстановить цепь причин и следствий, движущих сил и интенций. В противоположность форме концепт никоим образом не абстрактен, он всегда связан с той или иной ситуацией. Через концепт в миф вводится новая событийность (83) <…> Если говорить точнее, в концепт впитывается не сама реальность, а скорее определенные представления о ней, при переходе от смысла к форме образ теряет какое-то количество знаний, но зато вбирает в себя знания, содержащиеся в концепте. На самом деле, представления, заключенные в мифологическом концепте, являются смутным знанием, сформировавшимся на основе слабых, нечетких ассоциаций. Я настоятельно подчеркиваю открытый характер концепта; это никоим образом не абстрактная, стерильная сущность, а скорее конденсат неоформившихся, неустойчивых, туманных ассоциаций; их единство и когерентность зависят прежде всего от функции концепта.
В этом смысле можно утверждать, что фундаментальным свойством мифологического концепта является его предназначенность <…> концепт точно соответствует какой-то одной функции, он определяется как тяготение к чему-то (84).
<…>
Как нам уже известно, третий элемент семиологической системы представляет собой не что иное, как результат соединения двух первых элементов; только этот результат и дан для непосредственного наблюдения, только он и воспринимается нами. Я назвал третий элемент значением. Ясно, что значение и есть сам миф, подобно тому, как соссюровский знак есть слово (точнее, конкретная сущность). Прежде чем описывать свойства значения, надо немного поразмыслить над тем, каким образом оно создается, то есть рассмотреть способы соотнесения концепта и формы в мифе.
Прежде всего надо отметить, что в мифе два первых элемента совершенно очевидны (в противоположность тому, что имеет место в других семиологических системах, один не «прячется» за другой, оба даны нам здесь, в этом месте (а не так, что один находится здесь, а другой где-то там). Как это ни парадоксально, но миф ничего не скрывает; его функция заключается в деформировании, но не в утаивании. Концепт вовсе не латентен по отношению к форме; нет ни малейшей (86) необходимости прибегать к подсознательному, чтобы дать толкование мифа. Очевидно, мы имеем здесь два различных типа манифестации: форма дана нам прямо и непосредственно, кроме того, она имеет некоторую протяженность. Еще и еще раз надо подчеркнуть, что это полностью обусловлено языковой природой мифологического означающего: поскольку означающее уже обладает определенным смыслом, то оно может манифестироваться только с помощью какого-то материального носителя (в то время как в языке означающее сохраняет свою психическую природу). Если миф выступает в устной форме, протяженность означающего линейна <…> если миф представляет собой зрительный образ, его протяженность многомерна <…> Таким образом, элементы формы занимают по отношению друг к другу определенное место, они находятся в отношении смежности; способ манифестации формы в данном случае пространственный. Напротив, концепт дается как некая целостность, он представляет собой нечто вроде туманности, более или менее расплывчатого сгустка представлений. Элементы концепта связаны ассоциативными отношениями, он опирается не на протяженность, а на глубину (хотя, возможно, эта метафора слишком пространственна); способ его манифестации мнемонический.
Отношение между концептом и смыслом в мифе есть по существу отношение деформации (87). <…>
Никогда не надо забывать о том, что миф – это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку мифа. Сохраняя пространственную метафору, приблизительность которой я уже подчеркивал, можно сказать, что значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности. Это чередование подхватывается концептом, который использует двойственность означающего, одновременно рассудочного и образного, произвольного и естественного.
Я не хочу заранее оценивать моральные последствия такого механизма, но думаю, что не выйду за пределы объективного анализа, если замечу, что вездесущность означающего в мифе очень точно воспроизводит физическую структуру алиби (известно, что это пространственный термин): понятие алиби также предполагает наличие заполненного и пустого места, которые связаны отношением отрицательной идентичности («я не нахожусь там, где вы думаете, что я нахожусь»; «я нахожусь там, где вы думаете, что меня нет»). Но обычное алиби (88) (например, в уголовном деле) имеет свой конец; в определенный момент реальность прекращает вращение турникета. Миф же представляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зрения истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие двух сторон у означающего всегда позволяет ему находиться в другом месте, смысл всегда здесь, чтобы манифестировать форму; форма всегда здесь, чтобы заслонить смысл. Получается так, что между смыслом и формой никогда не возникает противоречия, конфликта; они никогда не сталкиваются друг с другом, потому что никогда не оказываются в одной и той же точке. Для сравнения можно привести следующую ситуацию: когда я еду в автомобиле и смотрю в окно, то по своему желанию я могу сосредоточить внимание или на пейзаже или на стекле; я смотрю на стекло – и тогда пейзаж отодвигается на второй план, или, наоборот, стекло становится для меня прозрачным и я воспринимаю глубину пейзажа. Результат подобного чередования неизменен: я воспринимаю присутствие стекла и в то же время оно для меня лишено всякого интереса; пейзаж представляется мне ирреальным и в то же время явлен мне во всей своей полноте. То же самое можно сказать и об означающем в мифе: его форма пуста, но она есть, его смысл отсутствует, но в то же время он заполняет собой форму. Это противоречие можно заметить только в том случае, если умышленно прекратить такое чередование формы и смысла и сосредоточиться на каждом из них как на объекте, отличающемся от другого, если применить к мифу статическую процедуру расшифровки, одним словом, если нарушить его собственную динамику и рассматривать его с позиции не читателя, а мифолога (89). <…>