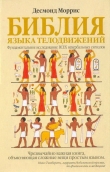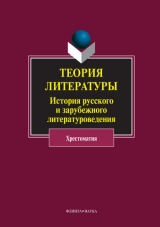
Текст книги "Теория литературы. История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия"
Автор книги: Wim Van Drongelen
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
1. Как рассматривает Р. Ингарден художественное произведение? Каково, по мнению ученого, его назначение? Какую цель оно преследует?
2. Есть ли в границах феноменологического подхода к произведению место контексту?
3. Что, по Ингардену, заключает в себе структура литературного произведения?
4. Какие «слои» в этой структуре выделяет ученый? Дайте им характеристику.
5. Что понимает ученый под «схематичностью» литературного произведения? В чем проявляет себя «схематичность» на уровне каждого из «слоев» текста?
6. Какой смысл вкладывает Р. Ингарден в понятие «конкретизация» литературного произведения?
7. Объясните, почему ученые-феноменологи считаются «предтечами» структуралистов?
Герменевтический метод
Г.-Г. ГадамерО круге понимания[34]34
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 72–75, 77–82.
[Закрыть]
Целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого. Это герменевтическое правило берет начало в античной риторике; герменевтика Нового времени перенесла его из области ораторского искусства на искусство понимания. В обоих случаях перед нами круг. Части определяются целым и в свою очередь определяют целое: благодаря этому эксплицитно понятным становится то предвосхищение смысла, которым разумелось целое.
Все это нам известно, коль скоро мы учили иностранные языки. Сначала нам приходилось «конструировать» предложение, а уж потом пытаться понять его отдельные части, их значение. Однако и процессом конструирования уже руководит ожидание смысла, вытекающее из всего предшествующего контекста. Правда, и в это ожидание приходится вносить поправки, когда того требует текст. В таком случае ожидание перестраивается, и текст образует единство подразумеваемого смысла под знаком иного смыслового ожидания. Так движение понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому. И задача всегда состоит в том, чтобы, строя концентрические круги, расширять единство смысла, который мы понимаем. Взаимосогласие отдельного и целого – всякий раз критерий правильности понимания. Если такого взаимосогласия не возникает, значит, понимание не состоялось.
Анализируя герменевтический круг части и целого, Шлейермахер различал в нем объективную и субъективную стороны. Как отдельное слово входит во взаимосвязное целое предложение, так и отдельный текст входит в свой (72) контекст – в творчество писателя, а творчество писателя – в целое, обнимающее произведения соответствующего литературного жанра или вообще литературы. А с другой стороны, этот же текст, будучи реализацией известного творческого мгновения, принадлежит душевной жизни автора как целому. Лишь в пределах такого объективного и субъективного целого и может совершаться понимание. Следуя этой теории, Дильтей говорит о «структуре», о «схождении к центру» – на основании этого и совершается понимание целого. Тем самым Дильтей переносит на исторический мир тот принцип, который испокон века был принципом любой интерпретации: необходимо понимать текст на основании его самого.
Однако встает вопрос: адекватно ли мы понимаем в таком случае круговращение понимания. <…> Задача герменевтики – прояснить это чудо понимания, а чудо заключается не в том, что души таинственно сообщаются между собой, а в том, что они причастны к общему для них смыслу.
Однако и объективная сторона круга, как описывает ее Шлейермахер, отнюдь не раскрывает сути дела. Цель любого понимания – достичь согласия по существу; ради этого мы общаемся друг с другом и договариваемся между собой. И задача герменевтики с незапамятных времен – добиваться согласия, восстанавливать его (73). <…> Еще один из непосредственных предшественников Шлейермахера, филолог Фридрих Аст, продолжал понимать задачу герменевтики исключительно содержательно. Он требовал от герменевтики восстановления согласия между античностью и христианством – между «подлинной» античностью, какой видели ее в ту эпоху, и христианской традицией. По отношению к Просвещению это нечто новое; речь уже идет не о том, чтобы опосредовать авторитет предания, с одной стороны, и естественный разум – с другой, а об опосредовании двух элементов традиции: осознав себя благодаря Просвещению, эти элементы ставят теперь перед собой задачу примириться друг с другом.
Однако мне кажется, что такое учение о единстве античности и христианства фиксирует один присущий феномену герменевтики момент истины – <…> искать в истории <…> истину настоящего.
Это еще более верно, если видеть ее в свете проблематики, развитой Хайдеггером. Экзистенциальный анализ возвращает пониманию с его структурой круга содержательное значение. Хайдеггер пишет: «Мы не должны низводить круг до circulum vitiosum [порочный круг. – Н.Х.] – пусть бы его даже стали после этого «терпеть». Круг заключает в себе позитивную возможность наиболее изначального познания. Впрочем, подлинным образом мы используем такую возможность лишь тогда, когда в своем истолковании начинаем понимать, что его первая, постоянная и последняя задача состоит не в том, чтобы предзадавать себе предимение, предусмотрение и предвосхищение случайными наитиями (74) или обыденными понятиями, но в том, чтобы разрабатывать их изнутри самого существа дела, обеспечивая тем научность темы» (Heidegger М. Sein und Zeit. S. 153).
To, что говорит здесь Хайдеггер, – это в первую очередь не практическое требование, а описание той самой формы, в какой осуществляется понимающее истолкование. Тонкость его герменевтической мысли не в доказательстве наличия круга, но в доказательстве онтологически позитивного смысла, присущего кругу.
<…> Нужно, чтобы толкователь направлялся сутью дела <…> Кто хочет понять текст, занят набрасыванием: как только в тексте появляется первый проблеск смысла, толкователь пробрасывает себе, проецирует смысл целого. А проблеск смысла в свою очередь появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла. И понимание того, что «стоит» на бумаге, заключается, собственно говоря, в том, чтобы разрабатывать такую предварительную проекцию смысла, которая, впрочем, постоянно пересматривается в зависимости от того, что получается при дальнейшем вникании в смысл.
Конечно, такое описание сокращенно и упрощенно. Любой пересмотр пробрасывания коренится в возможности пробрасывать вперед себя новую проекцию смысла; могут существовать рядом друг с другом соперничающие проекции, пока не установится сколько-нибудь однозначное единство смысла <…> (75)
<…> Кто хочет понять текст, всегда готов к тому, чтобы что-то услышать. Поэтому если сознание прошло школу герменевтики, оно будет с самого начала восприимчиво к инаковости текста. <…> Необходимо осознать свою собственную предвзятость, только тогда текст явится во всей своей инаковости, обретя возможность защищать свою предметную истину от наших собственных предмнений.
<…>
В анализе Хайдеггера герменевтический круг получает совершенно новое значение (77). Хайдеггер… осознает, что понимание текста всегда предопределено забегающим вперед движением предпонимания. Тем самым Хайдеггер описывает как раз задачу конкретизации исторического сознания. Эта задача требует от нас удостоверяться в собственных предмнениях и предсуждениях и наполнять акт понимания исторической осознанностью, так чтобы, постигая исторически иное и применяя исторические методы, мы не просто выводили то, что сами же вложили.
Содержательный же смысл круга целого и части, лежащего в основе любого понимания, необходимо, как мне представляется, дополнить еще одной характеристикой. Мне хотелось бы назвать его предвосхищением совершенства. Тем самым сформулирована предпосылка, направляющая любое понимание. Она гласит: доступно пониманию лишь действительно совершенное единство смысла. Мы всегда подходим к тексту с такой предпосылкой. И лишь если предпосылка не подтверждается, то есть если текст не становится понятным, мы ставим ее под вопрос. Например, мы начинаем сомневаться в надежности традиции, пытаемся исправить текст и т. д. <…>
Предвосхищение, или презумпция совершенства, направляющая все наше понимание, оказывается содержательно определенной. Предполагается, что не только имманентное единство смысла ведет читателя, но что и читательское понимание постоянно направляется и трансцендентными смысловыми ожиданиями, коренящимися в отношении к истине того, что подразумевается. <…> Мы и тексты, передаваемые традицией, понимаем на основе тех смысловых ожиданий, которые почерпнуты из нашего собственного отношения к сути дела (78). <…> Ему, тексту, все известно лучше, нежели что готово допустить наше собственное предмнение. И только когда в своей попытке признать истинным все сказанное мы терпим неудачу, это приводит нас к стремлению «понять» текст как мнение другого, понять его психологически или исторически. Таким образом, в презумпции совершенства заключено не только то, что текст полностью выражает все подразумеваемое им, но и то, что все сказанное есть полная истина. Понимать – означает, прежде всего, разбираться в чем-то, а уж потом, во вторую очередь, вычленять мнение другого, разуметь подразумеваемое им. Итак, первое из условий герменевтики – это предметное понимание, ситуация, возникающая тогда, когда я и другой имеем дело с одной и той же вещью. <…> Герменевтика должна исходить из следующего: тот, кто хочет понять, связывает себя с предметом, о котором гласит предание, и либо находится в контакте с традицией, изнутри которой обращается к нам предание, либо стремится обрести такой контакт. С другой стороны, герменевтическому сознанию известно и то, что связь его с сутью дела не может отличаться той беспроблемной и само собой разумеющейся слитостью, что характерна для непрерывной традиции. На деле существует полярность близости и чуждости, и именно в ней основание задачи герменевтики, только ее следует понимать <…> подлинно герменевтически, то есть во взгляде на нечто сказанное – на язык, на каком обращается к нам традиция, на слово, какое говорит она нам. Уготованное нам традицией место, место между чуждостью и близостью, есть, стало быть, промежуток между исторически понятой, отложившейся предметностью и причастностью к традиции. Этот промежуток и есть подлинное место герменевтики. Из этого промежуточного положения герменевтики (79) вытекает нечто, что оставалось на периферии прежней герменевтики, а именно: временная дистанция в ее значении для понимания. Время в самую первую очередь не пропасть, над которой надо построить мост, коль скоро она разделяет и удаляет одно от другого; это на деле основа события, в каком коренится наше сегодняшнее понимание. <…>
Дело же заключается в том, чтобы распознать во временной дистанции позитивную, продуктивную возможность понимания. Временной промежуток этот заполнен последовательностью событий, традиции, в свете которой и выступает для нас все предание. Тут можно говорить о подлинной продуктивности того или иного события. Каждый знает, сколь бессильно наше суждение, если временное отстояние не снабдило нас надежной мерой. Так, научное сознание в своих суждениях о современном искусстве чувствует себя порой в высшей степени неуверенным. Очевидно, что мы подходим к таким созданиям с предварительно сложившимися суждениями, недоступными нашему контролю, – они способны наделить эти создания свойством повышенного резонанса, свойством, которое не совпадает с их подлинным содержанием и с их подлинным значением. Лишь когда отомрут все такого рода актуальные связи, выступит их подлинный облик, лишь тогда откроется возможность понимания того, что действительно сказано ими, понимания того, что с полным основанием может притязать на общезначимость. Кстати говоря, сама по себе фильтрация подлинного смысла, заключенного в тексте или в художественном создании, есть бесконечный процесс. Фильтрует временное состояние, а оно пребывает в непрестанном движении, оно увеличивается, и в этом продуктивность его для понимания. В результате предрассудки частного характера отмирают, а выступают наружу те, что обеспечивают истинное понимание.
Только эта временная дистанция и в состоянии (80), собственно говоря, решать настоящую критическую задачу герменевтики – задачу дифференциации истинных и ложных предрассудков. Поэтому сознание, прошедшее школу герменевтики, всегда будет заключать в себе сознание истории. <…> Понимание начинается с того, что нечто обращается к нам и нас задевает. Вот наиглавнейшее герменевтическое условие. Теперь мы видим, какое требование тут содержится: требование привести свои предрассудки во взвешенное состояние. Однако когда действие суждений прерывается, а уж тем более действие предрассудков, то с логической точки зрения возникает структура вопроса.
Сущность вопроса – в раскрытии возможностей, в том, чтобы они оставались открытыми. <…>
Наивность так называемого историзма состоит в том, что он отказывается от такой рефлексии и, полагаясь на методичность своих приемов, забывает о собственной историчности. От этого ложно понятого исторического мышления мы должны воззвать к иному – к мышлению, какое надлежит понять лучше. Подлинно историческое мышление должно (81) мыслить и свою собственную историчность. Тогда оно уже не будет гнаться за призраком исторического объекта, предметом прогрессирующего научного исследования, но сумеет распознать в объекте иное своего собственного, а тем самым научится познавать и одно и иное. Подлинный исторический предмет-это не предмет, а единство такого одного и иного, отношение, в котором и состоит как действительность истории, так и действительность исторического понимания. Адекватная сути дела герменевтика должна раскрывать эту действительность истории в самом понимании. То, что предполагается таким требованиям, я называю «действенной историей». Понимание-это акт действенной истории, и можно было бы подтвердить, что именно в языковом феномене, подобающем любому пониманию, прокладывает себе путь историческое совершение герменевтики (82).
1. Какую задачу ставит, по мнению Г.-Г. Гадамера, герменевтика: создать метод понимания художественного произведения или выявить условия, при которых оно происходит?
2. Чем, по мнению ученого, важна временная дистанция, разделяющая создателя и интерпретатора текста?
3. Почему, по Гадамеру, необходимо реконструировать место художественного произведения в духовной истории человечества?
4. Какое определение дает ученый герменевтическому кругу? В чем, по его мнению, цель любого понимания?
5. Что значит продвижение вперед в границах герменевтического круга? Как ученый определяет подлинное место герменевтики?
6. Что означает, по Гадамеру, «предструктура понимания»? Чем важна историческая осознанность «предпонимания» толкователя?
7. Что принципиально нового, по мнению ученого, вносит в понимание герменевтического круга М. Хайдеггер? В чем, по Хайдеггеру, заключается «первая, постоянная и последняя задача» интерпретатора?
8. Попытайтесь обсудить сформулированные Гадамером условия герменевтики.
Рецептивная эстетика
Х.-Р. ЯуссСредневековая литература и теория жанров[35]35
Яусс Х.-Р. Средневековая литература и теория жанров // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 1998. – № 2. – С. 99–101, 105, 107, 116, 118.
[Закрыть]
<…> Современная систематизация по трем основным родам или «естественным формам поэтического произведения» (Гете) заставляет исключить большинство средневековых жанров в качестве нечистых или псевдопоэтических форм. Точно так же трудно описать с помощью современной триады-эпос, лирика, драма – народный эпос, поэзию трубадуров и мистерии. <…>
Перед лицом таких трудностей с 1900 г. все больший вес приобретает критика, направленная против псевдонормативного понятия жанра, истолкованного в духе брюнетьеровского эволюционизма. Эстетика Кроче, выдвигая на первое место экспрессивную особенность любого художественного произведения, признавала в качестве жанра только собственно искусство (или интуицию) и как бы освобождала филологов от проблемы жанров. Кроче свел эту проблему к вопросу о пользе I классифицирующего каталога. Однако хорошо известно, что для решения научной проблемы недостаточно разрубить гордиев узел (97).
<…> Отказавшись от эстетизма имманентной критики, которая способствовала появлению массы монографических трудов, так и не отвечающих на вопрос о синхронических и диахронических отношениях между литературными произведениями, новая историко-герменевтическая и структуралистская теория начала современный научный этап их исследования. Теория литературных жанров <…> пытается ныне найти путь, который начинался бы с той позиции, на которой остановилась историзация поэтики жанров и понятия формы.
<…> Даже тогда, когда, будучи чисто языковым продуктом, произведение обманывает или превосходит все ожидания, оно все-таки предполагает предварительную информацию или ориентацию ожидания, служащие мерой оригинальности и новизны, – тот горизонт ожидания, который создается для читателя традицией или рядом уже известных произведений и особым состоянием ума, вызванным этим новым произведением, его жанром и его правилами игры. Подобно тому, как не существует речевой коммуникации, которая не могла бы быть приведена к норме или не была бы обусловлена общепринятой-социальной или ситуативной – конвенцией, невозможно представить себе литературное произведение, которое находилось бы в некоей информационной пустоте и не зависело бы от специфических условий понимания. В этом смысле всякое литературное произведение принадлежит к какому-нибудь жанру.
<…> Отвергая вневременной характер жанровых понятий, выработанных классической поэтикой, мы вовсе не отказываемся от обобщений, позволяющих обнаружить отношения аналогии или подобия внутри той или иной группы текстов. <….> Речь идет о том, чтобы рассматривать литературные жанры не как genera (классы) в логическом смысле, но как исторические группы или семьи. Невозможно управлять процессами деривации или дефиниции в языке, но можно констатировать их и описывать. В этом смысле жанры являются аналогами исторически складывавшихся языков (немецкого или французского, например): мы не можем дать им определение, но можем лишь рассмотреть их с синхронической или исторической точки зрения (99).
Преимущества такого определения, которое рассматривает общие характеристики литературных жанров не с нормативной (ante rem – до действия) или классификаторской (post rem – после действия) точки зрения, но с исторической (in re – в действии) <…> совершенно очевидны. Тем самым выработка теории освобождается от иерархического порядка ограниченного числа жанров, санкционированных античными образцами и не способных ни смешиваться ни умножаться. Рассмотренные в качестве исторической семьи или группы, признанные большие и малые жанры – не единственные, которые мы имеем возможность собрать и описать в их исторических вариантах. Можно проделать то же самое применительно к другим произведениям, которые объединяет некая структура, образующая последовательность – эти произведения представлены в историческом ряду. Преемственность, создающая определенный жанр, может обнаружиться в совокупности всех текстов этого жанра, как в басне, или в противостоящих друг другу жанровых рядах – жесты и куртуазного романа, в последовательности произведений одного автора, как Рютбеф, или в общих проявлениях стиля, пронизывая всю эпоху, как в аллегорическом маньеризме XIII века <…> Одно и то же произведение может быть рассмотрено под углом зрения разных жанров: таков «Роман о Розе» Жана де Мена, где скрещиваются объединенные в рамках любовной аллегории формы сатиры и пародии, нравственной аллегории и мистического сочинения (в традиции Шартрской школы), философского трактата и комедийных сцен (роль Друга и Старухи). Впрочем, такое положение не избавляет критика от постановки вопроса о доминанте, создающей системное единство текста: в нашем случае речь идет о жанре светской энциклопедии, изобразительные возможности которой Жан де Мен гениально расширил.
Введение понятия доминанты, организующей сложную систему произведения (Тынянов Ю. Литературный факт // Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977), позволяет придать чрезвычайную методологическую продуктивность явлению, именуемому «смешением жанров», которое в классической теории было лишь негативным антиподом «чистых жанров». Необходимо также установить различие между структурой жанра с независимой (или конститутивной) функцией и с функцией зависимой (или сопутствующей) (100). <…> Случается и так, что структура жанра выявляет себя лишь в сопутствующей функции – как «гаи» (gap) или гротеск, так и не сумевший стать автономным литературным жанром в романской традиции. Стало быть, возможно определять жанр не в логическом смысле, но уточняя состав жанровых групп, в соответствии с тем, насколько жанр способен самостоятельно конституировать конкретные тексты. Причем, это конституирование должно быть рассмотрено как синхронически, в структуре не поддающихся взаимной подстановке элементов, так и диахронически, в устойчивой последовательности.