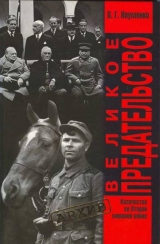
Текст книги "Великое Предательство:Казачество во Второй мировой войне"
Автор книги: Вячеслав Науменко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
– Стреляй! – и выругался.
Раздался выстрел. Демьяновский, как сноп, сполз в вагон с простреленной головой. Раздалось еще несколько винтовочных выстрелов, застрочил пулемет, и все стихло. Люди притихли и с расширенными от ужаса зрачками смотрели на едва шевелившегося Демьяновского. Грозный ропот нарушил тишину:
– Мучают! Убивают! – и опять с ненавистью и ругательством вспомнили англичан, как виновников нашего несчастья.
Я ни разу не слышал, чтобы ругали американцев или кого-либо из союзников. Вся ненависть, вся злоба и угрозы были только по адресу англичан.
Снаружи слышался шум расхрабрившихся укротителей НКВД. Было слышно, как открывали вагоны, раздавались выстрелы и опять закрывали. Ясно, что кого-то расстреливали. «Кого же? – промелькнула у меня мысль. – Наверное, расстреливают старших вагонов, за то, что не могли укротить людей…»
Послышался шум у нашего вагона, по порядку, 46-го, открыли вагон и закричали:
– Старший вагона! Давай сюда!
Я подошел к двери. Как я выглядел в эту минуту, я не знаю, но я был спокоен. Загремела отодвинутая дверь. Я стоял впереди. Десяток винтовок и автоматов были направлены в дверь вагона.
Начальник конвоя, с бритой головой и с наганом в руке, стоял в полукруге. Я ожидал приказания: «слезай» и рассматривал каждого в лицо – какой же меня застрелит? Охрана была из русских людей, были и донские казаки, а начальник еврей.
Начальник грубо спросил:
– Что, убит?
– Нет, еще жив, – ответил я.
– Давай сюда! Я крикнул:
– Ребята! Принесите сюда Демьяновского.
Четыре человека принесли полумертвого казака к двери. Он слегка всхлипывал ртом. Начальник сказал нквдистам:
– Возьмите и положите здесь! – и, указав против вагона, в четырех-пяти метрах от железнодорожного пути, приказал одному из НКВД:
– Дострелить!
Подошел молодой энкавэдист, упер дуло винтовки в голову казака и выстрелил. Демьяновский умер.
Всех потрясло увиденное. Многие опустили голову и молча смотрели на пол вагона. Я смотрел на палачей и видел, что не всем им по душе приказание: «Убей брата!» Некоторые отвернулись, когда достреливали казака.
Но ничего не поделаешь! Беспощадна советская власть ко всему русскому народу!
После этого начальник обернулся к вагону и, грозя наганом, сказал:
– Это будет всем! Со мною говорить и просить может только старший! Поняли? После этих слов он приказал закрыть вагоны. Боже мой! Вся злоба и ненависть свалились теперь на меня. Девяносто три пары глаз не спускали с меня взгляда со стоном:
– Старший, требуй воды!
Никакие увещевания с моей стороны не помогали. Я знал, что воды нет и просить ее бессмысленно, но нужно было что-то сделать, чтобы успокоить людей, потерявших рассудок от мучившей их жажды.
Я крикнул в окно часовому:
– Вызови начальника охраны!
Все стихли в трепетном ожидании. Все лелеяли надежду получить каплю воды. В первый раз я должен был произнести это гнусное слово «товарищ». Я обращался к людям со словами «ребята» или «братцы», а только к начальству обращался по необходимости – «товарищ».
Пришел к окну товарищ жид. Я ожидал, что он будет грубить. Но он был очень вежлив.
– Товарищ начальник! – обратился я. – Очень тяжелое положение людей, нужно хотя бы немного воды.
– Я понимаю, – ответил начальник, – но у нас у самих нет ни капли воды.
Но это он солгал.
– Мы ждем паровоза. Вчера еще ушел набрать воды, и что-то его еще нет. Скоро наверно прибудет.
– Я понимаю, – сказал я, – но есть люди уже больные и в бессознательном состоянии.
– Я сейчас дам распоряжение отправить их в изолятор, – сказал начальник.
Я его поблагодарил и он ушел. Пришли энкаведисты и забрали больных.
Заболевания были не только в моем вагоне. Из четырех с половиной тысяч человек оказалось много больных. Значит для изолятора нужно было с десяток пульмановских вагонов, но нквдисты ухитрились всех больных усадить в один вагон, который болтался в хвосте поезда. Неудивительно, что через несколько дней мне сообщили, что мои люди умерли в изоляторе. На мой вопрос, отчего умерли, я получил ответ:
У одного образовалось загноение уха, другой умер от разрыва сердца, а третий от теплового удара. Верно ли это, я не знаю, но их я больше не видел. В вагоне слышался стон:
– Старший! Требуй воды!
Никакие увещевания не помогали. Обезумевшие люди кричали: «Воды!»
Сам я был не в лучшем состоянии: язык мой одервенел, пересох, горло сдавило, не хватало воздуха, но я понимал, что воду мы получим только тогда, когда она будет и когда энкавэдистам заблагорассудится нам ее дать.
Мне трудно было успокоить людей, что через полчаса-час вода прибудет и мы утолим жажду. Я сам начинал терять надежду на то, что вода когда-либо прибудет и начал думать, что «отец народов» решил нас замучить жаждой.
Но тут, неожиданно, подтвердилась русская поговорка: «Бог не без милости!» – набежали тучи, раздался раскат грома. В вагоне все притихли, лица озарились радостью. Пошел проливной дождь.
Все вскочили, как вихрь, с кружками, котелками и бросились к окнам вагона, давя друг друга. Каждый старался просунуть свою посуду наружу, собрать хотя бы несколько капель дождевой воды и смочить себе пересохший рот и горло. Тысячи рук показались наружу, прорезая руки колючей проволокой и не чувствовали ни боли, ни крови, которая текла, лишь бы собрать несколько капель воды.
Охрана стояла молча. Не было приказов и предупреждений – «Назад!» Охранники, улыбаясь, смотрели на происходившее. Не знаю, были ли они рады, что Господь смиловался над нами, или же они радовались нашими мучениями.
Я в общей свалке не успел ничего захватить. Волной людей я и Шмелев были прижаты к окну. Несколько дождевых капель упало мне на лицо и на голую грудь. Какое блаженство я испытал в эту минуту! От приятного прикосновения дождевых капель к огненно горячему телу я мгновенно забыл все горе и свою будущую участь и одного только хотел, чтобы без конца падали на меня эти холодные, освежительные капли. Но увы! Волна вновь прибывших оттолкнула меня от окна и А. И., сосавшего свою грязную руку. Он мне тоже ответил улыбкою и сказал:
– Ничего, Н. И.! Мы находимся в советском раю, должны и этим удовлетворяться. А как приятно, еще бы немножко, хотя бы таким способом.
Но минуты счастья окончились. Дождь перестал, но стало свежее и прохладнее, и многие сразу уснули. Часа в четыре дня пришел паровоз. Выдали нам по два ведра воды на вагон. Ведро вмещало, до самого верха десять литров. Разделили эти восемнадцать литров на девяносто человек и хоть немного утолили жажду.
Почти в течение двух месяцев пути мы были на таком водяном пайке.
После раздачи воды эшелон тронулся. Какие станции проезжали, не помню, но часов в 8–9 утра проезжали по маленькому вновь исправленному мосту через реку Донец. Большой полукруглый мост был взорван в нескольких местах. Маленький мост охранялся женским караулом.
Донские казаки бросились к окнам вагона, с тоской смотрели на реку и громко говорили: «Донец! Донец, а дальше и Дон!»
Как только остановка, так и начинается излюбленное советское занятие – обыск. Загонят людей в одну половину вагона без вещей и начинают НКВД трусить, в моем присутствии у трех-четырех человек что-то нащупали, зверски избили и отобрали все, до нитки. После таких обысков я всегда возмущался, как начальство допускает до такого грабежа, а мне, смеясь, отвечал красный партизан-кубанец:
– Ха! Допускают? Да они сами воры, они и заставляют грабить, а после будут делить. Когда прибудешь к месту назначения и останешься в одной рубашке, то и это хорошо…
Через несколько дней пришел старшина и, увидев, что я совершенно обессилил, приказал оставить кого-нибудь за себя и идти в изолятор. Я действительно чувствовал себя очень плохо от недостатка воды и воздуха. В ушах у меня шумело: «Старший, воды!» Мне необходимо было отдохнуть и успокоит нервы.
Я взял шинель и с трудом слез с вагона, не было сил. Ноги подкашивались от полусидячего положения в течение почти месяца. Я уже отвык ходить. Поддерживаемый старшиной, я поплелся к заднему вагону, называемому изолятором. Старшина отпер замок, окликнул фельдшера и сказал:
– Примите старшего вагона.
С помощью фельдшера и старшины я влез в вагон, и старшина запер его. Я представлял себе изолятор в виде санитарного вагона, но увы! – по обе стороны голые нары. Такое же отверстие в стене с жестью, служившее парашей; бак с крышкой на полтора-два ведра воды, окна, затянутые колючей проволокой и фельдшер, не имеющий никаких медицинских средств. Удобство в том, что немного людей, что мне показалось странным, и больше воздуха.
В изоляторе фельдшер был из казачьего корпуса. Больных человек семь-восемь.
– Нет ли у Вас брому? – спросил я фельдшера. Он улыбнулся и ответил:
– Меня посадили сюда как фельдшера, не дав никаких медицинских пособий и средств. Я помогаю больным лишь тем, что у меня сохранилось из казачьего корпуса и что было получено от немцев, а больных поступает очень много. Многие умирают. Приходит начальник охраны и составляет акт – умер в изоляторе, оказана медицинская помощь, но не помогла, и заставляют меня подписать.
Дал мне кружку воды: «Запейте!»
Я с жадностью выпил воду. Осушив еще одну кружку, я лег на спину и закрыл глаза. Свежий воздух меня опьянил. Мне захотелось спать.
Когда наш поезд тронулся, я испытал все удобства «изолятора». Вагон бросало во все стороны. Я боялся, что он соскочит с рельс. Трясло так ужасно, что, пробыв в этом изоляторе на отдыхе десять дней, здоровый человек мог бы сойти с ума или умереть.
На другой день на первой остановке я сказал старшине эшелона:
– Я возвращаюсь в свой вагон. Сутки свежего воздуха меня подкрепили.
Наш поезд стал останавливаться чаще на станциях в ожидании встречного поезда. Нас везли под фирмою: «власовцы», «изменники родины» и «враги народа». Советы боялись при этом упоминать, что казаки, весь Северный Кавказ и весь русский народ – враги, но враги не родины, а коммунизма.
В Союзе оповестили, что только А. А. Власов с незначительной группой людей (три миллиона) оказались «изменниками» и не упоминали о других.
После многих остановок и незначительных приключений, прибыли мы в город Куйбышев на Волге. Наш эшелон остановился за железнодорожной станцией, недалеко от города. В Куйбышеве простояли целый день. Воду получили по десять ведер на вагон, но уже не было той жажды, что прежде, потому что здесь было прохладно, а ночью даже холодно, так что все одели брюки и мундиры.
Питание не улучшалось. Все были полуголодные и желали скорее прибыть на место назначения, ожидая там лучшего.
Итак, утром 10 августа 1945 года мы прибыли на место нашего назначения – город Осинники Кемеровской области (Кузбасс, трест «Молотов уголь»). Этот город основан в кошмарный период советского достижения – раскулачивания. Несчастные русские семьи, попавшие под знаменатель «кулак», были зимой вывезены сюда в осиновый лес. За неимением жилищ и инструментов на постройку таковых, недостатка питания и одежды, большая половина умерла до наступления сибирской весны, оставшиеся в живых воспользовались имуществом умерших и потому уцелели и весной приступили к сооружению для себя жилищ, вырубая для этого лес, а Советский Союз таким путем создал новый город и трубил о своих достижениях.
Н. Безкаравайный, Багдад
По пути из Граца в Сибирь
(замок Фельдбах)
Выдаваемые по окончании Второй мировой войны западными союзниками большевикам военнопленные и захваченные ими на территории Германии и Австрии «осты», как и другие наши соотечественники, вывезенные немцами и бежавшие из занятых немцами краев СССР на Запад, направлялись советским командованием через Грац и Венгрию в Румынию, оттуда в Сибирь.
Из Граца большинство захваченных большевиками людей отправлялись дальше на восток поездами, некоторые перевозились до Румынии на грузовиках, а некоторые совершали часть этого крестного пути пешком.
Возвратившиеся после отбытия срока каторги из СССР на Запад люди в своих воспоминаниях иногда упоминали замок Фельдбах.
В нем в первое время выдач задерживали на разные сроки большинство эшелонов, прибывавших через Юденбург в Грац. Об этом Фельдбахе мы имели лишь отрывочные сведения, а теперь имеем подробное описание как самого Фельдбаха, так и жизни заключенных в нем.
Воспоминания Н. Козореза, выданного в Лиенце и отбывшего 10-летний срок в сибирских лагерях, пополняют данные о крестном пути казачества от Лиенца до сибирских концлагерей.
<…> Чисел и дней я не помню, но ехали мы не особенно долго, кажется одну или две ночи, и утром куда-то приехали. Открылась дверь вагона и та же команда:
– Вылетай пулей!
Наш состав на насыпи, и из вагона, действительно, вылетаем прямо под откос. Хорошо еще, что хоть насыпь не особенно высокая. Все эти команды оснащались руганью и понуканием палки. Вылезли или, вернее, вылетели из вагона и очутились в неглубокой канаве. Не успели осмотреться, новая команда:
– Садись!
Сели. Сидим в канаве, а наверху стоит ВОХР. Посидели немного, не больше полчаса, за это время подошли конвоиры с собакой, и последовала команда:
– Встать! Разберись по пять.
Вылезли из канавы, разобрались по пяти, окружили нас автоматчики, вохряк с собакой стал сзади строя. Старший конвоя прочел «молитву»:
– Внимание! Шаг вправо, шаг влево считается побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения! Направляющий, шагом марш!
Пошли. Очень испорченная шоссейная дорога привела нас в небольшой городишко. Проходим через город. Всюду мусор, грязь, все покрыто слоем пыли и ни одного жителя, кроме военных. Масса машин ЗИС, обшарпанных и тоже грязных. Почти на всех машинах на крыше кабинки прибит портрет с «милой» и «дорогой» русскому сердцу усатой мордой. Портрет украшен венком из цветов, красными лентами и все это покрыто слоем пыли и грязи.
Гражданское население, как сквозь землю провалилось, но зато масса солдат и солдаток, не знаю, как их иначе назвать, в гимнастерках и в защитных юбках. Гимнастерки б/у (бывшие в употреблении), вылинявшие и довольно грязные. На стенах домов всюду надписи мелом: «Разминировано, лейтенант Петров», «Хозяйство Иванова» и так далее.
Прошли через город и вышли на шоссейную дорогу, обсаженную большими, вековыми деревьями. По обеим сторонам дороги натянута на невысоких колышках колючая проволока и прибиты дошечки с надписью чернильным карандашом: «Внимание! Минное поле».
У меня и у многих соседей появилась мысль, что, очевидно, это поле нашей будущей работы, а может просто прогонят строем по этому полю и дело с концом.
Во время моего сидения на Лубянке, да и в других злачных местах, которых больше чем хватало у нас на «Родине», я часто вспоминал это поле и жалел, что меня не прогнали по нему. Человек может перенести то, чего не в состояние перенести ни одно, даже самое сильное животное, но и этому, все же, есть граница.
Утро было на редкость солнечное, теплое, хорошее летнее утро. Ночь мы провели в поезде. Здесь, очевидно, небо сжалилось над нами и пощадило нас от всяких непогод, видя наше действительно плачевное состояние.
Так прошли мы по этому шоссе немного, не больше пяти километров; поворот с дороги влево и стоит уцелевшая табличка «Фельдбах».
Свернули на эту дорогу и подошли к решетчатым железным воротам и сторожке, где сидел караул. Ворота открылись, и мы вошли в Фельдбах.
За воротами старинный четырехугольный замок-крепость с высокой колокольней. Вдоль стены широкий ров, через который переброшен мост, ведущий к воротам замка. Нашу колонну провели вдоль всей стены замка и вывели на большой луг. Луг, замок и прилегающие к нему земли были окружены забором из колючей проволоки с вышками, на которых сидели часовые.
Здесь на лугу, по мере подхода, каждая группа усаживалась на землю, и происходил «шмон», хотя шмонать-то уже было нечего. Здесь я расстался со своими сапогами, которые у меня сохранились во время дороги только потому, что не подходили по размеру нашим конвоирам, которые в вагонах меняли свою обувь на наши сапоги. Тут дело было поставлено на более рациональную ногу.
«Шмонающий», увидев мои сапоги, просто сказал:
– Ну, мужик, снимай сапоги!
Когда я их снял, он вынул из своего мешка какие-то совсем старые немецкие военные ботинки и в придачу к ним обмотки ядовито-голубого цвета, которыми и наградил меня, а мои сапоги попали к нему в мешок.
После шмона нас повели в замок. При входе в него, на правой стороне ворот, мраморная доска с арабской надписью, которую уже позже мне перевели горцы, тоже привезенные сюда. На этой доске было написано, что какой-то мавр Омар, или Магомет в н-ском году (год был написан по магометанскому летоисчислению) взял этот замок, женился на его хозяйке, остался здесь, где и умер в таком-то году и здесь же похоронен.
Замок представлял собою правильный четырехугольник. На втором этаже расположены жилые комнаты, а в нижнем находились разные службы. Вдоль всей стены, с внутренней ее стороны, идет крытый балкон, с которого происходила топка печей в комнатах и с которого только и можно было попасть в комнаты. Таким образом, наружная стена комнат является и крепостной стеной.
В центральной части костел с колокольней и рядом, слева, усыпальница мавра и хозяйки. Посредине довольно большого четырехугольного двора бассейн с фонтаном (уже не работающим) и могила красноармейца с красным колом в головах и звездой, вырезанной из консервной банки. К колу прибита фотография в рамке и написаны чернильным карандашом имя, фамилия и день смерти погибшего.
Когда нас привели во внутренний двор, то приказали всем стать около стенки и раздеться догола. Разделись, и целая ватага солдат войск МГБ начала производить самый строгий обыск. Тут отобрали все бумаги, вплоть до самого маленького клочка, и все отобранное сваливали в большой мешок. Кто-то из нас наивно спросил:
– А как же бумаги, документы, которые вы отбираете? Ведь они там в мешке перемешаются и могут совсем пропасть.
– Ничего! Не пропадут, пойдут за вами, – последовал ответ.
Эти отобранные бумаги еще и теперь идут за нами, а к нам так и не попали. После обыска приказали располагаться в нижнем полуподвальном помещении.
В этом этаже, в свое время были артиллерийские капониры, амбразуры и площадки для пушек, а в более позднее время, очевидно, помещался скот.
Когда мы вошли в отведенное для нас помещение, там были остатки соломы, и, судя по следам, здесь до нас обитали военнопленные. Располагаться не долго. Человеку, не имеющему ничего, совершенно безразлично, где расположиться, – места все на полу и все одинаковые.
Расположившись, то есть посмотрев на наше будущее обиталище, я вышел во двор и пошел бродить по замку. Комнат очень много и почти все в разных стилях. Были комнаты в китайском стиле, мавританском, индийском, японском и так далее. Очевидно и обставлены они были в соответствующем стиле, сейчас же о нем можно судить лишь только по обоям, которые еще каким-то чудом сохранились. Обстановки, понятно, уже не существовало. Остались только старинные портреты в широких золотых рамах, которые валялись по всему балкону около печей, и у дам в старинных туалетах непременно усы, пририсованные чернильным карандашом. Коридор, или балкон, проходивший над воротами, имел окна, видимо, вставленные позже и все стены в этом помещении были увешаны рогами и клыками, очевидно, охотничьими трофеями хозяев и гостей, приезжавших погостить и поохотиться в этих местах.
Последнее время здесь была иезуитская коллегия и, вероятно, была богатейшая библиотека. Теперь все эти книги были почему-то свалены в уборных в кучу. Уборные до потолка были завалены ими. Какие здесь были уникумы! В переплетах из свиной кожи, почти на всех языках. Были даже рукописные, не говоря уже о книгах XVI–XIX веков.
Зашел в костел. Он был уже пуст и осквернен. Ни престола, ни крестов – ничего уже не было. На полу валялись обрывки материи, куски от поломанных крестов и хоругвей.
В левой стороне костела находится дверь, которая ведет в усыпальницу мавра и хозяйки замка. Усыпальница очень высокая, со стрельчатыми окнами. Посредине усыпальницы два саркофага из белого мрамора. Саркофаг мавра весь покрыт арабскими письменами, саркофаг его супруги по внешнему виду – точная копия саркофага мавра, только без всяких надписей.
В головах стоит статуя Богоматери с младенцем на руках. Почему – не знаю, но статуя Богоматери с младенцем была черная, то есть высечена под тип негра, цвет кожи темно-кофейный, с вывернутыми ярко-красными губами. И саркофаг и статуя стояли на небольшом возвышении. Когда к нам прибыли горцы, они мне говорили, что надписи на саркофаге мавра – изречения из корана.
Левее усыпальницы на стене были солнечные часы, очевидно, ровесники замку, по которым мы и ориентировались во времени. Часы позднейшего происхождения, которые были на колокольне, уже не работали. Их почему-то разломали.
Весь замок расположен на ровной, как стол, местности и только вдали имеются горы. Я еще не успел рассмотреть как следует весь замок, как раздалась не команда, а дикий крик:
– Выходи все пулей на работу! Пулей!
Мы были пионерами и, судя по приготовлениям, лагерь готовился на большое число обитателей. Пришло несколько машин с железными бочками из-под масла и керосина. У всех уже было выбито дно, а мы должны были их выжигать и мыть в протекающем здесь ручье. На открытом воздухе из старых кирпичей от разрушенного сарая строили столбики и на них водружали уже обоженные и помытые бочки. Это были самые примитивные очаги. Казалось бы, работа не особенно сложная, но сколько мы времени потеряли зря, пока выровняли все эти бочки строго в одну линию.
Наконец, бочки помыты, установлены на столбики и, самое главное, выровнены в одну линию. Наносили в эти бочки воды из того же ручейка, где их мыли, и была дана команда растопить эти примитивные очаги. Дрова были совершенно сырые и ни за что не хотели гореть. Тогда начальник всей этой кухни, командующая парадом здоровенная бабища в гимнастерке с погонами и двумя лычками на них, дала команду тащить сюда книги для растопки. Принесли книги и разожгли под всеми бочками. В одну заложили продукты и начали готовить обед.
Итак, после долгого и упорного труда, вода в бочках закипела, закипел и наш обед – баланда. Командующая сняла пробу, одобрила и раздалась новая команда:
– Выходи все за обедом!
Вышли, но ни котелков, ни ложек ни у кого не было. Ведь мы же, по клятвенному обещанию майора Дэвиса и других англичан, должны были через два часа вернуться в Лиенц, так что даже шинелей с собой не взяли, не говоря уже о котелках, ложках, мыле и других вещах.
Стали длинной очередью. На табуретке стояла командующая парадом красавица. Кто-то из наших, стоявших в очереди (сдуру мы стали в очередь без оружия, то есть без котелков и ложек), спросил:
– А куда же мы будем брать баланду?
Правда, он сказал кулеш – название «баланда» вошло в обиход позже. Тут моя красавица разразилась такой руганью, что я просто рот раскрыл. Она вспомнила всех святых, всех родных до десятого колена, погоду, землю и небеса, смешала все это вместе и закончила:
– Ты еще скажешь, чтобы я тебя за руку ср… водила!
Да! Боцманы старого русского флота, наверное, в гробу переворачивались от зависти. Это было мое первое знакомство с женщиной-начальником. Но, как она артистически ругалась!
Пришлось выйти из очереди и идти собирать подручный материал, который можно бы было приспособить для получения обеда. Вместо ложек, все обзавелись веточками, палочками и, как китайцы, ели из самых невероятных черепков, в которые получали баланду.
После обеда произошла разбивка по ротам. Мы все (офицеры кадетского корпуса) попали во вторую.
Через день начали прибывать следующие партии казаков. Проходили они как раз мимо кухни, где мы продолжали свои упражнения с бочками. Все они были в лучшем положении, чем мы: у них были с собой хоть вещи.
Так как пополнения прибывали каждый день, то разбивка поротно происходила ежедневно. Мы перебывали в пяти-шести ротах, кроме того, нас все время переводили из одного помещения в другое.
Непонятная для меня вначале путаница и неразбериха – почему бы не оставить уже сформированные роты, а последующие назначать по порядку прибытия, стала мне понятной значительно позже. Только после нескольких лет сидения в лагерях, я понял эту систему: ничего нельзя делать просто и только нужно все запутать так, чтобы никто не мог разобраться. Когда все запутали и усложнили так, что сам черт ногу сломит, только тогда и можно показать работу, рвение, горение, старание и так далее, а если все идет гладко, то тут уже не покажешь ни рвения, ни горения и, самое главное, нет виновного, а при наличии «кабака, как системы организации», виновников до чертовой матери – выбирай любого.
После подвала нашу роту перевели на второй этаж, оттуда на чердак и там мы уже меняли места, кочуя по чердаку до дня отправки по этапу.
К этому времени нас набралось уже несколько тысяч. Был назначен комендант, вахмистр одной из сотен, кажется, Терского полка; у него был образован довольно многочисленный штаб. Все распоряжения шли через комендатуру, которая получала их от чекистского начальства.
Однажды меня вызвали вместе с С. в комендатуру, где мы получили приказание сделать съемку лагеря и прилегающей к нему территории. Выдали нам по листу бумаги, по карандашу и пошли мы в сопровождении вохряка на съемку. Съемку, конечно, пришлось делать без буссоли и угломера. Мы, со своей стороны, использовали возможность побродить и заниматься съемкою дня четыре, если не больше. Потом доработали ее уже в помещении и в результате вышел довольно приличный план.
Мне здорово повезло: во время съемки я нашел старую немецкую помятую ложку без ручки. К ней приспособил кусок ветки, привязав ее шпагатом, который спер из мешка, в котором привезли продукты, во время разгрузки и такой роскошью вызвал общую зависть.
Дней через пять-шесть, после нашего прибытия, на внутренний двор замка пришла шикарная черная машина, трофейный опель, и из нее вышел полковник в форме МГБ.
– Подойдите ближе! – заявило начальство, – давайте поговорим!
Из всех дверей высыпали казаки и плотной массой окружили машину.
– Ну, как проходит жизнь молодая? Наверно у вас есть вопросы – спрашивайте! – милостиво заявило начальство.
Основной и главный вопрос у всех был один:
– Что будет с нами?
– Да! – важно ответило начальство. – Вы сами понимаете, что вы сделали. Ваше преступление страшное, вы пошли против своей родины-матери, но русский народ великодушен, он забыл и простил все ваши преступления. Скоро вас отправят дальше на родину, там проверят вас, и те, за кем не числится никаких особых преступлений, после проверки будут выпущены на свободу и будут работать, как положено честным советским гражданам. Теперь в России многое переменилось.
После этого начальство милостиво угостило близ стоявших папиросами, село в машину и важно укатило. Да, потом мне довольно часто приходилось вспоминать художественный свист этого начальника о переменах в СССР.
В конце второй недели нашего сидения в замке все помещения уже были плотно заполнены, и прибывающие казаки устраивались на валах и рядом с ними. Из подручного материала мастерили подобие палаток и шалашей. Перед шалашом всегда горел маленький костерчик, на котором кипятили в котелке воду, и вся территория вокруг замка походила на ярмарку.
В один прекрасный день нашей роте пришло приказание готовиться к этапу. Передавший распоряжение посыльный сказал, чтобы собирались быстрее и через пять минут мы должны уже быть за воротами замка.
Собирать нечего, если не считать, что накануне этапа на нашу роту было выдано шесть старых одеял и четыре стеганых венгерских шинели, из которых одна, по жребию, досталась мне. Это уже было шикарно: можно было половину шинели подослать под себя, а другой половиной накрыться.
Приказали строиться. Построились, потом приказание отставили – пришел новый этап, который чекисты начали принимать. В этом этапе был мой хороший знакомый Г. Удалось с ним поговорить. Узнав, что я ухожу на этап, он спросил:
– А где же Ваши вещи?
– Все вещи на мне, – ответил я, а в руках куцая венгерская шинель.
– Это все?
– Да, все.
Тогда он сразу же разорвал свое одеяло пополам и одну половину протянул мне. Физической силы он был непомерной и доброты невероятной. Это одеяло, вернее половина одеяла с массой латок, правда, уже позднейшего происхождения, находится и сейчас у меня.
Наконец раздалась команда:
– Становись! Разберись по пять! Разобрались, построились.
– Шагом марш! – и повели нас через ворота замка. Перешли через шоссе и вышли на огромное поле, где, очевидно, в прошлом году была кукуруза. Тут разомкнули нас на пять шагов и начался шмон, который производил принимавший нас конвой. Отбирались все металлические вещи. У одного нашего старого эмигранта был большой металлический крест, который он всегда носил с собой, с тем, чтобы его с ним похоронили.
– А, б…, поп?
– Нет, не поп.
– А почему крест?
– Хочу, чтобы меня с ним похоронили.
– Брешешь, сука! Признавайся! Все равно узнаем и тогда тебе…(целая сеть ругательств) все наизнанку вывернем!
И крест полетел в поле, брошенный опытной рукой «шмональщика», паренька лет 25–26, с двумя нашивками на погоне и комсомольским значком на груди. Все это происходило под одобрительный ропот, смех и остроты остальных конвоиров. Наконец шмон кончился, и раздалась команда:
– Разберись по пять! – Разобрались. – Первая пятерка, проходи! Когда эта пятерка прошла шагов десять, последовала команда:
– Вторая пятерка, проходи!
За ней третья и так далее. Один считающий, очевидно, сдающий стоит, а мы проходим мимо него. Пересчитали. Точно так же пересчитал другой – принимающий. Счет, очевидно, совпал, так как после второго пересчета последовала «молитва»:
– Переходите в ведение конвоя: неисполнение распоряжений конвоя, шаг влево, шаг вправо считается побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения. Понятно?
Хором ответили: «Понятно».
– Направляющий, шагом марш!
Окружили конвоем, собаками и зашагали мы опять мимо заминированных полей на станцию.
По дороге, когда мы прошли уже примерно полпути, навстречу нам появилась большая колонна под конвоем, которую вели в лагерь. Конвоиры наши заволновались, как квочки с цыплятами. Раздалась целая серия команд:
– Приставить ногу! Принять вправо! В канаву! Садись! Не смотри на дорогу! Повернуться всем спиной к дороге!
Когда мы все это проделали, сзади нас провели новую партию. Новая партия прошла мимо нас, но мы продолжали сидеть, и только когда она удалилась от нас шагов на пятьдесят, конвой нас поднял. Те же команды и двинулись мы дальше. Пришли на станцию, где уже стоял конвой из красных вагонов, у которых окна были заплетены колючей проволокой.








