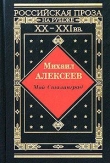Текст книги "Дикий селезень. Сиротская зима (повести)"
Автор книги: Владимир Вещунов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Грамотные сестры решили показать мне горизонт. Они забрались на коровник, припорошенный сеном, и затащили меня. Согра, лес и небо – горизонта нет. На западе он есть, да мешает мельница. На востоке – Зимиха, Казанка – не поймешь. Конечно же, за Елабугой, за Старицей, за лугами – горизонт. Но там дымка размыла линию горизонта и соединила небо с землей. Надо подождать, пока дымка растает.
Рая, как и водится, когда показывают «Москву», прижимает ладошками мои уши, пытается меня приподнять и больно задирает мочки. На помощь приходит Лида. Вдвоем они хотят приподнять меня за уши. Я брыкаюсь, подскакиваю и проваливаюсь сквозь худую крышу… Вместо горизонта у меня вывих ноги. Я могу только ползать. Тетя Лиза, – ветеринар, самыми верными средствами от всех недугов считала йод и клизму. Мне она ничем помочь не могла, и меня повезли в Казанку. Там ногу ощупали, поставили укол, наложили гипс и отправили с богом. Гипс по дороге с больной ноги сполз. Боль возобновилась. Дядя Сема закутал меня в одеяло и понес к Секлитинье, у которой муж коновалил: охолащивал быков, выводил глистов, прокалывал скотине животы для спуска вони, правил коням бабки.
В сетках у знахарей висели венички, пучки лекарственных трав и медные тазики. Секлитинья, что-то бормоча, поставила ухватом в печь чугунок. Костлявый коновал принес пучки болиголова, чертополоха, полыни и бросил их в таз. Секлитинья загремела у печки, подхватила чугунок рогачом.
Трава в тазу зашипела. Костоправ попробовал на палец крепость отвара, взял меня на руки, посадил в таз. Вода была очень горячая, но я терпел. Вспомнил все свои ожоги, и вода показалась мне только теплой.
Секлитинья собрала распаренную траву, наложила ее на вывихнутую ногу; коновал стал ее разминать. Чтобы вода не остужалась, Секлитинья вычерпывала медным ковшиком остывшую воду и подливала горячую.
Еремей-коновал помял суставы, пощупал взъем и резко дернул стопу.
От пятки до виска молнией пронзила меня острая боль. Я ойкнул. А костоправ уже вытирал меня сухим полотенцем. Вытер, закутал в нагретое на печке одеяло, прижал к себе и поднес к иконам…
Сама Секлитинья в основном лечила человеческие души: заговаривала от болезней, знала любовные привороты, отвороты, наговоры; искала краденое. Она даже ходила в Иерусалим выполнить волю матери – поклониться мощам господа Иисуса Христа.
После паломничества у Секлитиньи осталась большая икона. Застекленный ящичек; под стеклом в пещерке, обложенной ватой, восковой Иисусик. Эта чудотворная икона была на самом видном месте. Рядом с иерусалимской висела икона со святыми, которых нет ни в одних святцах. К ней-то и поднес меня молчаливый Еремей-коновал. Смотри, дескать, малыш, что твоя боль в сравнении с нашей, взрослой болью, памятью нашей. Мужайся и будь таким, как эти самые дорогие для селезневцев смертные святые, убиенные войной. Пусть наша, взрослая память будет и твоей памятью.
На иконе речка, бегущая к горизонту буквами «Е-л-а-б-у-г-а». Перед Елабугой озеро с островом. На острове селезень. Зелено-золотая голова, белый воротничок. Глаз большой, влажный, с темным притуманенным зрачком. Из глаза, как живая, – слеза. В воде золотой карась. На берегу озера рядком стоят люди с сиянием вокруг голов. Под каждым надпись: св. Артемий Селезнев – в левой руке трехрядка; св. Геннадий Патрахин; св. Георгий Селезнев; св. Николай Селезнев – с иконой богородицы, сын Секлитиньи и Еремея, и еще десять человек. Все в гимнастерках, в галифе, простоволосые. Суровые лица неотличимы одно от другого. Только волосы разные. У Патрахина рыжие, шпыном, у Николая Селезнева жидкие, на – прямой пробор. Четырнадцать погибших в войну селезневцев.
Еремей-коновал после погибельной смерти Артемия Селезнева, мужа фронтовички Груни, написал групповую икону селезневских убиенных святых. Вернее, это была картина, а не икона, своего рода памятник погибшим.
Сурово нахмурившись, Еремей передал меня дяде Семе, и я единственный раз в жизни увидел своего дядьку плачущим.
Первое сентябряКончилось лето. По нескольку раз в день я перелистывал букварь, арифметику, перебирал перышки, самодельные тетрадки. Хотя все старенькое, осталось от девчонок, но настоящее, школьное. Тетя Лиза сшила на машинке из темной материи сумку на лямке, чтобы носить через плечо. Застегивалась сумка на блестящую солдатскую пуговицу. В общем все чин чинарем. Лида и Рая будут ходить во вторую смену. А первыши в первую.
Я договорился с Федькой Реневым первого сентября идти в школу вместе. К нам захотели присоединиться Васька Герасимов, который жил напротив нашего дома, и председателев сын Вовка Пономарев с сестрой Ниной. Нину мать разодела как картинку. Белый передничек с кружевами, кружевной воротничок, белый пышный бант и настоящий портфель с блестящими уголками и блестящим замком с ключиками. Хотя я видел Нину при всем параде и прежде, но сегодня я оробел. Неловко как-то идти рядом с такой кралей.
Сам я тоже выглядел ничего. Черная толстовка, белый воротничок, короткие шаровары и скрипучие ботинки. До того скрипучие, что я стеснялся их дорогого скрипа.
Откуда-то с задов прибежала тетя Лиза. В своем засаленном мужском пиджачишке, в юбке, пятнистой от йода, в пыльных сапогах она выглядела совсем не празднично.
Тетя Лиза взглянула на меня, восхищенно ахнула и заругалась на дочерей:
– Ой да девки, подьте к чомору. Крутитесь перед зеркалом, а мальчишке шнурки не завязали.
– Да он непонимонный какой-то. Мы его учили на один и на два бантика завязывать, а он не умеет.
– Дылды стоеросовые, он же ошалел. Полгода школу ждет. Давай, Анатолий, завяжем шнурки, и отправляться пора.
Тетя Лиза завязала шнурки простым бантиком, еще раз оглядела меня и повела в школу, как маленького.
Вышел Васька Герасимов, заядлый книгочей, читающий все подряд, что попадет на глаза. Сначала его звали Герась, совсем недолго Гарась, а потом насовсем присвоили ему Карася, хотя на карася он и не походил.
Васька и сейчас уткнулся в какую-то книжонку. Чисто лунатик. В длинной холщовой рубахе, подпоясанной солдатским ремнем с надраенной бляхой, в ушитых под его рост галифе.
– Карась, ты пошто босой-то? – окликнул я приятеля.
Васька глянул на ноги:
– Я щас.
Федьку Ренева вышел провожать до калитки дед Сидор. По такому важному случаю он ненадолго оставил свои любимые подсолнухи, единственные в Селезневе с нетронутыми головами. Никто из пацанов не захотел воровать Сидоровы сковородники, низко склоненные в тяжком тугодумье.
Федьку вырядили по-военному. Гимнастерка с ремнем, брюки с широкими красными лампасами – есаульские, с первой мировой – уступил внучку Сидор. Сумка у Федьки была настоящая, полевая, из кирзы, с четырьмя чехольчиками для карандашей и ручек, похожими на патронташ.
– Лисавета, чейный мальчок? – показал дед длинной, острой бородой на меня.
– Нянькин, дедок, Полинкин.
– Твой, а я думал Полинкин, – не понял глуховатый дед. – Чой-то на утенка похож, нешто селезню клизму ставила, а он тя, селезень-то, уважил за то.
– Будь ты прова совсем, глухой пестерь. Бесстыдник, хоть бы при мальцах таку срамоту не молол.
– Не гоношись, Лиска, мой Федьра твово Утенка в учебе перекрякает. Ты ж видала, как он камаринску откалывает. А что! Токма ради его камаринской и вертался оттудова, – показал дед бородой на небо. – Ну ступай, внучок, дружкуйся с Селезнем. – И дед поплелся в свои подсолнухи.
Над красной крышей школы ручьисто тек в васильковом небе алый флаг. Первыши, которые уже складывали слова, нараспев читали: «Дэ-об-ро по-жа-ло-вэ-ать».
Нина Пономарева вышла на крыльцо и позвонила солнечным колокольчиком. Тетя Лиза подошла к нашему учителю Константину Сергеевичу, что-то шепнула ему, кивнув в мою сторону, и, поцеловав сконфуженного меня в щеку, побежала к овчарне.
Учитель повел нас в класс. В школе пахло краской. Певуче скрипели половицы в коридоре. Хотя все мы не раз бывали здесь, теперь смотрели на все по-новому, по-ученическому. На первой двери слева было написано «Учительская», на второй – цифры «1» и «3».
Учитель открыл вторую дверь и пригласил нас. Впереди как цветок плыла Нина Пономарева.
Шумно захлопали парты: новичков приветствовал третий класс. В комнате парты выстроились в два ряда. Маленькие – для нас. За большими партами, приподняв крышки, стояли третьеклассники. Учителей не хватало – Константин Сергеевич вел уроки сразу в двух классах.
Константин Сергеевич Аржиловский закончил войну позже других, на Курильской гряде. Высокий, сухопарый, он был затянут в мичманский китель и ходил в раздутых, как шары, темно-синих галифе, поскрипывая хромовыми сапогами с длинными голенищами, начищенными до блеска.
Учитель дождался мертвой тишины и выразительно посмотрел на Паньку Тимкова.
К великому удивлению первышей, этот окаянный Роза, язва и первый озорник на деревне, вдруг торжественно встал и чистым, чуть дрожащим от волнения голосом вывел:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
Константин Сергеевич натянул ремни трофейного аккордеона, сурово вскинул голову и распахнул мехи.
Мурашки пробежали по нашим спинам, когда посерьезневшие третьеклассники все как один подхватили «Священную войну».
Я знал слова песни и пел вместе со всеми, поименно вспоминая селезневских святых, написанных Еремеем-коновалом: Артемий Селезнев, Геннадий Патрахин, Георгий Селезнев…
ЦиркЭлектричество в Селезневе еще не провели. В избах сумерничали три керосинках. В клубе гнали кино с помощью движка от трактора «натика».
Клуб – обыкновенная добротная изба без горницы. Печь да заерзанные до блеска длинные лавки.
Тихо в деревне. Промычит в стойле корова, фыркнет лошадь, залает собака. У клуба татакает движок. Сегодня «Семеро смелых». Мелюзга, задрав головы, ползает у экрана. Взрослые лузгают семечки и снисходительно смеются, когда седьмой вылезает из трюма. В который раз замелькали темные звезды, буквы, полосы – опять обрыв или лента кончилась.
– Еропкин – сапожник! Фоткаля на стельку! – слышится озорной свист.
Пока киномеханик перематывает ленту, мужики и дети выходят на улицу. Свежо. В темноте мигают огоньки цигарок. Небо вызвездило. Живые звезды вздрагивают в запорошенном туманностями небе. Мужики степенно обсуждают колхозный трудодень. Нынче он повесомее, чем в прошлом году, можно и кино посмотреть. Пацанва носится и верещит. Цыть, оглашенные, еще не набегались за день! Застрекотал аппарат. Картина продолжается.
Мужики не торопясь заканчивают с куревом. Ребятишки уже задрали головы, смотрят. Не очень интересно. Начинают тихо барахтаться, вскрикивать.
Снова замелькали звезды, буквы, полосы. Перекур. За картину таких перекуров десять-двенадцать. К ним уже привыкли. Самые сопливые в сторонке освобождаются по-малому. Мужики расчетливо смолят. Женщины без них судачат посмелее. Девчонки вроде бы сами по себе, а прислушиваются к бабьим сплетням.
К нам приехал цирк! Тетя Лиза дала нам с сестрами деньги, и мы засветло отправились в клуб. Первый снег запозднился, выпал только сегодня, в конце октября. Катается по большаку волкодав Узнай, собирает на себя снег и отряхивает его на нас.
Сегодня в клуб идет много народа. Разговаривают громче, чем обычно, и смеются чаще.
От снега стало просторней.
У клуба по-прежнему стучит движок. Циркачам понадобился свет. Сегодня ребятишки пристроились со взрослыми на лавках: перед экраном будут выступать. Занавеса в клубе нет. Артисты привезли с собой свекольного цвета плюш и закрылись им от зрителей. Селезневцы уже раз пять начинали хлопать. После хлопанья всем казалось, что плюш шевелится пуще, и снова раздавались хлопки, гуще и дольше.
С боков из черных застекленных ящиков на сцену хлынул свет. Плюш разошелся. Вышел мужчина в черном фраке, с бабочкой, похожий на стрижа, и объявил представление.
Первым номером были акробаты-прыгуны. Сколько их прыгало на сцене и крутилось колесами – не сосчитать. За братьями-акробатами выступила голубятница. На блестящем колесе вертелись белые мохноногие голуби. Покрутились голуби, и на их место уселся хохлатый попугай. Пышная дрессировщица задала ему вопрос:
– Скажи, Коко, как тебя звать?
– 3-з-др-р-;р-рас-с-с-сте, – отвечал трескучим голосом попугай.
– Ай, правильно, сначала надо поздороваться. Молодец, Коко, молодец. Поздоровался, а сейчас представься, пожалуйста.
– Ко-ко-ко-ре-ку-у-у-у, – растопорщил попка хохол и выпучил глаза. – Ко-ко-ко-ре-ку-у-у-у, – повторил он.
– Коко – правильно, а реку-то зачем? Реку не надо.
– Надо, надо, надо, – замотал головой попугай.
– Ты что, петух, да?
– А ты, а ты… – собрался что-то сказануть циркач, но дрессировщица погрозила пальцем и приготовилась накинуть на строптивца платок.
– Дуся, – выпалил Коко и сжался. Его хозяйка печаталась на афишах как Дульсинея. – По-ка, по-ка, – закончил выступление попугай.
Молодежь долго хлопала говорящему попугаю, хотя он и отвечал невпопад. От этого еще веселей получалось.
А вот старые селезневцы недовольно ворчали, особенно дед Сидор. Он помнил еще те времена, когда в травновском лесу тоже водились попугаи. Что это была за птица, никто толком не знал. Говорит – стало быть, попугай.
Скрипит, бывало, на жестоком морозе воз с дровами. Морда и пах лошадиный курчавятся в инее. Изо рта струи пара. Возница сбоку пританцовывает в тулупе, и вдруг оторопь берет и человека, и лошадь – совсем рядом слышны человеческие голоса.
– Ох мороз ноне не тот, что давеча, – говорит первый голос.
– Не говори, кум, вишь, лошадь вся в куржаке.
Хоть все знали, что это птица попугай разговаривает, но многие боялись в одиночку отправляться в травновский лес. Сказывают, остался перед первой мировой один-разъединственный попугай и тоскливо ему стало донельзя. Вот он и балакал сам с собой разными голосами. А цирковой попка – ни бе ни ме.
Дрессировщица не успокоилась: она решила исправиться и вышла с белой собачкой, такой лохматой, что из-за лохм не было видно ее глаз.
Собачка села на задние лапы и принялась лаем считать, сколько будет один плюс три, два умножить на два, от семи отнять четыре. Лаяла она правильно. Потом стала складывать карточки с цифрами. С карточками у нее вышло тоже без ошибок. Смышленая собачка.
Женщина достала из рукава свирелечку и загнусавила на ней. Собачка не выдержала, тявкнула и заподвывала свирелечке, затем вовсе расстроилась и заскулила. Дрессировщица довольно подмигнула публике.
– Будь ты прова совсем! Расквилила собачонку. Фуфыра непутящая, – прошипела позади меня Авдотья, которая сама пасла телят с помощью дудочки.
Авдотья еще что-то шипела, а на сцене уже дул в свирельку клоун. Нос картошкой, лицо размалевано, штанины короткие и разные, штиблеты большущие с задранными носками. Конферансье забрал у клоуна свирельку. Тот воровато огляделся, достал самописку, отвернул колпачок и засвистел в него, как свистит паровоз «кукушка». Колпачок у него забрали, клоун дунул в самописку и обрызгал лицо чернилами. Тогда он достал воздушный красный шар, надул его и стал выпускать воздух, нажимая на пипку. Шар замяукал, закудахтал, заплакал младенцем. Конферансье проткнул шар. Раздался хлопок – клоун брякнулся на пол и засучил ногами. Вроде с ним припадок. А сам незаметно вытащил у конферансье расческу и защелкал на ней соловьем. Тогда «стриж» не выдержал и звезданул воришку тростью по голове. Ба-бах! Из глаз клоуна заструились слезы и потекли, размазывая чернила. Он сбегал за плюш, вернулся со звонким тазиком, в который стал выжимать слезы в такт песни:
До свиданья, мама,
Не горюй, не грусти —
По-о-же-ла-а-ай
Нам доброго пути.
Цирковой свет погас, и в темноте запорхала светящаяся девушка-бабочка. То оранжевая, то зеленая, то синяя, она трепетала, часто махая шелковыми крыльями. Вот она вылетела из крыльев, похожих на крылья крапивницы, как у нее появились сине-зеленые – голубянки. Девушка-бабочка закуталась в лимонный шелк, взмахнула руками и полетела в темноте, мельтеша желтыми крыльями в изумрудных прожилках с голубыми глазками. Как красива девушка-бабочка!
И все-таки мне было стыдно за селезневцев, что они относятся к циркачам как-то неблагодарно, в ладоши хлопают не так сильно и долго, как того заслуживают артисты, громко разговаривают.
Люди в такую даль тряслись, а дедку Сидору пали на ум вещие попугай-птицы из травновского леса; Авдотья-пастушиха нашипела на дрессировщицу, а Розин отец, колхозный шофер, во всеуслышанье хвастался, как он вез цирк из Казанки.
Можно было подумать, что подобные представления происходят в Селезневе нередко. Конечно, свои чудеса случаются – какая деревня без них обойдется. Но живых циркачей из самого Свердловска вряд ли кому из селезневцев довелось видеть. Разве бывалому кому: фронтовикам да летунам.
Герои книг, школьные учителя представлялись мне людьми необыкновенными. А стало быть, не такими, как все. Они поди и не сругнутся как следует, ни в баню, ни в уборную не ходят. А тут живые настоящие циркачи и приехали на какой-то разбитой «полундре». Вначале я не поверил в шоферскую похвальбу, но Розин папаша уже в десятый раз со всеми подробностями начал свой рассказ с того, как он подсаживал деваху, которая вон на сцене представляется бабочкой.
Я легко поддаюсь внушению, и в конце концов фантастический цирковой фейерверк превратился для меня в обыкновенное представление вроде еропкинского кино.
К тому времени появился на сцене иллюзионист со своими ассистентами-лилипутами.
Начал он пилить полуголую тетку. Тетку не было жалко, я жалел маленьких взрослых человечков с пухлыми детскими личиками. Их-то зачем возит с собой бритоголовый колдун? Чтобы глазели все на чужое горе? Зря это он. Без них куда бы лучше было. Даже Ганя не выдержал – ушел. За ним и я пробрался в темноте к выходу…
КонцертВ воскресенье Еропкин привез картину о Зое Космодемьянской. На улице уже стояла настоящая зима, с морозами и сугробами. Пацаны опять ползали у экрана. Из щелей между половицами тянуло холодом, и трехлетний Ванюшка Герасимов, братишка Карася, елозил по полу, никак не мог угомониться.
На экране – Зоя. Ночью в квартире она озорно скачет на одной ноге, да еще напевает. Смелая девчонка. А ты, Утя, всего на свете боишься. Темноты тоже. Какой же ты парень? Самая настоящая тряпка.
– Зоя! Оглянись! Сзади фриц! – закричали пацаны.
Но не слышит Зоя из кинофильма селезневских ребят. Хочет поджечь фашистскую конюшню, а сзади крадется укутанный, как чучело, немецкий часовой. Наваливается на Зою и зовет бабьим голосом на помощь.
Такие пытки выдерживает девушка, но не выдает партизан. Перед казнью хозяйка украдкой сует ей носки: все теплее.
Слезы застят мне глаза и льются, льются по лицу. Хоть бы никто не увидел, что я распустил нюни.
Кричит Таня-Зоя с помоста, что всех не перевешать, что скоро придут наши и отомстят.
Я весь в слезах плетусь домой, забираюсь на полати и засыпаю тяжелым слезным сном…
Юноша прямо стоит на допросе.
Молча стоит, и ни слова в ответ, —
крепко сцепив руки за спиной, начинаю я новогодний концерт и, выдержав паузу, продолжаю стихотворный рассказ о том, как фашисты пытали юношу и решили его, живого, облить ледяной водой:
Немцы бойца с комсомольским билетом
Гонят босого на лю-лю-ты-ты-ы-ы-ы… —
всхлипываю я и до крови прикусываю нижнюю губу.
– Лютый мороз, – подсказывает Константин Сергеевич. – Лютый мороз. Толя, что с тобой? Забыл? Лютый мороз.
– Зо-зо-я… – плачу я.
Родители и артисты притихли. Я вытер рукавом лицо, выпрямился и сурово закончил:
Он не корой ледяною покрытый,
Вылит из бронзы и солнцем облитый,
Вечно он будет стоять над землей! —
взмахнул рукою и отошел к учителю.
«Комсомольский билет» открывал новогодний концерт, поставленный школьными артистами. Где-то за спинами старшеклассников шипел язва Роза, что у меня с похвал вскружилась голова. Многим переросткам, сидевшим по два-три года в одном классе, было завидно и смешно. Завидно, что такой шмакодявка выучил наизусть чуть ли не целую поэму. Смешно, что Утя приплел к стишку Зою и заплакал, – ненормальный какой-то.
После концерта Дед Мороз, председатель Пономарев, дарил всем школьникам подарки – серые кулечки с круглыми конфетами, соевыми подушечками и пряниками.
Подарки были бесплатные, их давали всем.
Иконов ярПеред старым Новым годом я надел охотничьи лыжи, короткие и широкие, с едва загнутыми носками, и побрел пушистым снегом по Елабуге к Иконову яру, где был убит дядя Гриша и где якобы в старые времена случались всякие чудеса: добрым людям являлась икона богородицы, и они могли превращаться в кого угодно. Вышел я в полдень, как только сделал уроки. Но полдень казался сумерками, и единственным ориентиром была Елабуга со снежными фигурками зверей, людей и чудищ по берегам.
Верного моего друга Узная уже не было в живых, и пока я не вышел к заснеженной речке, все вспоминал, как погиб мой Узнай.
В избу на ночь его не пускали. Рядом с хлевом ему сколотили будку, утепленную мхом, – пусть сторожит скотину, на то и волкодав.
В последнюю ночь школьных каникул проснулись все от собачьего визга. Дядя Сема схватил берданку и в одних кальсонах выбежал во двор. Блеяли овечки, кудахтали куры, квохтал петух. Рядом в стойле сипела, срываясь на визг, нетель Майка.
Дядя Сема выстрелил в воздух – две тени метнулись от хлева в огород. На снегу в квадрате света от зажженного окна в черной крови сцепился с матерой волчицей Узнай. Серая, с подпалинами великанша елозила на спине, пытаясь освободить свое горло от мертвой волкодавьей хватки. Ее дряблый, с желтизной живот пестрел от пятен крови. Туловище израненного Узная уже предсмертно дергалось и все больше вытягивалось.
Дядя Сема ткнул дулом волчице в живот и выстрелил. Она дернулась, заскулила и затихла.
– Если бы лето, Узнай вылечился бы чертополохом, а так полизал снег и помер, – соврал мне дядя Сема. И я представил, как ползет раненый Узнай в бурьян и жует только ему понятную траву и отлеживается в густом лечащем запахе. Всего лишь самую малость не хватило, всего лишь только лета, и был бы жив Узнай. Был бы жив – это почти что жив. И я не плакал, а гордился его геройской смертью и показывал всем пацанам место схватки, волчью шкуру на печке и за огородами могилку самого сильного пса на свете, волкодава Узная.
Без него одному идти к Иконову яру все-таки боязно, а вдруг и правда там чудеса водятся. Хотя дядя Сема говорит, что все это брехня, бабушкины сказки. Он и Секлитиньины бредни о конском волосе разоблачил. Женщины и верили, и не верили – не поймешь.
Я был поперешным пацаном и старался все проверить сам. Могут ли люди превращаться? Есть, говорят, оборотни. Ведь бабочка сначала гусеница, а потом уж бабочка. И отчего хочется иногда мчаться конем, как мчится в луговой овсянице Серко? Или видишь, как возвращается тяжелая ласковая Марта с пастьбы, и хочется также возвращаться коровой в стойло. А может, раньше, в сказочное время, люди могли оборачиваться по-всякому. А вдруг я увижу икону, и она мне поможет превратиться в селезня, в коня, в корову, в рыбу…
Вот и Иконов яр. За ним километрах в двух – большак. Темный буран. В такой снег волки выходят к хлевам. Сюда они могут прийти со Старицы. Надо лесенкой подниматься наверх. От мысли о волках я взмок и ослаб. Задрожали руки, подкосились ноги. Я и думать забыл об иконе.
Ветер закручивает снег. Замять. Теперь замело и большак, и все на свете. Хорошо, снег легкий, а под ним слежавшийся федосеевский оттепельный наст. Пора спускаться вниз и возвращаться, пока хоть что-то да видно.
Я присел на лыжах и медленно покатился в глубоком снегу к Елабуге. Старый мой след уже занесло. Но ничего, Елабуга выведет к селезневской проруби, закрытой от заносов ледяным куполом, похожим на дзот.
В городе я частенько в сумерки уходил на лыжах через тагильский пруд в лес, чтобы вырезать из каракулей-берез клюшки. Я бы мог и днем ходить, когда лед на пруду сверкает, слепит глаза и радует душу. Но днем неинтересно: народу много. А в сумерках душа замирает от страха. Но вот хрустнула ветка, захлопали лыжи позднего лыжника: кругом люди – чего бояться? Долго топчусь я среди низких, корявых от равнинного ветра березок, всматриваюсь в узловатые, в лоскутках бересты ветки. Вот вроде бы подходящая: и изгиб большой, и рукоятка длинная. Нож плохо слушается закоченелых пальцев, да и ветка окостенела, не поддается. Я берусь руками у изгиба, повисаю на ветке и надламываю ее. Теперь закрутить волокна, расслоить их, а уж тогда по одному – ножом. Одна клюшка есть. Можно, конечно, согнуть клюшки из проволоки. Но разве ими сыграешь толком? Гнучие они и мяч – консервную банку или конское яблоко – не держат.
Козе столяр отец делает почти что настоящие, на клею. Но они быстро рассыхаются: два дня – и распалась клюшка.
Голь на выдумку хитра. Если обкорнать березовые загогулины, подогнать под свою руку – то держись. Верткая у меня клюшка. Обвожу одного, другого… Гол!
В деревне пацаны в клюшки не играют. Зимой – салазки, катушки на елабужской щеке, снежные городки. Многие собак в санки запрягают и носятся по укатанному большаку, подскакивают на конских лепехах, юзят в придорожные сугробы. Шоферню такие ездоки выводят из себя.
Федька Ренев, которого все звали Комаром за его любовь к камаринской, тот любил цепляться за машины. Уши у шапки торчком, тесемки развеваются, а сам еще орет и пританцовывает. Отец его заказал казанскому пимокату специальные пимы с утолщенной подошвой: думает, что Федька исплясывает валенки. Все Реневы на плясках помешались. Даже дед Сидор, летом, бывало, выходил из подсолнухов, пританцовывая.
У меня с сестрами есть настоящие нержавеющие коньки-снегурки, на которых мы по очереди катаемся по елабужскому льду около проруби.
Снегурки похожи на полозья от салазок, тоже с завитыми носками. Прикручиваются туго-натуго к валенкам сыромятными ремешками с палочками. Крепко прикрутишь – кататься одно удовольствие. Слабо – будешь как корова на льду. Синяков не сосчитать. У Пономаревых есть «англичанки» с острыми носками. В МТС их приклепают к ботинкам, тогда Нина нагонит форсу, крутанет волчок. На снегурках в моих валенках она и то здорово крутит. У Карася и Комара коньки деревянные, но эмтээсовские слесаря обещали им сделать железные наподобие «англичанок». Тогда можно будет попробовать в клюшки сыграть…
Каток возле проруби замело, на ледяном куполе снежная шапка. По выдолбленной Ганей лесенке не взобраться: лед – снег, лед – снег… Все же я пробую вскарабкаться с лыжами в руках, но съезжаю. Я встаю на лыжи и еду дальше, к молоканке, где берег пологий и можно елочкой подняться к большаку.
Ветер набрасывается на меня, влетает под пальто, в валенки, швыряет в лицо большие колючие снежинки. Ну и холод наверху. А сил уж нет скользить тяжелыми охотничьими лыжами по глубокому снегу. На бугристых залысинах большака лыжи вовсе разъезжаются, и приходится делать шпагаты, как при построении физпирамиды.
– Да отвяжись ты, – прошу я ветер. Тот еще пуще начинает кружиться и посыпает меня снежной пылью. Лицо мокрое – ничего не видать. Но вот слышно, как Марта учуяла меня и ласково замычала: «Ничего, мальчик, ползимы прожили. Как-нибудь дотянем до тепла. Будешь встречать нас с Майкой на велосипеде. Му-у-у. Му-у-у. Ско-о-ро. Ско-о-о-ро».