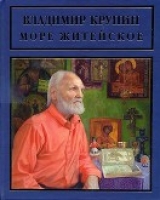
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
– Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку...
– Но разве есть такая буква?
– Есть!
Долго я рисовал Катину букву, но все не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет.
ЗЕРКАЛО
Подсела цыганка.
– Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.
Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.
– Дай погадаю.
– Дальнюю дорогу?
– Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.
– Нет денег.
– А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом, тебя заколдовала.
– И казенных нет.
– Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.
– Нет бумажных.
– Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.
Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.
– Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?
– Врага.
Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая черная вода, какая линия? При чем тут зеркало?..
НАШ, НЕ НАШ?
Даже и сейчас, когда членство в Союзе писателей ничего не дает и ничего не значит, в Союз тем не менее очень стремятся. Что говорить про шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, когда был и могучий Литфонд, и поликлиника, и Дома творчества, и пошивочная даже мастерская. Да и просто было очень престижно и почетно быть членом творческого союза. Член Союза писателей. Это звучало.
Кандидат в члены Союза проходил испытательный срок. Вот он принес книгу свою или две, собрал публикации по газетам, журналам и сборникам. Принес и ждет очереди, иногда полгода-год, обсуждения своих трудов. Еще и не сразу в приемной комиссии, а на секции прозы, поэзии, критики, драматургии. Там рубка идет страшная. Члены бюро секций – люди важные. Все разберут, все рассмотрят. Кто рекомендовал (нужны были три рекомендации от членов Союза со стажем не менее пяти, кажется, лет), кто будет читать? Уже и в секции работы соискателей читали с пристрастием. Потом шло обсуждение, потом секция голосовала (голосование было тайным) за то, чтоб принять или не принять. Принять? Значит, документы шли в приемную комиссию и опять ждали очереди. Тоже долго. Перескочить очередь было практически невозможно, за этим следили. Я сам все это прошел, эти два с лишним года ожидания.
И вот уже сам – член приемной комиссии. Нас человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, ибо понимаем: решаются судьбы. Сразу сообщу, что очень редко они решались объективно. Всегда работает главный принцип: наш – не наш. Талантливый – не талантливый – дело десятое. Примерно половина членов комиссии – евреи, половина – мы. Ни они без наших голосов, не мы без их не можем провести своего кандидата в Союз. Так что приходилось и им и нам уступать друг другу. На каждом заседании (раз в месяц) рассматривается дел пятнадцать-двадцать. Конечно, это много. Но куда денешься – очередь огромна.
Каждое дело докладывали те, кто читали представленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка понравилась, никто не возражает против приема. Но очень мала. Может, у автора пороху хватило только на одну. Решаем: подождать до следующей. Решение не обидное, хотя в те времена ждать следующей приходилось годами. Сошлюсь на себя: у меня первая книга вышла в тридцать три года, а следующая только через три года. Но тут ведь и закалка характера происходила, что тоже важно.
А иногда случалось обезкураживающее одних и радующее других решение: все хвалят принимаемого в Союз, а вскрывают урну – он не проходит. Нужно набрать более половины голосов. Более. А если половина проголосовала против, то вывод ясен. Много лет мурыжили композитора Никиту Богословского. Мол, зачем ему еще и Союз писателей, и так хорош, и знаменит, все время на экране. И член уже и Союза композиторов и Союза кинематографистов. Но наш, писательский, котировался выше, от того так и рвался в него композитор.
Бывали случаи, когда комиссия соглашалась принять решение открытым голосованием. Например, так приняли в конце концов и Богословского. За тексты для своих песен. Уже и неловко было перед ним. Что делать? Голосовать открыто. Голоснули. Мол, уж ладно, будь.
И еще одно открытое голосование помню. Поэт Саша Красный. Этому Саше было сто три года. Я не оговорился, сто три. И вот, собрался в Союз писателей. Секция поэзии за него просила, Ленина видел. Красный, конечно, псевдоним, он из плеяды Голодных, Безпощадных, Горьких, Веселых. Была представлена и оглашена некоторыми частями его поэма «Почему и на основании каком Дуню Челнокову не избрали в фабком?» Лучше было бы не оглашать. После молчания решили: а вдруг умрет, если не примем. И на основании каком не принять – Ленина видел. Голосовали открыто и даже весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в поэзии.
Одному открытому голосованию я был виновником. После очередного заседания комиссии ее председатель дал мне для прочтения три тонюсенькие книжечки из серии «Приложение к журналам “Советский воин” и “Советский пограничник”». Как-то виновато просил доложить о них в следующий раз. Я прочел. Это было нечто. Автор – женщина. Она живет в сильно охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень одиноко, она тоскует по общению с народом и находит его в разговорах с дежурной в подъезде. Слово «консьержка» еще не вошло в обиход. И дежурной, и нам, читателям, авторша жаловалась на жизнь: как ей трудно блюсти порядок в многокомнатной квартире. Муж ее все время в командировках.
До заседания я подошел к председателю и сказал, что это ни в какие ворота. Он как-то подвигал плечами.
– Но ты все-таки рекомендуй, – попросил он.
– Но если бы у нас была секция очерка хотя бы, тогда бы еще куда ни шло.
Председатель оживился:
– А ты предложи ее создать.
Я так и стал докладывать. После первых моих слов, что представленные «Приложения» никуда не годятся, от меня стали отсаживаться члены комиссии. После вторых, что и речи быть не может о принятии автора по разделу прозы, я остался один по эту сторону стола.
Меня это удивило, но я закончил:
– Может быть, когда в Союзе будет секция очерка, давайте вновь вернемся к рассмотрению. И пусть кто-то другой прочтет. Отзыв прилагаю. По-моему... безпросветно.
Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый мочевой пузырь, что все об этом знают, выскочил из комнаты.
– Предлагаю открытое голосование! – воскликнул дружно поддержанный председатель.
Изумительно было то, что все были за. При одном воздержавшемся, то есть это я воздержался. После заседания, когда я пытался узнать причины столь дружного единодушия, от меня шарахались. И только потом один из наших наедине со мной разъяснил, что авторша эта не кто иная, как жена первого зама председателя Комитета госбезопасности. Который, добавлю, вскоре застрелился в самолете, возвращаясь из Афганистана. Но не из-за того же, что жена стала писателем.
В моей жизни, по мнению председателя комиссии, наступали невеселые времена. Но все обошлось.
Хотя эти три случая не были типическими. Обычно как-то договаривались. Например, евреи пробивают в Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантливый Александр. И им хочется нашего Александра зарезать. Но мы им говорим: зарежете Сашку, Илюшу утопим. И благополучно проходили и Саша и Илюша. Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы – престарелыми, евреи – переводчиками. Секция переводчиков практически была вся еврейская, но предложение выделить их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей было бурно отклонено.
Итак, довольные с пользой для литературы проведенным временем, мы интернационально выходили из помещения парткома. Именно в нем проходили заседания. Но сразу уйти домой было практически невозможно, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегодня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватали и тянули за обильно накрытые столы и столики.
Сидели мы с евреями за разными столиками, но пили и ели одно и то же.
КРЫША ТЕЧЕТ
Старинный двухэтажный дом старинного села на старинном тракте. Еще мощные стены, потолочные перекрытия, помнящие столыпинские времена. Вот крыша плоха, крыша течет. Я живу на первом этаже – мне меньше достается осадков, а на верхних льется с избытком. Но они, я заметил, не очень-то горюют. Живут весело. Там их, на втором этаже, три женщины. Про одну, с двумя ребятишками, сказать ничего плохого не могу, а две другие круглосуточно в вихре удовольствий. Одна вроде разведена, другая вроде с Кавказа, Гуля и Виктория, вот они, вернее, их клиенты, доставляют мне много неприятностей. Главная неприятность – шум и ругань. Нашествие пьяной мужской части человечества усиливается к ночи, нарастает к полуночи, стихает к утру, утихает до полудня, возобновляется с обеда. Столько мужичков в иную пивную не ходят. Под окном забор. Некоторые посетители второго этажа бодаются с ним. Бодаются с переменным успехом. То забор валит мужичка, то мужичок – забор. По пьянке один парень ввалился ко мне. Покрутил головой, осознал, что попал не туда, но фасон держал.
– Вы старовер? – сурово спросил он.
– Нет, православный.
– Дайте пять рублей. Лучше десять.
Я отдал, но не понял, за что плачу: за то, что я не старовер? Или за то, что православный? Другой орел, может, уже по наводке первого пришел, постарался сесть прямо и сообщил, что много кой-чего знает. «Про Афган, имею в виду. Учти – это совсекретная информация». Ничего из совсекретности я не узнал, но узнал, что он желает продолжения праздника.
Вскоре со мной перестали церемониться. Врывались и хрипели:
– Не дай помереть! (То есть выдай сумму.)
Умение состричь с меня нужную сумму бывало иногда изысканным. Не всегда же по нахалке просили. Вот взять Аркашу: все умеет – плотничать, плясать, но главное – выпить. Моих лет, но рядом поставить – я выгляжу стариком, а его до сих пор жена ревнует. Не знаю, может, напрасно, может, нет, я о том, как Аркаша утонченно извлекает из моего кармана средства.
Вот я приехал, еще и бумаги не разложил, Аркаша сидит. Ничего не просит, только очень-очень сокрушается:
– Ек-макарек, что б тебе было вчера приехать, а? Аль погода задержала, аль другую любишь ты? Вчера не мог никак приехать, а?
– Значит, не мог. – И спрашиваю неосторожно: – А что вчера?
– Вчера, только вчера, – восклицает Аркаша, – я отдал ведро черники за бутылку! Ведро! Хоть бы кто подсказал литра бы два тебе оставить. Я ж дурак – и башка трещит, и черники нет. Оно бы, Николаич, твое было, оно же для тебя предназначалось, это ж черника! Я Нине говорю: Нин, вот бы Николаичу это ведро, съел бы – сразу бы без очков газету читал. Это ж черника! Да-а!
Аркаша так убивается, что я понимаю, что должен как-то уменьшить его страдания. Получается, что я должен Аркаше бутылку. Одну, всего одну за целое ведро. Аркаша приходит через несколько дней и спрашивает, когда я уезжаю.
– Завтра? Точно? Обязательно надо? Конечно, дела. А остаться никак не можешь?
– Нет.
– Жаль! – почти радостно восклицает Аркаша. – Ведь у меня послезавтра будет ведро черники, тебе б за бутылку отдал. Это ж черника -царская ягода. Ведро за бутылку где купишь? Разве в Москве купишь ведро за бутылку?
– Смотря какая бутылка, смотря какое ведро.
Аркаша смеется, шутка моя кажется ему очень остроумной. Ему смешно, а я опять ему должен бутылку. В самом деле, почему я уезжаю завтра, ведь послезавтра у Аркаши именно для меня будет целое ведро. Приходится платить. Уезжаю без черники, но все-таки хоть Аркаше ничего не должен. Он, пьяненький, провожает меня, поет:
«Ребят всех в армию забрали, хулиганов, настала очередь моя. Мамаша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила».
– Николаич, приезжай за брусникой! – И дрыгает ногой, пытаясь плясать.
Когда я приезжаю осенью, история повторяется: никакой брусники нет. Но была вчера. Я же виноват, почему ж вчера не приехал. И грибов нет. Но будут. «Не уезжай ты, мой голубчик», – говорит Аркаша, и я исправно плачу ему за такое усердие в деле добывания для меня лесных даров. А Аркаша, оказывается, и стихи для меня сочинил: «У лукоморья дуб спилили, златую цепь большевики пропили, на кота уж кандалы надели, в зоопарк свели, а сами к лешему пошли».
Не всякий поэт отважится выступить в соавторстве с Пушкиным. Как не вознаградить такую отвагу?
Да, но домик наш старинный содрогается от грохотания пьяных ног по лестнице, от биения кулаками в двери, иногда не в те, от нечленораздельной громкой речи, в которой воспоминание о матерях – основное.
Интересно, что, когда весь день играют под окном или в коридоре ребятишки, это мне не только не мешает, но и настраивает на работу, а этот пьяный шум расстраивает.
Но вот, чтоб не сглазить, третий день в доме тихо. Сижу, гляжу, как темнеют от короткого дождя и быстро сохнут тротуары, как возится под березой неугомонный песик Тотошка, как тихо и умиротворенно колышутся ветви, – так хорошо! А все кому спасибо? Спасибо Татьяне, Тане-капустихе, как она в шутку про себя сказала. Уж не знаю, надолго ли, но посетителей второго этажа она отвадила.
Пришла она, кстати, тоже не просто чаю попить, ей надо было добавить к имеющейся сумме еще сумму. Но не тягостную для меня. Таня охотно согласилась выпить чаю и объяснила, что им с мужем надо поправить здоровье после отмечания дня рождения бабушки.
– Гулина Мария Самсоновна. Мне вместо матери. Мать у меня всю жизнь по тюрьмам. Сидела за аборты. Попалась за такой бизнес. Я вам скажу версию, вы поймете: семимесячный аборт – это же убийство. На семь лет. Отец был, но молодой же, охота попить-погулять. Сапожник. Звали Вася-капустик. Остались с бабушкой: я – полтора года, братики -шесть и восемь. Да-а, мать загремела. А та-то сама просила. Нагуляла, некуда деваться, три дня у нас лежала. Не она, родные подали в суд. Они-то, вишь, хотели ребенка. Чей бы бык ни прыгал – телята наши. И мы остались с бабушкой. Бабушка на свою зарплату, она была санитаркой в морге, какая там у нее зарплата – минималка, а нас подняла. Садимся чай пить: вот вам по конфетке, по печенюшке. Мы растягиваем их, понимаем, что такое конфета. Братики начали подрабатывать, жили рядом с базаром. Кому чего поднести. Но ни в жизнь не воровали. Честно! Ходили рыбачить, продавали. Опять рубль или два бабушке несут. Я посуду мыла, пол, крыльцо мела. Жили вчетвером на тринадцати метрах. Семь лет кантовались, по-русски сказать. Мать пришла, привезла кучу денег, газету, там про нее – передовик труда. Меня снарядила в первый класс, одела как куклу. «Таня, я не шлюха, не вор, я честно заработала». Так одела, что я боялась на стул сесть, платье измять.
Таня вздохнула. Я еще ей налил чашку.
– Полгода, полгодика с мамочкой, косы заплетала, бантики гладила, полгода. Опять к ней пришли, просят. Несмогла какая-то стерпеть, подставилась, в больницу боится. И тут – аборт со смертельным исходом. Снова семь лет. Когда второй раз вернулась, мне уж было пятнадцать.
Тут над нами раздались звуки пьяной разборки. Таня встрепенулась:
– Опять они! Ну!..
– Татьяна!
– Я не матерюсь. Никогда. Я молитвы читаю. Читаю «Отче наш» и свои: «Мать Пресвятая Богородица, помоги и спаси», «Господи Всемогущий, дай мне хлеб насущный». И есть всегда на хлеб. Но эти же другого языка не понимают. А мой поймут.
– Вообще, Татьяна, может, они не думают, что ругаются. Достоевский говорил, что у русских сквернословие есть, а скверномыслия нет.
– У них ничего нет, у них одно.
Звуки разборки усилились. Таня отодвинула чашку и решительно шагнула за порог. Наверное, так шли добровольцы на врага. Я шагнул за ней. Она уже резко считала ступеньки, резко и громко стала материть стоящую там мужскую компанию. Но нет, я неверно сказал – не материла, но так она их полоскала, не упоминая имени матери, что я изумился. Увы, это непечатно. Пусть цензуры и нет, но есть же чувство белого листа. Как его очернить руганью? Я понял, что мне подниматься не следует, ибо после Таниного выступления наступила тишина.
Таня вернулась, я налил ей еще чашку. Очень довольная, она позволила себе взять дольку шоколада и сказала:
– Крыша у них течет, так кобелями сверху прикрываются.
– И много их там?
– У этих-то? А сколько вытерпят, – хладнокровно ответила Таня и продолжала про бабушку.
Я же с изумлением ощущал тишину в доме.
– Бабушка, конечно, выпивала, но, конечно, они выпивали не как мы. Берут красненького одну, их четыре старушки, еще два старичка-инвалида, вынесут во двор стол, во главе тетя Валя с балалайкой. Выпьют по стопочке, и тетя Валя – пошла на балалайке! Мы же вчера-то в честь дня рождения бабушки собрались. Детишкам мороженое, печенье, нам чего другое. Муж закалымил сто двадцать: «Иди, Таня, за вином». Сидим, я любимую бабушкину запела «Ой, мороз-мороз», вот как сейчас спою. -Таня спела куплет. Спела, муж говорит: «Дак ниче, песню не испортила, не орешь во всю глотку, – говорит. – Ак допой давай». А-а, говорю, захотелось – допой. Еще была у бабушки, – Таня запела: «Вот кто-то с горочки спустился». Муж говорит: «Ак, Тань, голос-то у тебя хороший». Я говорю: а чего ему плохому быть, я ведь его не пропила, не проорала, я ведь женщина, должна меньше пить. Женщина, – сказала Таня назидательно, – за столом не присядет, постоянно в движении, принести-унести, кому закурить подать. А я сильная. Я вес чувствую, а тяжести не чувствую, я сегодня гроб с одной стороны одна подняла. С другой – двое мужчин. Со стороны ног легче: в головах мысли, а в ногах одна беготня. Я больше своего веса поднимаю. У меня одни мышцы. Я могу и литр, и два за ночь выпить и опять бегу работать. Женщинам меня не перепить. Только надо покушать. Суп, колбасу, консервы. Пью не залпом, не галопом. Выпила, поставила, закуски, разговоры, потом опять. С промежутками пьешь – и все в том же состоянии, что вот сейчас и с вами сижу.
– Слушай, Таня, я так тебе благодарен, ведь сидим-то в тишине, ведь замолчали.
– А вы, если что, зовите. Их надо так вразумлять. Я перекрещусь, в три этажа загну, сразу, блин, понимают. Знаешь ведь, чем дальше лес, тем толще партизаны. Это присказенька такая.
В тишине я жил и следующий день. Осторожно ходил в магазин, на реку, зорко смотрел вперед и по сторонам, не притаился ли в зарослях уличных деревьев и кустарников, как щука в осоке, Аркаша. Нет, видно, куда-то уехал. Подстерег меня не он, а другой мужчина.
– К вам посоветовали обратиться, говорят, иди, он соображает.
– В чем я соображаю?
– Как с женой поступить.
– Ой нет, в этом я не соображаю.
– Да у меня просто. У меня сахар еся, мука еся, огород еся, поросенок еся... чего ей надо?
– Не хочет быть крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой?
– Этого не замечал. Все же еся. Ну не люблю я ее, ну и что? А ей вынь да положь какую-то любовь. Мука же еся, какая ей любовь?
– Женщине, – сказал я, – не только муки и сахару надо, а чтоб любовь была еся.
Вернулся домой. На крыльце дамы со второго этажа. Трезвые, виноватые, прилично одетые.
– Ну что, красавицы, не надо больше звать Татьяну Васильевну?
Они как-то смущенно похихикали и сообщили, что едут в деревню.
– Принудительно? Добровольно?
– Ну, если кто придет, скажите, чтоб больше не приходили, – стали поручать мне дамы.
– Нет, я на это не гожусь, – сказался я. – Я Татьяну позову.
Они опять похихикали. На том и расстались.
К вечеру началась гроза. Далекие, слабо озвученные молнии неслись параллельно линии горизонта, тут же их сверху вниз перечеркивали другие, словно десница Всемогущего крестила темное нашествие туч с запада. Гроза подошла вместе с ливнем, молния уже не отделяла свой вы-сверк от удара грома, все покорствовало стихии, деревья свежели, мокли, темнели, песчаная дорога набухла и запенилась, мальвы и георгины в палисадниках кланялись до земли.
И тут же, еще не отдождилось, встала радуга. Такая четкая, широкая, как в детстве на коробке цветных карандашей. Она будто показала, какое там, в потустороннем мире, сияние, будто ее специально выпустили в щелочку неба, как солнечный лучик в темницу, для утешения и ободрения.
А ближе к ночи начались тихие, безмолвные зарницы. Они были с другой стороны уходящей грозы, тянулись за ней. И гром, рождаемый молнией, что-то говорил зарнице, но ревнивая молния уводила его к востоку.
Как горько, как отрадно пахнут осенние флоксы, как безропотно вянут отцветающие гладиолусы, и пчелы торопятся в последний раз навестить их.
Золото лугов, мелеющая река, тихие голоса светлых родников, серебристые ивы над мокрой тропинкой, неугомонное шевеление и щебетание растущих птенцов. В небе – парящий крест чайки. А выше – облака, облака, за ними – небесная твердь. А за ней – вечное золотое сияние всех цветов радуги.
Ночью на темном небе молодой месяц, будто начали промывать небесную твердь и уже процарапали золотую запятую. Как же хорошо жить, и за что нам, таким скверным по плоти и духу, дана такая радость?
СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ!
Ночная служба у Гроба Господня
Крестная смерть Спасителя поставила Голгофу и Гроб Господень в центр мироздания. Где тот храм Соломона, пирамиды фараонов, башни Вавилона, маяк Александрии, сады Семирамиды, мрамор Пальмиры, где все богатство века сего? Все прах и тлен по сравнению с подвигом Христа. Все в мире навсегда стало сверять свое время и время вечности по Христу. Все события в мире – это противостояние тех, кто за Христа, и тех, кто против. И другой битвы не будет до скончания времен.
Нам, малому стаду Христову, православным людям, дано величайшее счастье, выше которого нет – причащаться Тела и Крови Христовых на Божественной литургии. И где бы она ни свершалась: в великолепном соборе или в бедной деревенской церкви, значение ее одинаково и огромно – мы принимаем в себя Христа, свое единственное спасение. И все-таки никакая другая литургия не может встать вровень с той, что происходит ночью на Гробе Господнем в иерусалимском храме Воскресения. Это только представить – чаша с телом и кровию Христа ставится на трехдневное ложе Спасителя. Освящается и выносится для приобщения участникам ночного служения.
Аз, грешный и недостойный, несколько раз был на ночной службе у Гроба Господня. И особенно помню первую, когда поехал на нее вместе с монахинями из Горненской обители. Время было близко к полуночи. Ни обычного шума машин, ни людей, только огни по горизонту, только свежий ночной воздух и негромкое молитвенное пение монахинь.
От Яффских ворот быстро и молча шли мы по странно пустым узким улочкам Старого города, сворачивая в знакомые повороты, ступая по гладкости желтого, а сейчас темного мрамора. Вот широкие ступени пошли вниз, вот поворот на широкую площадь перед храмом. Справа Малая Гефсимания, слева вход в храм, прямо к Камню помазания. У входа расколотая небесной молнией и опаленная Благодатным огнем колонна, даровавшая именно православным Божию милость схождения огня в Страстную субботу теперь уже далекого XIX века. Прикосновение к колонне, влажной от ночной росы, освежает и дает силы на предстоящую службу. А силы нужны. До этого у меня был счастливейший, но и очень трудный день, когда я с утра до вечера ходил по Иерусалиму, говоря себе: «Иерусалим – город Христа, значит, это и мой город».
Вообще я не сразу, не с первого взгляда полюбил Иерусалим. Я говорю не о Старом городе, при входе в него обувь сама соскакивает с ног, как иначе? Здесь Скорбный путь, «идеже стоясте нозе Его», здесь остановившееся время главного события Вселенной, что говорить? Нет, я не сразу вжился в современный Иерусалим. Как этот город ни сохраняет старину, но модерн, новые линии и силуэты зданий проникают всюду, как лазутчики материального мира. Мешал и непрерывный шум машин, и их чрезмерное количество, торговцы, предлагающие все растущие в своей изысканности и цене товары и пищу, которая тоже дорожала, но все заманчивей привлекала ароматами и внешним видом, мешали безцеремонно кричащие в трубки мобильников, часто на русском языке, энергичные мужчины, мешали и короткие, ненавидящие взгляды хасидов, многое мешало. Но постепенно я сказал себе: что с того? Сюда Авраам привел своего сына, собираясь принести его в жертву. Здесь плясал с Ковчегом Завета царь Давид – куда больше? Отсюда пришла в мир весть о Воскресшем Христе. Здесь убивали камнями первомученика Стефана, а дальше, налево, гробница Божией Матери, внизу поток Кедрона, вот и Гефсиманский сад, вот и удивительная по красоте церковь Святой Марии Магдалины, подъем на Елеонскую гору и головокружительная высота Русской свечи над Елеоном, православная колокольня, выстроенная великим подвижником, архимандритом Антонином (Капустиным). Вот он – Вечный город, вот видны и Золотые ворота, в которые вошла младенцем Божия Матерь и в которые, спустя время Своей земной жизни, въехал Ее Сын, Сын Божий. А вот и храм Гроба Господня.
Вернувшись с Елеона, еще в этот же день я обошел вокруг Старый город. Шел вдоль высоченных стен из дикого камня, как ходят у нас на Крестный ход на Пасху – с паперти налево и вокруг храма, шел, именно так и воспринимая свой путь – как пасхальное шествие. И уже шум и зрелище современного мира совсем не воспринимались, были вначале фоном, а потом и совсем отошли. И башня Давидова помогла этому отрешению – она же почти единственная из сохраненных дохристианских зданий. И только в одном месте невольно остановился: мужчина в годах, в пиджаке с планками наград, наяривал на аккордеоне песню прошлого века: «У самовара я и моя Маша, а на дворе уже темным-темно». Ну как было не расстаться с шекелем?
Но благодатный вход в храм Гроба Господня отсек свежие воспоминания минувшего дня и придал силы. Особенно когда мы прикладывались к Камню помазания и в памяти слуха звучали слова: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе новом покрыв, положи».
У Гроба, на наше счастье, почти никого не было, только греческие монахи готовились к службе. Я обошел Кувуклию, часовню над Гробом Спасителя. Опять же в памяти зазвучал молитвенный распев: «Воскресение Твое Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли спо-доби чистым сердцем Тебе славити». Справа от часовни на деревянных скамьях спали богомольцы. Они пришли сюда еще с вечера. Сейчас просыпались, тоже готовились к службе. У входа в часовню – внутрь уже не пускали – горели свечи. В одном подсвечнике, как цветы в вазе, стояли снежно-белые горящие свечи. Добавил и я свою, решив не отходить от часовни, чтобы, даст Бог, причаститься у Гроба Господня. Я знал, что у Гроба причащают нескольких, а остальных, перенеся чашу с дарами, причащают у алтаря храма Воскресения.
Дьякон возгласил:
– Благослови, владыко!
Возгласил он, конечно, по-гречески, по-гречески и ответил ему ведущий службу епископ, но слова были наши, общие, литургические:
– Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа.
– Ами-и-инь! – согласно включился в молитву хор наших монахинь из Горней.
Мне было очень хорошо видно и придел Ангела, и сам Гроб. Удивительно, как священнослужители, облаченные в служебные одежды и на вид очень грузные, так легко и ловко поворачивались, входили и выходили из Гроба на преддверие. Частое каждение приносило необыкновенный прохладный горьковатый запах ладана. Какой-то очень родной, в нем была чистота и простор смолистого высокого бора. Молитвенными, почти детскими голосами хор монахинь пел: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения». Новые возгласы диакона, выход владыки и его благословение. Видимо, по случаю участия монахинь из Горней, по-русски:
– Мир вам!
– И духови Твоему, – отвечает хор.
И вот уже «Блаженства». Начинается литургия верных. Тут все верные от самого начала. Ибо, когда были возгласы: «Оглашенные, изыди-те», никто не ушел. А вот и «Херувимская». Тихо-тихо в храме. Такое ощущение, что его огромные, ночью пустые пространства, отдыхающие от нашествия паломников и туристов, сейчас заполняются безплотными херувимами, несущими земле весть о спасении. «Всякое ныне житейское отложим попечение».
А время мчится вместе с херувимами. Уже пролетело поминание живых и умерших, уже торопился вспомнить как можно больше имен знакомых архиереев, батюшек, родных, близких, и многочисленных крестников и крестниц, просто знакомых, тех, кто просил помянуть их у Гроба Господня. Так и прошу: «Помяни, Господи, всех, кто просил их помянуть. Имена же их Ты, Господи, веси». Душа на мгновение улетала в ночную Россию. Отсюда, из сердца мира, где в эти минуты свершалось главное
событие планеты – пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, кланялся я крестам храмов православных, крестам на могилках, как-то в долю мгновения вспоминались монастыри и монахи и монашки, читающие при восковых медовых свечах неусыпаемую Псалтырь и покрывающие молитвенным омофором российские пределы.
А мы здесь, у Гроба Господня, малое стадо русских овец Христовых, молились за свое многострадальное Отечество. Ко Гробу Христову я шел всю жизнь, и вот стоял у него и ждал причастия. Ни ум, ни память это осознание не вмещали. Вся надежда была на душу и сердце. Я в ногах у Спасителя, в одном шаге от Его трехдневного ложа, в трех шагах от Голгофы. Ведь это же все, промчавшееся с такой скоростью, все это будет стократно и благодатно вспоминаться: и то, как молитвенно поет хор, как размашисто и резко свершает каждение здоровенный диакон, как смиренно и терпеливо стоят около простоволосых женщин наши паломницы в белых платочках, как внезапно и весело звенят колокольцы на блестящем архиерейском кадиле, как безстрашно старуха в черном сует руку в костер горящих свечей и выхватывает оттуда догорающую, как бы пропалывая пламя. И ставит взамен новую. И вновь хор, и вновь сыплются звуки от колокольцев кадила, облетая храм по периметру. Гроб плотно закрыт облачениями священства. Так хочется невидимкой войти в Гроб и видеть схождение небесного огня в причастную чашу. Говорила знакомая монахиня: «Нам дано видеть Благодатный огонь раз в году, а духовные люди его всегда видят. Потому что огонь небесный не уходит от Гроба Господня».








