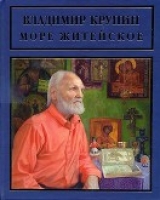
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Вот почему тоскую и плачу – я пытаюсь вернуть счастье начала жизни, а мне его без родного дома не вернуть.
Ночью луна и ослепительные звезды. Таких нигде нет, только в Вятке. В серебре неба алмазы и бриллианты, все двенадцать драгоценных камней из города будущего. «А улицы там – чистое золото, как прозрачное стекло. Двенадцать ворот из двенадцати жемчужин. Ворота в городе не будут запираться, ночи там не будет, и не войдет в тот город ничто нечистое. И он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, но слава Божия осветила его». Так сказано нам в Откровении. И то, что мы доживем до этого города, точно. Войдем ли в него, другой вопрос. А до этого «земля и все дела на ней сгорят, небо совьется, как свиток». Но так еще хочется пожить и поработать во славу Божию.
Стою на морозе под небесами. Холодная луна освещает пожарище. Снег припорошил его, будто белые пуховые платки из милосердия наброшены на черные бревна.
Что ж делать, не я первый, не я последний погорелец на Святой Руси. Не ропщу, Господи, но так горько стоять на кладбище детства и юности...
ЛИСТ КУВШИНКИ
Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг, с годами, стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелетов, но успокаиваю себя тем, что это, по крайней мере, гигиенично.
Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не все ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли – это я себе, видевшему крайние степени голода, – думать о форме, в которой питье или пища?
Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но, завали меня всем этим с головой, все равно все победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники – вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнулся на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал ее ладошкой и предлагал возлюбленной.
– Нет, – сказала Валя, – я так не могу. Мне надо из чего-то.
И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся – заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.
Она напилась. И мы поцеловались.
Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошел тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.
ЦВЕТОК С РОДИНКОЙ
Тебя звали Галя. А подлинное твое имя – Миннугуль, то есть, в переводе с татарского, Цветок с родинкой. У вас в семье были только девочки, четыре сестры: Минура, Фатима, Миннугуль и Фагиля. Все красавицы редчайшие. Все отличницы. Но самой красивой была ты, Галя. После школы ты, золотая медалистка, пришла работать корректором в районную газету, где я уже работал литсотрудником. Тогда я и понятия не имел, что нравлюсь тебе: был влюблен в библиотекаршу Валю. Скрыть это было невозможно, я и не скрывал, звонил в библиотеку из редакции, договаривался о встрече. «Сколько же мне было страданий, когда ты ей звонил», – говорила ты потом.
Однажды ответственный секретарь редакции Владимир Петрович послал меня к тебе с гранками для вычитки. Ты болела и читала их дома. В переулке Горького я нашел ваш маленький домик. Маленький и бедный снаружи, он был необыкновенно чист и наряден внутри. Валенки сами собой соскочили у меня с ног. Я стоял на цветных половиках, здоровался с грузной и суровой твоей матерью и объяснял ей, что принес Гале работу. И увидел тебя, выскочившую в переднюю в длинном татарском халате и резко покрасневшую, и в повороте взметнувшую огромной россыпью черных волос. Потом ты говорила, что именно тогда мать заметила твое чувство ко мне, и, когда я ушел, она сказала: «Убью, если выйдешь замуж за русского».
Следующим летом ты уехала поступать в институт и, конечно, с ходу поступила. А с библиотекаршей Валей все было покончено. И не по моей вине. И ее не виню: она была старше меня, а я уходил в армию, а это еще три года. Друзья и стихи помогли залечить рану, и вскоре сердце мое, хотя и ныло слегка, стало свободным. Тут в редакцию пришло письмо от Гали. Оно было как бы всем, но Владимир Петрович сказал: «Это Галя тебе написала». – «Да ну!» «Что “да ну”? Читай: “А кто сейчас носит гранки корректору, когда она болеет и сидит дома?”» – «И что?» -«Как и что? У нас теперь ее сестра работает, Фагиля. А тогда кто носил Гале гранки? Не доходит?» – «И что? Могла и сторожиха отнести. Вы же обычно ее посылали. Мне сказали: “Беги, помоложе”. Я вам просто под руку подвернулся». – «Обычно! Да только ты один, дурак, не знаешь, что Галя тебя любит».
Эти слова меня ошеломили. Оказывается, я любим. Да еще и крепко, как говорит Владимир Петрович.
Дома я долго смотрел на фотографию нашего выпуска. Мы учились в соседних классах. Конечно, Галя была самая красивая из всего выпуска. Как я, действительно дурак, этого не замечал?
Назавтра Владимир Петрович велел мне написать Гале ответ. Это было легко, я же не от себя писал, а «от имени и по поручению всегда тебя помнящего коллектива». Постарался весело рассказать о всегдашних наших страданиях: ломается часто печатная машина, бумага кончается, а дорогу на станцию замело и не чистят. В конце написал такую фразу: «Теперешняя корректорша не болеет, но если б и заболела, я бы гранки не понес, пусть несет сторожиха, так как тебя в твоем доме уже нет». На конверте написал обратный адрес уже не редакции, а свой. И Галя ответила уже только мне. Писала о городе, в котором учится, о грусти по нашему селу. «Очень скучаю». Это было подчеркнуто.
Переписка разгорелась. Вначале я воображал, что люблю Галю (долго ли поэту вообразить чувство?), потом понял, что влюбился, писал ей стихи, и однажды она написала: «Скрывать мне от тебя совершенно нечего: люблю тебя». Думаю, во всю следующую жизнь я не написал столько писем, сколько ей. Белые птицы конвертов летали над Россией.
Она не смогла, не было денег на дорогу, приехать на каникулы, работала в студенческом отряде, а меня Родина призвала в Советскую армию. И письма мои все стремились к ней. И встречались с теми, что посылались ею. Где мои письма, не знаю, а судьба Галиных писем печальна. Их просто-напросто старшина извлек из тумбочки и приказал сжечь. Я сказал: «Сам не буду». Старшина Липа, такая у него была фамилия, хладнокровно объявил мне три наряда вне очереди. Самое, может быть, тоскливое армейское стихотворение, я его не помню целиком, было: «Грею руки над костром из твоих писем, мне без них и горе и беда...»
Пролетело более полугода сержантской школы. У нее были студенческие зимние каникулы, и она приехала в Москву. Около Москвы, в Томилино, была наша часть. Галя сняла комнатку у старушки прямо у забора нашей части. Диво дивное, как она все сумела. Пришла на КПП, дозвонилась. Я твердо сказал замполиту: приехала невеста. Как он мог не отпустить меня, редактора газеты «Зенит», занявшей первое место в Московском округе ПВО? Я же и писал: «Да, газета “Зенит” в веках прозвенит». Дали увольнение на сутки.
Я страшно переживал. Позвал с собой друзей-земляков. Купили шампанского, водки постеснялись, еще и еды. Конечно, друзья знали о моей влюбленности, я же им показывал фотографию Гали. Но это фото, а тут она была вся живая. Красоты редчайшей. От нее вообще можно было зажмуриться. «Косметики, – писала она в письмах, – не выношу. Да и мама за косметику убьет». У нее была красота естественная, спокойная, я бы сказал. Она была сотворена, чтобы быть женой и матерью. Что-то плохое подумать о ней было просто невозможно. Одно только: как с такой красотой можно было жить, постоянно видя наведенные на себя восхищенные, влюбленные, потрясенные, жадные взгляды? Думаю, от того, что любящие женщины, любящие единственного, никаких других взглядов просто не замечают.
Галя была в темно-красном пальто и белой шапочке в контраст к своим блестящим черным волосам. Пришли в домик. Мы рванулись помочь ей снять пальто. Она засмеялась необыкновенно музыкальным, я бы сказал, грудным, ласковым смехом.
– Все вятские! – гордо представил я друзей.
– Вот здорово! – обрадовалась она.
Стали готовить застолье. Она всего привезла. Тогда мы впервые попробовали шоколадное масло. Проворно и ловко мелькали ее руки с перстеньками голубого и красного камешков. На ней было платье из плотной бордовой ткани, сшитое в талию, с белым воротничком под горлышком, что говорить!
У нас было очень хорошее, сердечное сидение за столом. Я даже своих друзей не узнавал: они стали какими-то размягченными, говорили о своих девушках, показывали их фотографии. Галя внимательно их рассматривала, всех очень хвалила, ребятам желала скорее отслужить и вернуться к любимым.
Парни восторженно пинали меня под столом армейскими сапогами. И вскоре засобирались. Все-таки они были в самоволке. Им надо было обязательно возвратиться до вечерней поверки. Вышел их проводить. Они крепко хлопали меня по плечам и спине.
Вернулся в дом. Она уже все убрала и повернулась ко мне. Две пуговки у горла были расстегнуты, рукава платья немного закатаны. Белые запястья обняли меня за шею.
Боже мой! Да что мы в своей юношеской дурацкой поре понимаем! Кто нас гонит, куда торопимся? Мы целовались, я рвал пуговицы на ее платье. Руки у меня тряслись.
– Знаешь что, – отстранившись, серьезно сказала Галя. – У нас с тобой сегодня ничего не будет. Я твоя и только твоя, но я хочу, чтобы все было не так. Ты понимаешь? А пока это было бы стыдно, это нехорошо.
– Но мы же поженимся.
– Конечно. Но до этого мне придется пройти через проклятие мамы.
– Она простит.
– О, ты не знаешь татар. Отвернись. Я лягу к стенке.
Я отвернулся. Летели мгновения, сердце падало и вздымалось.
– Ложись. Погаси свет.
Я щелкнул выключателем. Отстегнул ремень и швырнул его на пол. Стянул через голову гимнастерку. Она откинула одеяло и протянула руки.
– Посмотри, как светло! Светло же! Луна.
Да, луна. Лицо Гали среди простора черных волос, близкие глаза, вырезные губы, ее ласковость и ее твердость, когда я забывался и не верил, что она недоступна. Это была самая мучительная ночь моей жизни. Я так сжимал Галю, что сам удивлялся, как только ребра ее выдерживали такой напор.
Измученные поцелуями, объятиями, мы не спали всю ночь. Сколько же всего было сказано тогда, сколько летящего молчания отсчитывали торопливые удары сердца. Но я не мог переступить через ее умоляющие слова: «Потом, потом, у меня нет никого, кроме тебя. Все будет! Потом».
Я был уверен: она верила, что я не откажусь от обещания жениться, и даже очень просил ее ничего не бояться и рожать ребенка. «Я буду работать, поступлю на заочное». – «Хитрый какой: придешь из армии, а ребенок готовый? А до этого я кто? Мать-одиночка? Из общежития выгонят. Нет, хочу так: я готовлю обед и поглядываю в окно, а там ты с колясочкой и с книжкой. Не сердись, я верю тебе, верю! Считай, что все уже было». – И она, уже сама, стискивала мою шею. И опять начинались ласки до изнеможения.
И, спустя многие годы, я благодарен ей за снежную чистоту той ночи.
Луна, в самом деле, тогда была небывалая. Распалившись от ее горячего тела, укрощая себя, я выходил под ночные звезды, смотрел на покрытую инеем колючую проволоку над забором родной части. Понимал, что впереди еще два с половиной года, но думал: Галя с ее красотой и верностью поможет мне быстро их прожить. Смотрел на радостное лицо летящей сквозь легкие облака луны, и мне не верилось, что это не сон, что сейчас вернусь в тепло домика, где величайшее чудо – моя любовь -ждет меня.
Может быть, именно благодаря татарке Гале я полюбил восточную поэзию, и когда читал Низами, то место, когда Хосров увидел купающуюся Ширин, казалось мне написанным не о Ширин, а о Гале -Мин-нугуль. Это она вышла из одежд, сняла с себя украшения, распустила волосы и плывет, но не в персидских песках, а в русских снегах.
К утру мы окончательно измучили друг друга, но уже совсем не хотели спать. Я вышел из домика. Наступал рассвет. Умылся снегом.
Дальше? Еще месяца четыре неслись письма. И вдруг прекратились. С ее стороны. И тогда я совершил совершенно немыслимую самоволку: рванул в ее город. Господь спас, без увольнительной, без билета. Приехал ранним утром, нашел ее в общежитии, в комнате, кажется, на пятерых.
Мы вышли в коридор. Она была в халате, но уже не в татарском, длинном, а в городском, до колен. Свела руки на горле. Я кинулся обнять, она испуганно отстранилась. «Не надо! Прости меня! Больше не ищи и не пиши. Ни о чем не расспрашивай. Позабудь меня. У тебя будет все хорошо. У тебя будет хорошая жена. Все, все!» – и убежала.
Не знаю, что с ней произошло. Ну что? Может, какой заморский принц объявился, а может, все проще и грубее: кто-то силою взял ее. Может, мать приезжала? Галя была по-прежнему прекрасна, но бледна, печальна. Вся измененная. Что-то же случилось в ее жизни, но что?
Я вернулся в часть. До дембеля оставалось больше двух лет. «А нам с тобой, сержант Елеференко, служить еще, как медным котелкам». Или: «Да, нелегко, коль молодость в шинели, и юность перетянута ремнем» -стихи из той поры. «Мой милый друг, не надо грусти, придет приказ и нас отпустят». И лихой припев: «В дорогу, в дорогу, осталось нам немного носить свои петлички, погоны и лычки. Ну что же, ну что же, кто побыл в нашей коже, тот больше не захочет носить ее опять. Мы будем галстуки с тобой носить, без увольнительной в кино ходить, с хорошей девушкой гулять и никому не козырять».
Галя напророчила мне жену умную, красивую. Так и сбылось. Но Галю вспоминал. Бывал на родине, поневоле выслушивал новости о знакомых. Узнал, что Галя была в Сибири, сейчас директор техникума в одном из городов Пермской земли. В Перми у меня знакомые писатели, давний друг Анатолий. Они летели на выступления в этот город и пригласили меня. В городе я легко узнал адрес техникума, телефон директора. И даже вздрогнул, когда услышал ее голос, все тот же, грудной, слегка растянутый на последних слогах, и мысль мелькнула: все эти тридцать лет он звучал не для меня, как будто он должен был после той ночи замениться другим, обыденным. Я пригласил ее на ужин. «Со мною опять будут друзья, но уже не в шинелях». Она засмеялась. И смех ее был все тот же. – «Да, я их помню, очень хорошие». – «А как иначе – вятские».
Она пришла с подругой. Сказала, что на час. Друзья-писатели, когда ее увидели, ахнули. Надо себе представить, как может выглядеть женщина, когда свою природную красу дополняет красотой одеяния. А уж Галя, с ее профессией по тканям и нарядам, была такой магнитной, что и для красавиц Голливуда моделью недосягаемой. И, опять же, была без косметики. И губы были прежние, хотя уже немного скрытые легкой помадой. Глаза те же. Конечно, и морщиночки угадывались у глаз, но что морщиночки, когда в ней было главное – женственность. А женственность ни косметикой, ни фитнесом не наживешь. Тут душа нужна.
– Вовка, какой ты старый, – весело сказала Галя. – А борода зачем?
– Он у нас аксакал, – выручил меня друг.
Сели за столик. Желая как-то утеплить атмосферу, я бодро заговорил:
– Галя окончила школу с золотой медалью. Да и я неплохо: всего одна четверка в аттестате. Остальные...? Нет, не то вы подумали. Остальные тройки. Да, товарищи, все думают, что я умный, а на самом деле... так оно и есть.
Ресторан был хороший, это значит, в нем была негромкая музыка. Раздалось танго нашей юности. Я встал и склонился пред Галей, приглашая. Это была возможность поговорить наедине.
Взялся правой рукой за ее талию, а она, кладя свою руку на мое плечо, сказала:
– Заведут, бывало, на школьном вечере танго. Помнишь? А мы, дуры девчонки, стоим у печки и ждем вас, дураков, Никогда ж не пригласите. -«Все для тебя, и любовь, и мечты, – пел голос с пластинки. – Все это ты, моя любимая, все ты». Помолчали, слушая. – Галя, будто очнувшись, сказала: – А я знаю, у тебя замечательная жена Надя.
– Ты же напророчила. А.
– Обо мне не надо.
– Галя, – заговорил я, – или называть тебя Миннугуль?
– Хоть как. И так и так приятно. Меня уже вечность называют только с отчеством. Кто Галина Романовна, а кто и Миннугуль Рахимовна.
– Еще. Галя, у тебя случайно не сохранились мои письма? Я верну. Понимаешь, мне хочется вспомнить состояние того времени. Твои письма, – я запнулся, – уничтожил старшина.
– Ну и у меня нашлись уничтожатели. Не будем об этом.
– Да, прости. И последнее: а если бы мы тогда поженились, ты бы перешла в православие?
Она вздохнула, опустила глаза, потом подняла их:
– Ради тебя? Ради семьи? Конечно, да.
– А мама?
– Мама? Н-не знаю. Не сразу. Но появились бы внуки, она бы, конечно, в них вцепилась. Теперь уже мамы нет.
– Мне говорили. Галя, я почему спросил: помнишь, в повести «Бэла» Максим Максимыч очень жалеет, что не успел окрестить Бэлу, и она умерла мусульманкой. Жалеет от того, что она не встретится в загробном мире с тем, кого любит.
– Заканчивается, – это Галя заметила о музыке. Взглянула и улыбнулась: – Ох, как я вздрогнула, когда ты тогда бросил ремень на пол.
Мы вернулись за столик. Подвыпившие друзья весело спросили:
– Ну что, кричать «горько»?
– Да, горько. – Галя подняла бокал. – Зачем кричать? Можно просто прошептать.
Простились на освещенном крыльце. Они просили не провожать. Друзья и подруга деликатно отошли. Я взял ее руку и поцеловал.
– Я за полчаса уже привыкла к твоей бороде. Она тебе идет. Но тогда представить, что ты будешь с бородой... Пойду.
– Постой! – Я все еще надеялся на объяснение причины нашего разрыва.
После молчания она просто сказала:
– Это была лучшая ночь в моей жизни. Понимаешь. нет, ты мужчина, не поймешь. В ту ночь все было, все свершилось. Я стала женщиной именно с тобою. И потом я постоянно вспоминала этот домик, и всю жизнь схожу с ума в зимние лунные ночи. Я благодарна тебе, очень! За твою порядочность, за то, что ты меня пожалел. А иногда думаю: да почему ж ты меня пожалел? Ведь любил!
– Потому и пожалел.
– Да. – Еще помолчала: – А подлецы не жалеют. Пойду.
– Но в щеку тебя можно поцеловать?
Она засмеялась:
– От этого детей не бывает.
И сама поцеловала меня. Глаза ее заблестели. Подняла сверкающий каким-то мехом высокий воротник и скрыла в нем лицо.
Они ушли. Мы вернулись за стол.
Галя, потом я узнал значение твоего имени. В Тегеране на прессконференции объявили о выступлении поэтессы с именем Айгуль. Я сказал переводчику, что знал девушку по имени Миннугуль. «Это очень поэтично, – отвечал он, – это означает “цветок с родинкой”, то есть цветок (девушка), отмеченная знаком любви».
Вот и все про дивный татарский цветок с родинкой.
ЭТИ НЕПОНЯТНЫЕ РУССКИЕ
До меня дозвонился японский профессор-русист и попросил помочь в двух вопросах. Во-первых, помочь навестить известного русского писателя, который был за городом на излечении, а во-вторых, поговорить на одну, как он выразился, совсем не японскую тему. Но и не русскую.
Я согласился съездить даже с радостью: и с писателем повидаюсь, и за городом побываю, много ли мы на воздухе бываем.
– Давайте прямо с утра пораньше, – сказал я. – Доедем часа за три, много за четыре.
Профессор задал два вопроса:
– Прямо с утра пораньше – это когда? А много за четыре – это как?
– Ну, как выйдет, – отвечал я, – может, и в два с половиной получится. А с утра пораньше надо, с утра электрички лучше ходят.
– Как лучше ходят?
– Ну, особо не капризничают. А после десяти их лихорадит.
Профессор, видимо, решил, что наши электрички одушевленные существа: то они капризничают, то их лихорадит.
Ехать надо было с Белорусского вокзала. Мы договорились встретиться в семь у памятника Горькому – место заметное.
– С такси не связывайтесь, плюньте, – сказал я, – у вас прямая линия, без пересадок, «Театральная» – «Белорусская», а памятник среди площади, не растеряемся.
– Не растеряемся, будем находчивыми, так? – спросил профессор.
Утром, примчавшись на вокзал, я увидел в расписании, что есть
электричка до Можайска (а нам надо было до Кубинки), электричка хорошая, мало остановок, но она уходила именно в семь. И если мы только в семь увидимся, то придется полчаса ждать, ехать на бородинской почти со всеми остановками. Зная, что японцы – народ аккуратный, что профессор непременно будет ехать с запасом времени, я купил билеты и побежал к метро «Белорусская радиальная».
Изумленный профессор увидел меня, сходя с эскалатора.
– Мы сейчас, – спросил он, – пойдем встречаться к памятнику Горькому? Ведь это из-за него Чехов вышел из академии?
– Да, из-за него. Но он давно вышел, а электричка сейчас уходит. И потом, если мы уже встретились, зачем нам Горький? – отвечал я и, так как объяснять было некогда, тащил профессора на пятую платформу. Именно пятая значилась на табло.
Но когда мы прибежали на пятую, то по радио объявили, что электричка до Можайска уходит с четвертой. Повлек профессора обратно в тоннель. Профессор, видимо, решил, что я плохо знаю Белорусский вокзал.
В электричке, отдышавшись, мы стали разговаривать на ту тему, что в России большое пространство.
– Сколько земли, – восклицал профессор, когда между станциями мелькали два-три перелеска.
По проходу шла торговка пирожками, и профессор, несмотря на мой ужас, купил у нее штучку и стал откусывать по мелкому кусочку. Меня же угостил чем-то сушеным, рыбным, в плоском пакетике.
– Но все-таки спрошу, – сказал он. Видно, он думал над этим. -Если объявили, что поезд уходит с одной платформы, то почему он пришел на другую?
– А это стрелочник виноват, – ответил я, – стрелки перевел с похмелья, вот и все.
– Как с похмелья? – изумился профессор. – Стрелочнику же совершенно нельзя пить, это же очень серьезная профессия, это же связано с жизнью людей.
– Честно скажу: пьют, – отвечал я. – Это очень большой наш недостаток: пьют стрелочники, они, они у нас во всем виноваты.
Профессор доел пирожок, я доел сушеные волокна, кстати очень вкусные, и мы стали говорить о Чехове. Профессор находил сходство между Чеховым и писателем, к которому мы ехали.
– А как вы думаете, – спросил профессор, – Чехов был антисемитом?
– Я до таких тонкостей в Чехове не доходил, но думаю, что не был.
– Да, но рассказ «Тина»... – заговорил профессор. Это и был тот неяпонский вопрос, о котором просил поговорить с ним профессор.
– В Японии нет евреев, – объяснил профессор, – поэтому мы решили, что именно японцы разберутся в еврейской проблеме. Я этим стал заниматься, но у меня вопрос: почему нигде в мире ни Чехова, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Лескова, ни Гончарова – никого из русских мировых классиков не называют антисемитами, но я прочел их всех внимательно и видел у них многое по еврейскому вопросу. Даже у такого, как Тургенев.
– У него-то где? – спросил я, стыдясь того, что плохо знаю свою классику. А вот японец знает. О, эти японцы все знают.
– А у него в «Записках охотника» помещик Каратаев хвалит свою собаку, говорит, что даешь собаке кусок хлеба из левой руки и говоришь: жид ел, то собака не ест, а говоришь: барышня кушала, и даешь из правой руки, то собака возьмет.
– Так, а в чем тогда вопрос?
– Так вот, классиков не называют антисемитами, а я прочел всего Шукшина, Белова, Распутина, у них нет антисемитских высказываний, а их называют антисемитами. Почему?
– Спросите тех, кто называет. Для меня это тоже загадка. Да это еще что, у нас давно ли эти писатели в фашистах ходили, у нас даже слово «патриоты» оплевывалось.
– Это нас возмущало, – сказал профессор. – Японию после войны поднял только патриотизм. Всякое государство можно сохранить и укрепить только патриотизмом.
– Вот спасибо. Вот еще бы это демократам внушить.
– А наши демократы, – сказал профессор, – очень большие патриоты. А у вас патриоты – русские, а демократы – евреи. Может, от этого противоречия.
– Противоречие в вашем суждении. Как же евреи не патриоты, а евреи Израиля? Если б они не были патриотами, разве б туда стремились?
– Тогда вопрос прямой, можно?
– Только так и можно, – отвечал я.
– Есть ли в России антисемитизм?
– Тут я вам плохой помощник, – искренне отвечал я. – Я первого еврея в двадцать лет в армии увидел. Илюха Файбрун – хороший парень. Мы вместе боевые листки выпускали. Я сочинял, он переписывал. Правда, вот на учениях, например, я в противогазе бегу, а он на штабной машине. Но ведь опять же – сочинять-то тексты можно и на бегу, а ему планшетка нужна, бумага, перо. Почерк у него был хороший. Так что я сам виноват, мог бы и почерк выработать, в писаря бы пошел. Или в институте у нас был еврей, Семен. Тоже парень отличный. А я грузчиком работал на ткацкой фабрике. Он жил недалеко, попросил устроить на работу. В грузчики какая проблема, устроил. Только уже к вечеру первого дня я тюки с пряжей таскаю, а Сенька их считает. Зарплата у него даже и повыше – учетчик. Но мне интереснее было грузить, чем с карандашом сидеть.
– А серьезнее? – прижимал меня профессор. – Есть антисемитизм?
– Видимо, после революции был, – отвечал я. – Иначе зачем бы появился закон об антисемитизме. Слово «жид» нельзя было произнести...
– Но ведь жид и еврей не одно и то же, я изучал этимологию.
– Да мы слово «жид» не чем иным, как обозначением жадности, и не считали. В детстве, если кто жадный, ему говорили: а, жидишь!
– Да, да, – подхватил профессор. – И у Гоголя, когда Чичиков передал Плюшкину деньги, то тот «сразу ожидовел».
– Ну вот тем более, Плюшкин же не еврей, – обрадовался я поддержке Гоголя. – Или у нас была считалка: «Жид, жид, жид, по веревочке бежит, веревка оборвется, жид перевернется». Какой тут антисемитизм? Хотя потом, когда я был в Москве, рассказывали про анекдот тридцатых годов о том, как стоит мужчина на остановке, его спрашивают: ты что делаешь? Он хотел было ответить: трамвай подЖИДаю, да испугался и ответил не «поджидаю», а «подъевреиваю».
Профессор, посмотрев в книжечку, продолжал допрос:
– А не думаете ли вы, что антисемитизм имеет в основе антииудейство? У Пушкина в «Скупом рыцаре» рыцарь возмущен, что еврей-аптекарь предлагает рыцарю отравить скупого отца. Рыцарь его, еврея, прогоняет, говоря о деньгах, что они будут пахнуть «как сребреники пращура его». Он ведь имеет в виду Иуду и историю с тридцатью сребрениками? Так? Еще у Пушкина, когда пишет про гречанку: «Ко мне постучался презренный еврей». Есть же причина такого отношения.
– Мы почему-то и воробьев называли жидами, – я, к сожалению, не был столь силен в еврейском вопросе, как японец. – Я больше сужу не по науке, а по жизни. Вот опять же анекдот: «Беги, Абрам, погром!» – «А я по паспорту русский». – «А бьют не по паспорту, а по морде». Но это, я думаю, еврейский анекдот.
– Почему?
– У нас, как началась эта свистопляска с перестройкой, как пошел свальный грех демократии, так уж сколько про эти погромы кричали, даты называли – все вранье, в русских нет чувства мести. А евреи, что ж евреи, они как в псалмах Давидовых, как же им петь веселые песни в земле чужой. Они из глубины веков подпитываются чувством богоизбранности, превосходства, а мания величия обязательно вызывает манию преследования.
– Да, да, – поддакнул профессор. – Мы – буддисты – братья христианам, мы знаем, что богоизбранность одного народа кончилась на Голгофе, богоизбран тот, кто идет за Богом, а для него нет ни эллина, ни иудея.
Он погрузился в свою книжечку. Скоро доедем, думал я, глядя в мутное окно. Чем бы еще помочь профессору? Он сам все лучше меня знает. Но вот это надо сказать:
– Я вам рассказал анекдот про городской трамвай. Тут заметно, что человек боится, что за слово «жид», даже в корне слова под-жид-аю, его могут замести, забрать, привлечь, в общем. А я в селе вырастал, там, например, такие частушки пели вовсю еще безо всякой гласности: «На бочонке я сижу, а в бочонке кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидов-ска рожа”».
– А почему в бочонке кожа? – спросил профессор.
– Для рифмы. Но тут Сталин и Троцкий по разную сторону баррикад, а вот частушка, опять же открыто пели, в ней они объединены: «Сидит Сталин на березе, Троцкий выше, на ели. До чего, христопродавцы, вы Россию довели». Или народная частушка: «Ты Иван, и я Иван, голубые очи. Мы с тобой идем в забой, а евреи в Сочи». Одним словом, плохой я вам помощник. Вы меня лучше по русскому вопросу спрашивайте. А то кто послушает со стороны и решит, что мы с вами антисемиты. А мы просто занимаемся научными изысканиями.
– Но разве в электричке есть подслушивающие устройства? – забеспокоился профессор.
– Да если бы и были, она так гремит. Это не электричка от Токио до Киото. В ней и шептаться можно было. А мы подъезжаем.
Профессор захлопнул книжечку.
Выходя, я вспомнил, что и в «Капитанской дочке» есть одно место, там Зурин, обучая Гринева, говорит: «...придешь в местечко, чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов». Но не стал напоминать профессору, уже ясно, что и эта цитата есть у него. Да и что это добавляет?
Профессор уже в тамбуре спросил:
– Значит, бывает так, что закон говорит одно, а люди другое?
– Но, господин профессор, вы же занимаетесь Россией, как же иначе?
Профессор сверился с записной книжечкой, вздохнул:
– Даже у Толстого в «Анне Карениной»: «Дело было до жида, дожидался у жида».
– Язык такой русский, – оправдал я Толстого. – А знаете, на Украине Льва Толстого предлагают называть Левко Пузатый. Они против русификации.
Кубинка! Боже мой, вечность назад я служил тут в ракетных войсках. Но, оставив воспоминания, стал расспрашивать, на каком автобусе ехать до санатория. Отвечали: на двадцать восьмом. Вот и указатель: к двадцать восьмому. Мы пришли с профессором на привокзальную площадь и сели в двадцать восьмой. На всякий случай, и как будто кто меня подтолкнул, я спросил:
– Это двадцать восьмой?
– Нет, это сорок четвертый. А двадцать восьмой теперь ходит с другой стороны.
– Как же так? Написано же двадцать восьмой. И на указателе, и на остановке, и на автобусе.
– Все же знают, – хладнокровно отвечали нам.
На площади с другой стороны мы увидели битком набитый двадцать восьмой. Еле влезли. Тут уж я, конечно, спросил:
– Это двадцать восьмой?
На меня посмотрели как на дурака:
– Вы же садились, видели, в какой садитесь.
– Но вот мы так же сели в двадцать восьмой на той стороне, а оказался сорок четвертый.
– Так зачем вы на ту сторону пошли?








