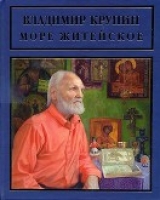
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
Мы были дружны с Лешей с 1979-го года, года пятидесятилетия (всего-навсего!) Шукшина. Выступали на Пикете, в колонии, где снимались кадры «Калины красной», купались и в Бие и в Катуни. В одном месте подъехали к берегу, а в воде торчат бетонные сваи. А ехать в другое место неохота, да и жарища. Леша разделся, говорит: «Я тогда почувствую, что постарел, когда испугаюсь прыгнуть с обрыва в незнакомом месте».
И прыгнул!
И никогда он не постарел. Ему было уже девяносто лет, а он занимался с мальчишками вольной борьбой, проводил чемпионаты России. Находились добрые люди, помогавшие ему. Особенно предприниматель Левашов Юрий Александрович. Помню один такой чемпионат в Подольске. Я ничего не понимаю ни в вольной, ни в невольной борьбе, но мне было так интересно и полезно смотреть эти поединки, в которых побеждали сила и ловкость, но никогда не хитрость. За этим, за честностью борьбы Ванин очень следил.
Наградили победителей, пошли на банкет. Тут надо сказать, что на Лешу всю жизнь вешались женщины. Что называется, было на кого. Он – человек открытый, доверчивый, шел навстречу чувствам. В застольи жена (забыл имя) приревновала к девушке, которая явно набивалась во временные подруги. Леша иронично воспринимал знаки внимания, шутил. А жена взвилась: «Немедленно едем!» – «Зачем? Надо же посидеть с людьми, оказать уважение: чемпионат какой провели». – «Ну и сиди, а я уезжаю. Навсегда! Никогда не вернусь!» И так далее, словом, обычные слова обычной ревнивой жены». «Уезжай», – хладнокровно ответил Леша.
Он посидел еще часик для приличия и засобирался. Пристающей красавице сказал: «Девочка, у тебя и без меня все впереди», – и поехал домой. Дома принял душ, лег в кровать.
Назавтра рассказывал: «Я же алтаец, таежник, охотник: и слух обострен, и чувства. Чую – кто-то есть. Затаился. Жду. Точно! – выползает. Хватаю – она! Вот дура из дур: заревновала до того, что приехала домой и залезла под кровать, чтоб меня подстеречь».
Да, вспоминаю Алексея Ванина – богатырь во всех смыслах! Девяносто лет, а красавец! Статный, крепкий, в полном сознании. Это Алтай, это Россия.
КОРФУ
Холод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город празднично освещен: скоро европейское Рождество. Дома, деревья, изгороди, парапеты мостовой, – все в веселых мигающих лентах огоньков. Ветер и зелень. Длинная безконечная улица. С одной стороны море, с другой залив. Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает дверцами кабинок. Берег покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют его. Вроде бы и тоскливо. Но запахи моря, но простор воды, но осознание, что иду по освобожденной русскими земле, освежали и взбадривали. От восторга, да и от всегдашнего своего мальчишества, залез в море. Еще и поскользнулся на гладких камнях. Идти не смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О чем думаю седой головой? Поднимался по мокрым ступеням. Справа и слева висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень. Даже и фонарики бугенвиллей.
Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них убегал. Стоял, мерз, слушал. Гид: «Турки отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения... Семьдесят процентов русских имен взято у греков. Но мое имя Панайотис в Россию пока не пришло».
Новость: нас не кормят. Надо самим соображать. «Ахи да охи, дела наши плохи, – шутит Саша Богатырев. – Пойдем за едой. Кто в Монрепо, а мы в сельпо. – Рассказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. – Говорят: полный адекванс. Гляжу – фальшак».
Я на скрипящей раскладушке. Боюсь пошевелиться, чтоб не разбудить соседей. Они всю ночь храпели, я сильно кашлял, надеясь, что их храп заглушает для них мой кашель. Встали затемно. Читали утреннее правило. Ехали по ночному городу. Справа темное, белеющее вершинками волн, море, слева, вверху, худющая луна и ковш Белой Медведицы. Полярная звезда успокаивает.
Службу вели приехавшие с нами митрополит и архиепископы, а еще много священников. Поминали и греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи, иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона справа от алтаря и от входа. Молитву ко причащению при выносе Святых Даров читали вслед за архиепископом Евлонием всей церковью.
Слава Богу, причастился.
Потом молебен с акафистом. Пошли к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение – отец родной прилег отдохнуть. И слушает просьбы.
На улице ветер. Опять оторвался от группы. Время есть, сам дойду, без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни – ветер. В лицо, в спину. Особенно сильно у моря. Но если удается поймать затишное место – сразу тепло и хорошо.
Конечно, заблудился. Никто не знает, где отель «Елинос». Это и не удивительно, это не отель, а в лучшем случае фабричное общежитие. А говорили: три звездочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у святого Спиридона, остальное неважно. А ему каково бывало? За ночь я окончательно простыл. И еще и сегодня ночь до перелета в Бари.
Наконец мужчина в годах стал объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что очень далеко, и понял, что давно иду не к отелю, а от него. Он показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнце. Отличный получился марш-бросок. Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов. Вскоре заскакивать перестал, так как убедился, что европейские цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил, правда, за евро булочку, да и ту скормил голубям.
В номере прежняя холодища. Кормить нас никто не собирается. Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную обслугу не волнует, что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономят.
В номере прежняя холодища. Но у Саши кипятильник и кружка. Согрелся кипяточком, в котором растворил дольку шоколада.
Читал благодарственные молитвы.
Какая пропасть между паломниками и туристами! Перед ними все шестерят, а нам сообщают: «У вас же пост», то есть можно нас не кормить.
Но мы счастливы! Мы причастились у святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.
ДВУХСКАТНАЯ КРЫША
На севере Вятского края, там, где водораздел северных и южных рек, то есть рек, которые несут свои воды или к Ледовитому океану или к южным морям, стоял дом с двухскатной крышей. В доме жил мальчик семиклассник Миша. Был хорошим помощником маме и папе, надежным товарищем. Учился хорошо, особенно интересовался географией. Это заметил учитель Павел Иванович. Давал Мише интересные книги о других странах, о природных явлениях.
– Ты уже знаешь, Миша, что наше село стоит как раз на водоразделе рек. А знаешь ли ты, что именно твой дом, он же на пригорке, именно он может быть указателем раздела. Я вообще думаю сделать табличку, чтобы люди знали это природное явление.
– И на нашем доме прибить?
– Именно так.
– Здорово!
В этот день Миша, вернувшись из школы, остановился перед своим домом и как будто впервые его увидел. Дом стоит окнами к востоку, к восходу, и у него двухскатная крыша. Одна сторона крыши обращена на юг, другая на север. Заходят они в дом с запада. У них в доме солнце весь день. С утра приходит в восточное окно, будит, потом идет по часовой стрелке и вначале, до середины дня, нагревает южную сторону. Вот на ней уже и снега почти нет. После обеда солнце переходит на западную сторону, а северную и вовсе не греет. Вон какие сугробы с этой стороны на крыше.
Было не холодно в этот день. Солнышко светило. Шел мелкий-мелкий снежок, снежинки вспыхивали на солнце, будто крохотные легкие зеркальца.
Миша всегда любовался на увеличенные фотографии снежинок. Такие чудесные! Ни за что никому не сделать такие узоры. Только кружевницы как-то успевали запомнить их красоту и создать такие узоры. В районном музее они видели кружева северных мастериц. Особенно восхищенно любовались ими девочки. Может, и они смогут потом вязать кружева.
Миша глядел на крышу своего дома и видел, как снежинки садились на нее. Вот это да, думал он. Две снежинки летели вместе, а упали на разные стороны крыши, и дальше судьба их разделяется навсегда. Одна растает, побежит вместе с ручейком к реке Лузе, а там к Северной Двине и в Белое море, Ледовитый океан. А другая к реке Вятке, Вятка к Каме, Кама к Волге, а Волга впадает в теплое Каспийское море.
Конечно, рассуждал Миша, есть круговорот воды в природе. Вода испаряется, поднимается, замерзает, кристаллизируется, ее носит ветром, и она опять падает на землю.
К ним в школу приходил батюшка и говорил о воде, как о Божием чуде.
– Трудно понять, что такое Святая Троица. Но когда это объяснить на примере из природы, то легко. Вот солнце – Бог Отец, круг. От него идут лучи, как посланники на землю, это Бог Сын. А от них тепло и светло – это Бог Дух Святый. Также и вода нам поможет. Вода – кровь земли. Колодец, родник, река, озеро – все вода. И вот зима, вода замерзает, но что такое лед? Это все та же вода в другом виде. А если воду закипятить, от нее поднимается пар. И это тоже вода, водяной пар. Он легко превращается в воду, вода легко замерзает и так далее.
А раз в году вода, на Богоявление, освящается везде, даже в водопроводе. И стоит в сосудах, не портясь долгое время. Но только если налита с молитвой и чистой совестью. Да, вспомнил Миша, бабушка также говорила. У нее такая банка есть со святой водой, и она из нее Мише наливала в кружечку.
Назавтра Миша с отцом сбрасывали снег с крыши, с северной стороны. За ночь он отвердел, его легко было резать на большие куски. Они с шуршанием ехали вниз и падали, разбиваясь на землю. Некоторые куски Миша специально перебрасывал на южную сторону. Чтобы таяли скорее и текли на юг. Интересно было: снег, составленный из снежинок, умрет, превратится в воду и никогда не вернется?
– Вернется, – весело говорил отец. – Ему наша крыша понравилась. Побудет водой, испарится, поднимется в холод, превратится в снег, и айда по розе ветров на север. Как нам без снега? Не в Африке же ему быть. Почему у нас, Миша, реки чистые? Они по полгода подо льдом очищаются. А представь реки Африки, Индии, да иди, попей из них. Не вернешься.
Они разговаривали о водоразделе.
– Вот повезло нам, пап, да? И табличку Павел Иванович сделает. Что тут раздел вод.
– И что тут живет Миша, который не выучил алгебру. А давай-ка мы новый скворечник соорудим. И старый подремонтируем.
С крыши было далеко видно. Да еще и дом стоял на высоком месте. Далеко на севере синел лес, на юге тоже. А вверху шли облака. Шли, куда повелевал ветер. А ветру кто повелевал? Роза ветров? А розу кто вырастил?
ПУТИ ВОСПИТАНИЯ
Они начинались не по велению государства. При своих небольших знаниях не припомню примера симфонии государства и человека. Государство и общество, государство и партия – куда ни шло. Но человек для государства или помеха, или рабочая (вариант: военная) скотинка. Таким оно его и выращивает. Особенно это видно в теперешние егэ-времена.
Пути воспитания шли так: Семья. Семья и церковь. Семья, церковь и государство. Церковь, семья и государство. Государство и остальное прикладное для него.
Ребенка обучала семья, потом семья и церковь. А государству было выгодно оттянуть детей и от храма и от семьи на свои нужды. Когда ему было воспитывать человека, который «держит сердце высоко, а голову низко»? Легче же быть у власти, когда у подчиненных пустая голова и сытый желудок (вспомним средневековый Китай), когда человека можно дергать за ниточки материальной привязанности к земным заботам. А вот когда церковь выращивала человека безразличного к земным благам, такой человек был земным властям страшен. Сейчас властям нужен человек всеядный в духовной ориентации.
Воспитанием решается участь человека. К чему он приклонится, что будет считать плохим, что хорошим, до какой степени будет управляем или будет мыслящим, легко ли его будет купить, перепродать, кем он будет по характеру: рабом, наемником или сыном по отношению к своим обязанностям. Все это решало воспитание.
Мудрость Божия видна во всем. Вот скворчики: скворец воспитывает справедливость – отталкивает прожорливого птенца и сует червячка слабому. Видел, как кошка не пускала к блюдечку шустрого своего сыночка, пока его пушистая сестричка медленно лакала молоко крохотным розовым язычком. Или: из детства. Приехал к дедушке, помогал плотничать. Садимся обедать. Много братенников, то есть двоюродных братьев. На столе общее блюдо. Я взял ложку и тут же полез ею зачерпнуть. Бра-тенники переглянулись, дедушка кашлянул. Я проглотил ложку и снова полез в блюдо. Дедушка вздохнул, и как ни любил меня, хлопнул своей деревянной ложкой по моему лбу. Не больно, но чувствительно. Урок на всю жизнь – не считай себя лучше других, другие тоже есть хотят, тоже едят заработанное, ты других не лучше.
Русь держалась семейными традициями. Сравним со Спартой, где государство определяло судьбу ребенка. И что было? Культ силы, дух соперничества, порождающий в одних превосходство, в других зависть. В русских семьях старшие заботились о младших. Равенство обеспечивалось равными наделами на пашню, рыбные ловли, сенокосные угодья. Посягательство на собственность каралось.
Христианство на Руси не унизило роль семьи, а возвысило. Семейнокровные отношения сменились религиозно-нравственными. Христианство возвысило женщину, оставив власть мужчине. Любовь внутрисемейная осветилась и укрепилась любовью во Христе.
Образование пришло от священников. Авторитет их был недосягаемо высок. Стоило преподобному Феодосию упрекнуть князя Святослава за веселый пир, как всегда потом при приближении старца застолье стихало.
Книги были только духовными. Они же были и учебными. Евангелие, Часослов, Апостол, Послания. Конечно, обучение грамоте, чтению, письму двигалось медленно, но недостаток ли это? Чтение Псалтири -это и грамотность, и наука жизни, и постижение Божественных начал. «Летопись» Нестора, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона можно назвать мостиком от книг духовных к светским. Но ведь и светские пронизаны христианскими истинами. «Пчела», «Измарагд», «Луг духовный», «Домострой».
Потом, со временем, как-то все заторопилось, засуетилось. Языки надо учить, манеры. Где эти вундеркинды, которые в три-четыре года читали, писали, сочиняли? Сломаны их жизни, эти поддержки раннего чириканья просто повредили. И детям и обществу.
Лучшая педагогика («Поучение Владимира Мономаха») – пример личной жизни. Как иконы в красном углу дома, так и пример поведения в красном углу воспитания. Вставать раньше солнышка, молиться, заботиться о нищих, уповать на Господа. Младшие безусловно подчинялись старшим, но не слепо, сознательно, любовь питалась своей главной энергией – заботой друг о друге. Разве могло быть такое, чтобы не оставили еды для тех, кто не успел к столу?
Всегда было противоречие меж исполнением побуждений совести и страстями жизни. Совесть – духовный голос Божий в человеке – забивалась тягой к материальным благам мира.
Мнение Льва Гумилева о благотворности татаро-монгольского ига для Руси в корне неверно. Какая благотворность, когда ордынцы – хитрейшие восточные люди – ссорили русских князей. В одном княжестве звонят колокола, в соседнем запрещены. В «Слове о погибели земли Русской» говорится о «красно украшенной» храмами Руси. То есть обилие храмов, А значит – икон, книг. Где это? И много ли домонгольских храмов? Спас на Нередице, Покрова на Нерли, Софии, Новгородская и Киевская, Успенский собор во Владимире...
И матерщина у нас от того времени. Стояли тогдашние монголы у церквей, надсмехались над православными: «Идите к своей Матери!»
Да, во все века злоба к России, к русским, как к стране и людям, стоящим у престола Божия. Это самое верное объяснение всех нашествий – ордынских, польско-литовских, наполеоновских, гитлеровских, теперешних.
Знакомый старик, боевой моряк, сказал о новых нападках на нас: «Давно по морде не получали».
То есть, начав разговор о воспитании, закончу этим грубоватым, но точным замечанием моряка. Да ведь и оно от русского воспитания, от любви к родине и от сознания своей силы. Осознание это подкреплено верой в Божие заступничество за православную Россию.
Еще бы молиться нам покрепче да почаще.
КОРАБЛЬ
Вот уже и паспорта отштамповали, и вещи просветили, а на корабль не пускают. Держат в нагретом за день помещении морвокзала. Нам объяснили, что корабль досматривает бригада таможенников. Раньше таких строгостей не было. Ждать тяжело: сидеть почти не на чем, вдобавок жарища. Да еще и курят многие вовсю. С нами группа журналистов, а с них что взять? Хозяева жизни. В группе преимущественно женщины в брюках, и среди этих женщин некурящих нет.
Прямо виски ломит от этого дыма. Подошел к охраннику и попросил его, прямо взмолился, выпустить хотя бы у выхода постоять, а не в помещении.
– А потерпеть не можете? – спросил он. – Скоро уже отшмонают. Уже ваши угощение таможенникам понесли.
– Не могу, голова болит.
Он посторонился, и я вышел в южную майскую ночь. Стоял у решетки ограждения перед водой, видел в ней отражения зеленых, желтых и красных огней, слышал ее хлюпанье о причал и очень хотел поскорее оказаться в своей каюте, бросить сумку и отдраить иллюминатор, в который обязательно польется свежий морской воздух. И услышать команды отчаливания, начало дальней дороги.
Потом, когда отшумит провожающий буксир, когда утомленные расставанием с землей паломники и пассажиры тоже затихнут, выйти на палубу, быть на ней одному, ощущать подошвами большое, умное тело корабля и знать, что и луна и морские глубины соединились для того, чтобы сказать тебе: смотри, смотри, эта красота и мощь земного мира пройдут, старайся запомнить их.
И стоять на носу, слышать, как ударяются о форштевень и раздваиваются волны, как распускаются белые крылья пены, вздымающие корабль. Дышать, дышать простором, глядеть на небо, находить по звездам север, крестить родных и близких и Россию. И обращаться к югу, креститься на него, вспоминая Святую землю, и замирать и надеяться на новую с ней встречу. И радоваться, что она начинает приближаться.
Но как еще далеко и долго. Но не пешком же. Даже не под парусами. И хорошо, что далеко, хорошо, что долго. Будут идти дни и ночи, солнце станет жарче, а луна крупнее. В Черном море будут прыгать дельфины, а в Средиземном заштормит. Далекие острова будут проплывать у горизонта, как во сне. Звезды каждый вечер будут менять расположения, Большая Медведица снизится, Полярная звезда отдалится, и однажды утром покажется, что ты всегда живешь на этом корабле.
* * *
Через две недели. Уже за кормой Святая земля. Корабль уходит в закат. Слева возникает широкая лунная дорога. Сидел на носу, глядел на мощные покатые волны. В памяти слышалось: «Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих». И: «Вся высоты Твоя и волны Твоя на мне проидоша».
На воде голубые стрелы света. Зеленое и золотое холмистых берегов. Не хочется уходить в каюту. Приходит, появляется звездное небо, будто меняется покров над миром. Шум моторов, шум разрезаемой воды, как колыбельная. Но почему-то вдруг глубоко и сокрушенно вздыхаешь.
ТАМАНЬ, ТАМАНЬ
А, может быть, и в самом деле не надо больше ездить в Тамань. Может, и права Надя: «Я не хочу в Тамань, я там буду все время плакать». Может, и мне пора только плакать.
Тамань – самая освещенная в литературе и самая неосвещенная в жизни станица. Во тьме Таманской я искал дом, где меня ждал Виктор Лихоносов. Меня облаяли все таманские собаки, да вдобавок чуть не укусили, да я еще и чуть не выломал чей-то близкий к ветхости забор, зацепившись в темноте обо что-то. Полетел вниз и почуял, что упал на что-то живое, которое шевельнулось и спросило: «Мабуть, Микола?» Мы оба встали. Я разглядел усатого дядьку и спросил, где такой-то дом на такой-то улице? Казак был прост как дитя природы: «Пойдешь от так и от так, трохи так, и зараз утуточки». Давши такую директиву, казак рухнул в темноту на свое прежнее место и исчез. Для семьи до утра, для меня навеки.
А я-то, наивный, считал, что знаю Тамань. Я тыкался и от так и от так, и бормотал строчку из лихоносовской повести: «Теперь Тамань уже не та». То вспоминал студенческие стихи первого года женитьбы: «Табань! Весла суши! Тамань – кругом ни души. “Хочу вас услышать, поэт”. – Кричу. Только эхо в ответ. К другим гребу берегам, к родным, дорогим крестам. Нигде не откликнитесь вы, к звезде не поднять головы. Не новь к отошедшим любовь, но вновь на ладонях кровь».
Тамань, Тамань, как ты велика в моей судьбе, как высоко твое древнее небо! Ничто не сравнимо с тобою. Вот литература! Разве хуже другие берега полуострова, разве не наряднее другие станицы, разве нет в них контрабандистов, да вот только не побывал в них поручик Тенгинского полка.
Ах вы, рабы Божии, Михаил и Виктор, за что ж вы перебежали мне дорогу? Разве не больше у меня прав писать о Тамани? У меня же и жена и теща таманские, а вы – птицы залетные. Один написал, другой влюбился в написанное, да и сам написал. Да и так оба написали, что после вас и не сунешься. Классики – это захватчики. Был в Риме. И что написал? Ничего. Почему? Потому что до меня побывал Гоголь.
Но спасибо Лермонтову: Тамань для меня не тема для литературы, место рождения нашей семьи.
ВЕНИК ЖЕНСКОГО РОДА
А ведь правда, веник похож на маленькую худенькую женщину в платье с широким подолом. Говорят же: подолом подметает. Вон какой сверкающий паркет в залах дворцов, в которых проводились балы. Танцевали и подолами глянец наводили.
Думаю так, вернувшись в Никольское и отыскивая веник. А до того был в Северной Африке. Иду по ней – здрасьте! Наш, никольский скворец прыгает по ней, пасется на солнышке.
– Ах ты, – говорю, – вот ты где ты. Ты тут не загостился? Ты почему к нам весну не несешь? Ты давай, лети в Россию, тащи туда солнышко, а то там без тебя ничего не зацветет.
– А сам-то ты чего здесь? – спрашивает скворчик. – За мной что ли прилетел? Ладно, возвращайся, скажи воробьям, чтоб скворечник освобождали.
Я даже подивился, откуда скворец знает, что у меня зимой в скворечнике воробьи живут.
Ну вот, я вернулся. Прилетел на самолете, крыльев у меня нет. Сразу в Никольское. Все, конечно, запущено. Колодец в снегу, сарай протекает, баня внутри в ледяной плесени. Герань в доме вся пожелтела. И веника никак не найду. Ладно, начну с бани. Неужели сухих дров совсем нет? Нашел, нашел. А топор где? О, этот топор такой лодырь, похлеще веника... Конечно, под лавкой. Рублю дрова. Зря его обзывал лодырем, очень он ухватистый, сноровистый. И меня любит. Пила опять куда-то ускочила.
Нашел за поленницей. Ну вот, украсились золотинками ржавчины. Специально что ли в сырости лежала? Ничего, вот это бревнышко перетрем, прочистишься.
А печь-то как простужена, только что не кашляет. Затопил. Дым в трубу не хочет идти, меня хочет удушить. Глаза от него дерет. Ничего, поплакать полезно. Печка про меня думает: «Поплачь, поплачь, сколько я тут без тебя плакала».
Ну, вроде горит. Аж потрескивает. Дым вытянуло. Пар поднимается от плиты.
Теперь колодец. Конечно, шланг перемерз. Да не на конце, а в середине, где соединение шлангов разного диаметра. Кипячу воду в чайнике, лью кипяток в шланг. И внутрь, и сверху поливаю. Еще вскипятил, еще размораживаю. Вот побежала водичка. Накачиваю воды в бак на лавке и в бак на плите. Воздух в бане чувствительно греется.
Пора и домом заняться. Ну и где ты веник, лучше сказать: метелка, – где ты, вертихвостка? Именно женский у тебя характер. Забился куда-то и смеешься надо мной. Думаешь: «Пусть твоя хозяйка сама надевает русский сарафан, да и метет своим подолом». Нашел! Еще же и совок нужен. А этот совок, прошу прощения, такое нечто. Да, в «совковое» время такой дряни не делали. Были и дешевле и лучше. А этот штамповка пластмассовая, – конечно, уже с трещинами.
Пришел соседский кот. Старый, как и я. Налил ему молочка. То ли кот сытый, то ли молоко совсем не молоко, не ест. Ну ладно, пойдем Ральфа навестим. Тоже старичок. Выполз из будки, мотает тяжелым хвостом. Я им рассказываю, что видел скворца. «Ты, Бусик, только посмей к скворечнику полезть! Только посмей! – Жмурится, мигает, изображает невинного, будто и не лазил к скворечнику. – Я тебе помигаю!»
На кормушке сидит воробей. Всем им рассказываю:
– Вы знаете, как скворцу долго и трудно лететь. Он же мог и в Африке жить остаться, гнездо свить. Нет, нас любит, к нам летит. А мы как встретим? Один лает, другой за скворчатами охотится. А ему как далеко добираться. Два моря, Украина, Белоруссия, по середине Днепра полетит, нигде не остановится, именно к нам стремится. Скворчиху тут найдет. И ты, воробей, перезимовал в скворечнике и честь знай, хозяину место освобождай. Ты же у меня из бани паклю таскаешь. Пожалуйста, не жалко. Со скворцом больше не дерись, правда на его стороне.
Топится баня. В доме чисто. Лампадка горит в красном углу, иконы освещает. Слава Богу, нечисть в дом не заползет. Зеленеет на окне герань. Смирно стоит у порога веник, рядом совок. Топор молодецки воткнулся в пень, готов к новым трудам. Блестит пила, отчищенная работой.
Будем дальше жить. Все вы у меня хорошие, вещи и птицы, и собака, и кот. Просто вы тоскуете без меня, вот для начала после разлуки немного капризничаете. Этоя виноват – уезжал. Но пока не получается не уезжать. А как бы хорошо, сидел бы в валенках на крыльце да кормил бы всех вас.
ДУНАЙСКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Север Болгарии, Силистра, набережная Дуная, осень. Я сижу у стоящего на постаменте танка Т-34 и страдаю. Накануне был торжественный вечер, перешедший в еще более торжественную ночь. Здравиц пять или больше я сказал о русско-болгарской дружбе, мне отвечали тем же. Мои сопровождающие переводчики Ваня и Петя курили и хлопали кофе, делать им было нечего, в Болгарии все, по крайней мере тогда (это было в 1985 году), понимали по-русски. Конечно, пели: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок», конечно, клялись в любви до гроба. Под утро я упал в своем номере, но вскоре вскочил. Меня подняла мысль: я еще не умылся из Дуная.
До чего же я любил Болгарию! Все в ней незабываемо, все такое прекрасное, женственное: и юг, и побережье, и горы. В ушах стояло птичье разноголосие Среберны, в памяти зрения навсегда запечатлелись скальные монастыри, Купрившиц, Сливен, Пловдив, Русе, Жеравна, Велико Тырново, Варна. Теперь вот Силистра, Дунай. Но до Дуная еще надо было пройти метров сто. Я решил посидеть у танка, все-таки свой, уральский, может, даст сил. Дал. Я немножко заправился из посудины под названием «Каберне», вздохнул и огляделся. Осень. Ну, осень – она везде осень. Листья падают под ноги деревьям, шуршат. Хорошо, тихо.
Ощущение счастья охватило меня. Никого не обидел, никому не должен, ни перед кем не виноват. Все проблемы потом, в России, а пока счастье: дружба, братство, любовь и взаимопонимание. Тем более до обеда свобода, безпривязное содержание. Искать не будут, я оставил записку Ване и Пете. Да, ведь Ваня и Петя – это не мужчины Иван и Петр, это женщины, это имена такие женские в Болгарии – Ваня и Петя. Переводчицы мне достались непьющие, но зато непрерывно курящие. Едем с ними – курят без передышки, я погибаю. Вот остановили машину, вышли. «Ваня, кури, пока стоим, Петя». – «На воздухе неинтересно, – отвечают Ваня и Петя, – надо же иногда и подышать». Садимся в машину, они начинают смолить. Да еще обе пьют страшное количество чашек кофе. А так как я кофе совсем не пью, то это для Вани и Пети очень подходит. Они на меня заказывают сразу четыре чашки, а потом эти чашки у меня утаскивают. А заказать чай, по которому тоскую, вроде уже неудобно, поневоле хлещу сухие болгарские вина.
Увы, вчера были не только они. Но сегодня, решаю я, только сухое. Вон его сколько в номере, надарили, целая батарея. Хотя бы до обеда только его. На обеде, а тем более вечером, все равно пить и говорить здравицы о дружбе. Не тосты, именно здравицы. Тосты – слово, нам навязанное. Тем более болгары, поднимая бокалы, говорят: «Наздрав!»
Ну, наздрав, говорил я себе, все более оживляясь от солнечной виноградной лозы. Наздрав! Наздрав-то наздрав, а одному становилось тоскливо. Да, умыться же из Дуная. Я прихватил начатую бутылку и еще одну и быстро пришагал к берегу. Спустился к воде. Недалеко рыбак возился у лодки.
– Доброе утро, брат! – крикнул я.
– Добро утро! – откликнулся он.
Вот с кем выпью. А пока умоюсь. Есть же славянская примета: умыться за год из двенадцати рек – и помолодеешь. А Дунай надо считать за три реки, не меньше: по всему же славянскому миру течет.
– Эй, эй! – услышал я крик. – Не можно, не можно! Химия, химия!
– Что делать, везде экология, – сказал я, подходя к рыбаку.
Мы поздоровались. Рука у него была могучая. Но и я не поддался, тоже крепко тиснул.
– Нож у тебя есть? А то я первую открывал, палец чуть не сломал.
У него были и нож, и штопор, и стаканы. Правда, не граненые, пластмасса. Звуку от чоканья не было, но выпили от души. И допили от души.
– Слушай, – сказал я, – у меня еще одна есть. Но знаешь чего, давай ее выпьем в Румынии. Я везде был, а в Румынии не был. Или пристрелят? А?
– То можно, – сказал рыбак.
Мы столкали лодку на воду, сели. Мотор взревел, мы понеслись к румынскому берегу.
– Вот тут, – кричал я, – наш Святослав, киевский князь – слышал? -сказал: скорее камни со дна Дуная всплывут, скорее хмель утонет, нежели прервется русско-болгарская дружба! Вот тут, именно тут.
– То так! – кричал и кивал головой рыбак.
Обдуваемый ветром, обдаваемый брызгами, я чувствовал себя превосходно. И продолжал просвещать рыбака:
– Отсюда – именно отсюда, понял? – от Суворова ушла депеша, донесение Екатерине, императрице, – слышал? Депеша: «Слава Богу, слава нам, Туртукай взят, и я там». Турок гнал отсюда. А Святослав печенегов изгонял. Его предали, Святослава.
– Предал кто?
– Кто! Свои, кто! Славяне. А в эту войну наши гнали отсюда фашистов, вот! А теперь мы с тобой тут собрались.
Лодка ощутимо ткнулась в отмель, я даже со скамьи слетел. Вытащили лодку на берег. Не успели изъять пробку, как подошли трое румын. Но не пограничники, тоже, может быть, рыбаки. Они по-русски не говорили, рыбак им объяснил, что я из Москвы. Восторг был превосходительный. Но что такое бутылка сухого на пятерых, это несерьезно.
– Гагарин, – кричали румыны, – спутник, дружба! – И все примеряли на меня свои цыганские меховые шапки.
Дружба, оказывается, была не румыно-советская, а нефтепровод «Дружба», спасающий страны Варшавского договора.








