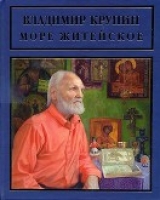
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц)
И ОПЯТЬ ПЕРСИЯ. Замечали, что в так лелеемом патриотами слове «имперская» корень какой? Перс. Македонский, воспитанник Аристотеля, пил с любовницей во дворце столице Персии Персеполисе. Из истории заметно, что политикой занимаются именно развратные женщины, а не порядочные. Вино лилось, факелы пылали. Тут то ли любовница, то ли сам Александр захотел сильных ощущений и швырнул факел во что-то легковоспламеняемое. Пламя понравилось подчиненным, стали поджигать и они. Персеполис сгорел. Ну не дурость?
Сохранилась стела – изображение как цари всего мира идут на поклон к царю персидскому.
Развалины. Дом дервиша. Имя неизвестно, но музей ему стоит. Каково?
Музей Саади. На куполе надгробия голубь. Думал, из мрамора. Нет, живой. Бассейны. В них священные рыбы Саади коричнево-кофейного цвета. Избавляют от болезней.
Все цветет: кусты, клумбы. Много рабочих. Все на государственной службе. Дно бассейнов забросано монетами и даже бумажными ассигнациями. Девушки в черном (Переводчик: «Они в трауре по пророку Али») поворачиваются спиной к воде, бросают монетки через плечо («Говорят при этом желание»).
Здесь Мекка поэзии. Далее в машину. Несемся к могиле Хафиза. Превысили скорость. Оштрафовали на один доллар.
ЖАЛЬ, МАЛО изучается наследие митрополита Платона (Левшина). У Пушкина: «Школы Левшина птенцы». Умнейший воспитатель великого императора Павла (тоже, кстати, замалчиваемого), очень русский, человек огромной учености, великий строитель церковных зданий, организатор училищ, семинарий, преподаватель академий, называемый при жизни «вторым Златоустом и московским апостолом», он оставил в наследие образцы отношения к иноверным. Ему было предписано явиться к императору с поздравлениями при короновании в одно время с римо-католиками. Митрополит попросил доложить императору, что «несовместимо иноверному духовенству представляться благочестивейшему Государю вместе со Св. Синодом и православным духовенством». Павел принял католиков в другое время.
Когда Дидро гордился, что говорит: «Нет Бога», то Платон пристыдил его, сказав, что еще царь Давид сказал о таковых: «“Рече безумен в сердце своем: несть Бог”, – а ты, сказал он французу, – устами таковое произносишь». Пристыженный Дидро вскоре был вынужден удалиться обратно в свою Францию.
Учения Вольтера, Дидро, Аламбера, этих «энциклопедистов» Платон называл «умственной заразой». Их безбожие дорого обошлось Европе. Реки крови, революции, искалеченные государства, – все следствие этой заразы.
ПО РОЗАНОВУ: Вся литература (теперь) захватана евреями. Им мало кошелька: они пришли по душу русскую.
Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами». Писать они не умеют, но при таланте «быть шефами» им и не надо уметь писать. За них все напишут русские, – чего евреи хотят и что им нужно.
Паук один, а десять мух у него в паутине. А были у них крылья, полет. Он же только ползает. Но они мертвы, а он жив. Вот русские и евреи.
Спросим: разве не так и доныне? Так, и больше, чем так. Убивается классика, тем самым уничтожается верное восприятие литературы, театра. Убивается изобразительная сила русской живописи (тем, что не выставляется, не изучается), выползает на стены залов мразь формализма, выдрючивания, искажения облика человека.
ВИДИМО, БОЛЬШЕВИКИ так воспитали пишущих, что те обязаны были говорить мерзости о церкви, славить евреев, говорить гадости о русских. Это в довоенный период. Кого ни возьми. Даже и Паустовский. У Гайдара: «Она теперь по-иному понимала... горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.
Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.
Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец. У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками. Натка спросила у них дорогу» («Военная тайна»).
– ПИСАТЕЛИ ОБ лЮдях пишут. – Об ком? – Не об ком, а об людях.
– Да-да, они накапливают потенциал позитивных перемен, я понял, да.
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК у нас – Пасха. У католиков – Рождество. У нас обязанности, у них права. У них венец всего – нравственность, у нас -безграничность достижения святости. Через покаяние, посты, молитву. У нас Глава церкви – Христос, у них – папа Ватиканский.
И – если бы Святой Дух исходил от Отца и от Сына, зачем бы приходить Сыну Божию на землю? Схождением этим Он соединил человека с небесами, уничтожил смерть, дал надежду на спасение.
У АКУТАГАВЫ рассказ о Толстом и Тургеневе. Они на охоте. Толстой: – «Иван Сергеевич, нельзя убивать птичку». Вернулись. «Софья Андреевна раздвинула тростниковые (бамбуковые) занавески и, стуча деревянными гэта, прошла и села на татами».
Вообще Акутагава – великий писатель.
ПУСТОЕ, ЗРЯШНОЕ дело – возмущаться неустройством жизни, полная глупость – заниматься ее улучшением, полный идиотизм – надеяться на хорошие власти. Уже все ясно. Что ясно? Ясно то, что революции, да и любые перевороты, готовят подлецы, вовлекают в нее идейных и самоотверженных (то есть задуренных), а плодами революции пользуются опять же сволочи, а сама революция продолжается насилием. Что касается демократии, этой системы издевательства над народом, то она переходит в тиранию. Это, конечно, не законы, не правило, это из наблюдений над историей человечества. Вся трепотня о правах человека – это такая хренота, это для дураков. Их количество прибавляется надеждой на улучшение жизни. А в чем улучшение? Дали хлеба – давай и масло. Дали и масло – давай зрелищ. То есть как же не считать таких людей за быдло?
Но народ все-таки есть! И надо бы дать ему главное право – право запрета. Запрет разврата, рекламы, всяких добавок в пищу, делающих человека двуногой скотиной. Никто, конечно, такого права не даст. То есть никто из властей людей за людей не считает. Электорат, биомасса, население, пушечное мясо – вот наши наименования.
И какой отсюда вывод? Такой: надеяться надо только на Бога. Он нас сотворил, Он дал нам свободу выбора, и Он нас не оставит. Но надо же сказать ему, что погибаем без Него. А если не просим, то Он и думает, что нам хорошо со своей свободой.
Какая там свобода? Я раб Твой, Господи! Раб! И это осознание – главное счастье моей жизни.
БОЯТЬСЯ НЕ НАДО ничего, даже Страшного Суда. Как? Очень просто – обезопасить себя от страха, воздвигнуть вокруг себя заслугами праведной жизни «стены иерусалимские». Страшный Суд – это же встреча с Господом. Мы же всю жизнь чаем встречи с Ним. Пусть страшатся те, кто вносил в мир мерзость грехов: насильники, педерасты, лесбиянки, развратники, обжоры, процентщики, лгуны массовой информации, убийцы стариков и детей, пьяницы, завистники, матерщинники, ворюги, лентяи, курильщики, непочетники родителей, – все, кто знал, что Бог есть, но не верил в Него и от этого жил, не боясь Страшного, неизбежного Суда. И, надо добавить, еще те, кто мог и не сделал доброго дела, не помог голодному, не одел страждущего. Вот они-то будут «издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою многою» (Мф. 21, 26).
Так что увидим. Увидим Господа, для встречи с которым единственно живем. (Сретение. После причастия.)
Очень меня утешает апостол, говорящий: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе... судия же мне Господь» (Кор.4, 3-4).
Когда на литургии слышу Блаженства, особенно вот это: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как безчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах», – то я всегда не только себя к этим словам примеряю, а вообще Россию. Смотрите, сколько злобы, напраслины льется на нашу Родину. Великая награда ждет нас. Есть и еще одно изречение: «Не оклеветанные не спасутся», а уж кого более оклеветали, чем Россию? Так что спасемся.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА захватывает умы, ввергает человека в идеологическое рабство. Именно на этой войне мы теряли славянское единство. Украину захватывали, а мы все анекдотики про украинские сникерсы (сало в шоколаде) рассказывали. Чахлики невмерущие захватили малороссов. Чего ж теперь, только на Бога надеяться.
Малороссы подобно евреям жили всегда меж многих огней, привыкли (пришлось) изворачиваться. Кричит с холма: «Кум, яка ныне влада?», то есть кто у власти, чей портрет вешать: Ленина или Петлюры, Сталина или Бандеры? Да уж, где хохол пройдет, там трем евреям делать нечего.
Самая спокойная, самая устойчивая нация – русские. Да, всякие бывают, но всякие – это реакция на отношение к нам.
ЛУННЫЙ ШЛЯХ, луна на полморя. Заманивает корабль золотым сверканием. Корабль отфыркивается пеной, рождаемой от встречи форштевня с волнами, упрямо шлепает своей дорогой. Но вот не выдерживает, сворачивает и идет по серебряной позолоченной красоте, украшая ее пенными кружевами.
Как же так – ни звезд, ни самолетов, ни чаек, кто же видит сверху такую красоту?
Рассветное солнце растворило луну в голубых небесах, высветило берега слева и острова справа. Да, все на все похоже. Вода прозрачна, как байкальская. И берега будто оттуда. А вот скалы как североморские. А вечером, на закате, казалось, что придвинулись к Средиземноморью малиновые Саяны. Потом пошли пологие горы, округлые сопки, совсем как Уральские меж Европой и Азией.
Будто все в мире собралось именно сюда, образуя берега этой купели христианства.
ДВЕ ФРАЗЫ. Поразившие меня, услышанные уже очень давно. Первая: человек начинает умирать с момента своего рождения. И вторая: за первые пять лет своей жизни человек познает мир на девяносто восемь процентов, а в остальное время жизни он познает оставшиеся два процента.
Гляжу снизу, из темноты, на освещенный солнцем купол церкви и думаю: а что же я познал в этих двух процентах? Мир видимый и невидимый? Его власть надо мной и подобными мне?
ДАВНО СОБИРАЛАСЬ придти к нам гроза, издалека посверкивала и погромыхивала и вот – подошла. Но уже ослабевшая. Наступает с запада на восток. С нею тащится дождь, скупой и холодный. Гром скитается под небесным куполом, ищет выхода из него. Гром подхлестывают плетки молний. Но не находит, умолкает, собирает силы. Опять начинает греметь и ходить по небу, все ищет место для выхода в потустороннее пространство. Которое и непонятно и неотвратимо.
Нет, двух процентов нам маловато. Но, опять же, умираем без передышки.
МИР ВО ЗЛЕ лежит. Вот тоже привычная фраза. Да кто ж его клал в это зло? Сам, как свинья в лужу, улегся и хрюкает. Я бы и такого любил, если б он понимал, что надо вставать. Нет, доволен, хрюкает.
Любить не могу пока, но уже все-таки жалею. Нам же тяжелее, чем первым христианам: в аду живем. А они не причащались, пока не было видимых знаков схождения Святаго Духа на Дары.
ПЕРВЫЙ МИР И ВТОРОЙ МИР, Первый мир, допотопный, вышел из воды и потоплен водою. Омыт от грехов. Второй мир, послепотоп-ный, накопил и свои грехи. Хотя Господь дал послепотопным людям возможность в Крещении освобождаться от первородного греха. Более того, послал Сына Своего на Крест за грехи мира. И что дальше? А дальше люди использовали данную им свободу воли для движения в ад. За это мир тоже мог бы быть потоплен, но Господь сохраняет его на День Суда. На огонь. Все в нашем мире сгорит, останется золото и серебро. Увидят люди блеск серебра, подумают: вода, кинутся. А это серебро. И будут издыхать от жажды. Увидят желтое, подумают – хлеб, а это золото. Иди, отгрызи от него.
Будут искать смерти, а смерти у Бога нет. Будут просить горы: падите на нас, а смерти не будет.
А на что мы надеемся? На все про все вопросы бытия отвечено.
Кто виноват? Мы сами. И порядочный человек так и думает.
Что делать? Спасать душу. То, что делали те, кто спасли ее. Мы же уверены, что погибшие за Христа, за Отечество спасены.
А как думать иначе? Если небо совьется, как свиток, в трубочку, если железо будет гореть как бумага, то разве уцелеет в таком пламени дача, дом, рукопись, норковая шуба, айфон, персональный самолет?
Ведь так и будет. Говорил же Лот содомлянам, предупреждал. Говорил же Ной перед потопом, строя ковчег. Кто послушался? Ну и получили должное.
ДАЖЕ И НЕ ЗНАЛ, что Герцен сказал, что в Америку стремятся те, кто не любит свою страну. А Пушкин четко определил Америку как страну совершенно неблагодарную. А вот и американка Айседора Дункан: «Америка – страна бандитов. Американцы сделают что угодно за деньги. Они продадут свои души, своих матерей и своих отцов. Америка больше не моя родина».
КОЛХОЗ «КОММУНАР» был передовым в районе. Стариков и старух брал на содержание, обеспечивал продуктами, дровами, ремонтировал жилье. Обучал в вузах выпускников школ, платил им стипендию. Имел свои мастерские для ремонта тракторов и комбайнов. Урожаи зерновых, картофеля, надои, привесы, – все было образцовым.
И вот – нахлынула на Русь гибель демократии. И вот – болтовня о фермерстве, и вот – вздорожание горючего и запчастей. И вот – пустая касса. Люди стали (а куда денешься) разъезжаться. Председатель слег. И долго болел, чуть ли не два года. Вернулся. Попросил, чтоб его провезли по полям. А они уже все были брошены, зарастали. Он глядел, держался за сердце. Попросил остановить машину. Ему помогли выйти. Он вышел, постоял, что-то хотел сказать, судорожно вдыхал воздух. Зашатался. Его подхватили. А он уже был неживой. Умер от разрыва сердца.
В это время в Кремле восторженно хрипел Ельцын, чмокал Гайдар, а им под команды Новодворской и Тэтчер подвякивали всякие бурбулисы, чубайсы, козыревы, хакамады и немцовы. Под их руководством Россия вымирала по миллиону человек в год. Стаи журналистов, отожравшихся на западные подачки, издевались над «совками» и «ватниками». Европа валила нам за наше золото всю свою заваль, окраины «глотали суверенитет» и изгоняли русских... но что повторять известное. Погибала Россия.
И посреди ее на брошенном русском поле лежал убитый демократами председатель.
Навсегда сказал святой Иоанн Кронштадтский: «Демократия в аду». Истинно так.
В ЦЕРКВИ МАМА И ДОЧКА лет трех, может чуть больше. Мама худенькая, но сильная. Легко ее поднимает, чтобы и она прикладывалась к иконам. Дочка носит с собою куклу и прикасается ею к иконам. Около иконы Божией Матери большие букеты цветов. Крупные белые и красные розы. Дочка притыкает личико куклы к каждому бутону. Но ко всем не успевает, мама отдергивает. Идет служба. Перед причастием мама решительно берет у дочки куклу и прячет в кармане. Обе причащаются. Потом дочка возвращает себе куклу и прикладывает ее к тем розам, к которым до этого не успела приложить.
ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ, что успел узнать и восточный и западный тип человека. Конечно, были они интересны. Еще бы, после стольких лет раздельного бытия. Ну вот, узнал. И стали эти типы мне неинтересны. По отношению к русским что тот, что другой одинаковы: что бы еще такое получить с России. Так что новый вид железного занавеса я бы приветствовал. Чему мы, особенно у Запада, научились? Рекламе, борьбе с перхотью, отравляющим добавкам, разврату, гордыне? Я искренне рад санкциям против нас. Ничего, потерпим. Зато свое производство должно заработать.
АЛЕШИНО МЕСТО
В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алеша, одинокий и, как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Еще и одного глаза у него не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в боковушке, то есть в пристройке с отдельным входом.
Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевание, венчание, крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя подавал кадило, кропило, выносил свечу, нес перед батюшкой чашу с освященной водой – одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с певчими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбался венчающимся и как внимательно и серьезно смотрел на отпеваемых.
Я еще помнил то время, когда Алеша ходил бодро, выдвигая вперед правое плечо, и казалось, что всегда неутомим и бодр, будет служить, но нет, во всем Господь положил предел, Он милостив к нам и дает отдохновение: Алеша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что служить, и он поневоле перестал помогать батюшке.
Никакой пенсии Алеша не получал, даже и не пытался оформить ее. Деньги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нем и не вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам и к Дню Победы в храм приходили открытки, в которых Алешу поздравляли и напоминали, что ему надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды транспорта. Но Алеша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его видел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигуру, но мы, кто знал его давно, любили Алешу, жалели, пытались заговорить с ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку.
Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хромал к скамье в правом притворе и садился на нее. Место его было напротив Распятия. Алеша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие жалели его и просили батюшку, чтобы Алеша обедал с ними. Конечно, батюшка разрешил. Да и много ли Алеша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Иногда немного жареной рыбки, вот и все.
Во время службы Алеша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алешу. Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия», Заповедей Блаженств, Херувимской, и, конечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел «Символ веры» и «Отче наш». Я невольно видел, как он страдал, что не может встать на колени при выносе чаши со Святыми Дарами, при начале причащения.
Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алеше и благословлял его крестом.
А еще у нас в храме была такая бойкая старуха тетя Маша. Очень она была непоседлива. Но и очень богомольна. Объехала много святых мест и продолжала их объезжать.
– Да разве это у нас вынос плащаницы? – говорила она. – Вот в По-чаевской лавре – там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Дивеево, вот там это – да, там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят – запахи!
Когда Алеша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не посетил никаких святых мест, а мог бы – у него, фронтовика, льготы на все виды транспорта. Алеша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, когда не было литургии, Алеша хлопотал в церковной ограде, помогал сторожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб зря не пропадали Алешины льготы, стала брать у него проездные документы. Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алеша совсем занемог, Маша окончательно взяла его проездные себе.
И вот Алеша умер. И как-то так тихо, так умиротворенно, что мы и восприняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал в командировку, потом пришел в храм, и мне сказали, что Алеша умер, уже похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помолился и пошел поставить свечку за его поминовение.
Пришел в храм, а на месте Алеши сидела Маша.
– Наездилась, – сказала она мне. – Буду на Алешином месте сидеть. Теперь уж моя очередь.
Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вернулся и пришел на службу, на Алешином месте сидела новая старуха, не Маша. Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алешино место освободилось для этой старухи.
– С Алешиного места – прямо в рай, – сказала она.
Часто я вспоминаю Алешу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесет кадило батюшке, будет стоять, серьезный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его измученное, сморщенное лицо, когда закричит окунаемый в святую купель крещаемый младенец.
АЛМАЗНАЯ ГОРА
Николо-Перервинский монастырь необыкновенной красоты и благолепия. Службы в нем, конечно, длятся больше, чем в обычной церкви, но они такие молитвенные и благодатные. Усталость проходит, а радость остается. Все церкви монастыря: Иверской иконы Божией Матери, Никольская, Сергиевская, Успенская – все разные и все притягательные. Каждую можно описывать отдельно, но всякое описание слабее личного впечатления.
Лучше я расскажу об одной встрече в этом монастыре, в надвратной церкви иконы Божией Матери Толгской.
Я пришел задолго до литургии. Думал, что ранняя литургия начнется в шесть, а она была в этот день в семь. Но вообще православные знают, как хорошо приходить пораньше, все успеваешь: и памятки написать, и свечи поставить, и к иконам приложиться.
В церкви нас было трое: мужчина среднего возраста, худой и бородатый, женщина в годах да еще внутри в алтаре хлопотал молодой монашек. Женщина неподвижно стояла перед праздничной иконой, мужчина энергично ходил по храму. Вот в алтарь прошел батюшка, по пути нас благословил. Я тихонько спросил у женщины, как зовут батюшку.
Она охотно ответила:
– Его святое имя отец Александр. А есть еще отец, тот тоже Александр. У нас два Александра.
Вдруг мужчина остановился и насмешливо, так мне показалось,
сказал:
– Они знают, как батюшек зовут. Они и матушек всех знают. Они только грехов своих не знают. Им не два, им тридцать два отца Александра не помогут.
Женщина совершенно смиренно кивала головой. Я не знал, что сказать. Но мужчина сам продолжил. Вроде бы он говорил для нее, но получалось, что как бы и для меня.
– Мучения грешников ждут, мучения. Вечные будут мучения, -чуть ли не торжественно возгласил мужчина и разлохматил свою и так лохматую бороду. – Вот есть на том свете, а может и на этом, то мне пока не открыто, алмазная гора. Гора. И к этой горе раз в год прилетает птичка и чистит свой носик. Раз в год. Почистит и улетит, а через год опять прилетит, почистит и улетит. Раз в год. Так вот, – мужчина вознес даже не палец, а перст, – вот эта гора в конце концов сотрется, а мучения грешников не прекратятся. Вечные мучения! Вечные.
Признаться, я даже содрогнулся. Клювиком птички стереть алмазную гору. Вот что такое вечность. Это даже было сильнее юношеского впечатления от прочитанного когда-то выражения «седая вечность». То есть даже вечность поседела, а время не кончилось.
– Или еще есть такая гора песка, – продолжал мужчина. – Тоже гора. И из нее раз в году берут по песчинке. Так вот, когда-то и эту гору перенесут, а мучения грешников не прекратятся.
В церкви начали появляться прихожане. У икон загорались свечи, в церкви становилось светлее.
Из алтаря вышел отец Александр и, проходя к свечному ящику, спросил мужчину:
– Вразумляешь, Алексей?
– Надо, – сурово ответил мужчина. – Нужна профилактика, очень нужна.
ДВЕ ДОЛИ
С обеда зарядил дождь, сенокос остановился. Мой дядя, тракторист, не терпящий безделья, придумал сходить «забрести» пару раз бреднем. Напарником он кликнул соседа Федю. Я попросился с ними.
– Возьмем, – прохрипел сосед Федя, – ведерко таскать. Все, глядишь, рыбка лишняя в хозяйство.
Но дядя сказал, что я иду от нехрен делать, что и без рыбки буду хорош.
Жена дяди, тетя Еня, вынесла из чулана груду рванья.
– Живет бурлачить-то. А ты-то куда?
– Интересно.
– Ну сходи, сбей охотку.
Мы оделись и, как три каторжника (собаки отскакивали), пошли деревней, потом огородами к реке.
Нести бредень пришлось мне. Я радостно тащил его на плече. Перед глазами болтались куски осокоревой коры – поплавки.
С обрыва увидели внизу, на заливных лугах, озера. Спустились пока еще твердой глинистой тропинкой. Шли вдоль берега. Вода в реке лежала неподвижно, легкие дождинки не тревожили ее.
– Дождь с полден на двенадцать ден, – хрипел сосед Федя. – Перебьет тебе, Василий, весь заработок.
Река свернула в сторону – мы пошли прямо и у первого же озера раскрутили бредень, размотали мотню.
– Не боишься ты, Вась, ласкушки сколь заузил, – одобрил сосед Федя. – Мальчика в воду пошлем?
– Какой он мальчик, парень.
Мне было поручено идти сзади бредня, приподнимать мотню, чтоб не тащилась по дну и не порвалась. Так что я оказался необходимым. Я полез в воду.
– Сердце не замочи! – закричал дядя. – Выше сердца в воду не заходи, замерзнешь.
Но «замочить сердце» пришлось: там, где дяде было по грудь, мне по плечи.
– Ничего, молодой, – сказал сосед Федя. Он шел от берега, по колено.
Ноги вязли в иле. Со дна поднималась и расходилась белесая муть. Вода, теплая к вечеру, мягко поддавалась движению.
Дождь перестал, комары вылезли из своих укрытий и набросились на нас. Мы мотали головами, как запряженные лошади.
Видно было, как рыбки охотятся: маленькие рыбки за комарами, большие рыбы – за маленькими. То тут, то там всплескивала вода, и от всплеска в разные стороны стрекала рыбья мелочь. Мы поворачивались на плеск и сильнее налегали на палки.
– Есть, – говорил дядя, – должна быть рыбка.
– Чирей те на язык, – суеверно хрипел сосед Федя. – Господи благослови, должна быть.
Верхняя веревка с поплавками выгнулась полукругом. Перед ней вздрагивали и исчезали кувшинки, как будто их заглатывали. Траву и кувшинки у корня сгибала донная веревка с грузилами.
Мотня набивалась грязью, травой, головками кувшинок. Скользкий раздувшийся пузырь мотни стал даже в воде неподъемно тяжелым, как будто мы чистили дно, а не ловили рыбу.
Однако в выволоченном на пологий берег бредне местами поблескивало. Мы стали разгребать грязь, набрали из мотни несколько сопливых карасиков.
– Сглазил, Васька, – хрипел сосед Федя. – Одну грязь и кокоры чего волокчи? На уху не набурлачим.
Азарт охоты не пропал во мне. Я хватал тугих карасиков, обмывал их у берега, резал пальцы о прямые серпы осоки. Мелочь отпускал, глядя, как брошенная рыбешка шлепалась на воду, переворачивалась и уплывала.
Комары прокусывали одежду. Дядя предложил пробрести маленькое озерцо неподалеку. Надежда на него была плохая, но оно было чистое, без коряг.
Двенадцать метров бредня как раз хватило, чтоб боковым идти по берегам. Я опять шел посередине, два раза всплыл, чуть не бросил палку с привязанной мотней.
Уже стали сводить концы бредня, как мотня ожила, будто ее схватили и трясли изнутри.
– Есть! – крикнул я.
Они и сами поняли, что есть.
– Нижнюю выводи! – орал дядя на соседа.
Сосед Федя орал на меня, я тоже чего-то орал.
Они бросили палки и тянули, перехватывая, сгибаясь до земли, нижнюю веревку, обмотанную черной скользкой травой. Я толкал мотню сзади, боясь, что щука цапнет и отхватит руку.
Это действительно оказалась щука. Бредень она прорвала уже на берегу, когда дядя бил ее снятым сапогом. Федя колотил камнем, который, как он потом говорил, неизвестно откуда взялся.
Я ничего не нашел лучшего, как брякнуться на щуку животом. То ли спасая ее, то ли убивая. Дядя не сдержал замаха и треснул меня сапогом по спине. Федя замах сдержал, но, когда щука меня сбросила, ударил точно.
– Здорова, – заметил дядя. – Не столь длинна, сколь толста. – Он обувался. – Отожралась на карасях.
Федя издал испуганный крик – из порванной мотни вываливались, шлепая хвостами, круглые караси. Мы кинулись и за минуту наполнили ведро. Мелочь, какую брали при первом заходе, сейчас отшвыривали. Я подбирал и бросал в воду мальков.
– Плюнь, – сказал дядя, – все равно подохнут.
– Почему?
– Это озеро высохнет.
– Я в большое перенесу.
– Там своей мелочи пузатой хватает.
– На что она надеялась? – хрипел Федя. – Видно, с реки зашла, карасей лопала, а обратно – шиш. Значит, думала хоть пожрать вдоволь.
– А чего не жрать? – отозвался дядя. Он стягивал дыру в мотне. -Жри: кто знает, что завтра будет.
– Караси до чего жирны! – похвалил Федя. Он крутил рукой в ведре, как будто месил тесто. – А они-то что едят?
– Находят.
– Траву едят, – сказал я.
– Ишь, – захохотал Федя, – посади-ко нас на траву, друг друга жрать начнем.
– Сидели и не жрали, – сказал ему дядя. Встал. – Ну, давай! Еще бы такое озерко, и шабаш.
Такое озерко нашли. Их было много, высыхающих. Меня пожалели, я шел боковым. Сосед Федя, идущий на моем месте, жулил, не помогал волочь бредень, просто шел сзади. Он ждал щуку, вглядывался в толстое, сквозное тело мотни, процеживающее зеленую воду. Шли тихо. Зудели комары, да изредка стукала головой умирающая щука.
Задирая склоненную над водой траву, вытянули бредень. Карасей и на этот раз было много. Федя снял рубаху, завязал рукавом ворот, получился мешок. Я ходил по берегу и пинал мелочь в воду. Многие рыбки уже не перевертывались, уснули. На белые пятна их животов слетались комары. Снизу комаров хватали пока не попавшие в сеть рыбы.
– Полпуда, ей-богу, не меньше, – хрипел Федя. Он выдернул из своих брюк ремень, завязал мешок.
– Зажрут! – не выдержал дядя. Он чистил бредень, вскочил, яростно охлопывая шею и лицо ладонями.
– Ты их не яри, – посоветовал Федя, – отгоняй. Кровь почуют, разъярятся. Спутники запускаем, а комаров, мать-перемать (его тоже кусали), уничтожить не можем.
– А птицы чем будут питаться? – спросил я.
– Травой! – решил Федя.
– Пусть пьют, – сказал дядя, – лишнюю кровь отсосут.
– И то! – сказал Федя. – Пиявок я брезгую.
Я вспомнил, как они били щуку, и сказал:
– А привязать человека к дереву – до смерти искусают. Вот попробуйте. Вот хоть этим бреднем.
– Сам пробуй, – сказал Федя.
Еще забрели.
Темнело. Я окунал шею и лицо, спасаясь от комаров, а заодно греясь: в воздухе похолодало.
Бредень пришел пустой, если не считать мелочи, которую мы вытряхнули и оставили на берегу.








