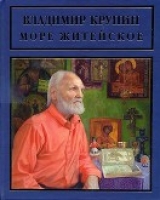
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
Я лег на траву на спину и зажмурился от обилия света. Потом привык, открыл глаза, увидел верхушки сосен, берез, небо, и меня даже качнуло -это вся земля подо мной ощутимо поплыла навстречу бегущим облакам. Это было многократно испытанное состояние, что ты лежишь на палубе корабля среди моря. Даже вспомнились давно забытые юношеские стихи, когда был летом в отпуске, после двух лет армии, оставался еще год, я примчался в свое село. Конечно, где ощутить встречу с ним? На Красной горе. Может быть, тут же и сочинил тогда, обращаясь к родине: «Повстречай меня, повстречай, спой мне песни, что мы не допели. Укачай меня, укачай, я дитя в корабле-колыбели». Конечно, я далеко не первый сравнивал землю с кораблем, а корабль с колыбелью, и недопетое было не у меня одного, но в юности кажется, что так чувствуешь только ты.
Вдруг еще более дальние разговоры услышались, будто деревья, березы, трава их запомнили, сохранили и возвращали. У нас, конечно, были самые сильные старшие братья, мы хвалились ими, созидая свою безопасность. Говорили о том, что в городе торговали пирожками из человеческого мяса. А узнали по ноготку мизинца. Мартошка врал, что ездил на легковой машине и что у него есть ручка, которой можно писать целый месяц без всякой чернильницы.
– Спорим! – кричал он. – На двадцать копеек. Спорим!
Мартошка всегда спорил. Когда мы, вернувшись в село, не желая еще расставаться, шли к фонтану – так называли оставшуюся от царских времен водопроводную вышку, – то Мартошка всегда спорил, что спрыгнет с фонтана, только за десять рублей. Но где нам было взять десять рублей? Так и остался тогда жив Мартошка, а где он сейчас, не знаю. Говорили, что он уехал в ремесленное, там связался со шпаной. Жив ли ты, Мар-тошка, наелся ли досыта?
На вышке, вверху, в круглом помещении находился огромнейший чан. Круглый, сбитый из толстенных плах резервуар. В диаметре метров десять, не меньше. По его краям мы ходили как по тропинке. В чане была зеленая вода. Мартошка раз прыгнул в нее за двадцать копеек. Потом его звали лягушей, такой он был зеленый.
Я очнулся. Так же неслись легкие морские облака, так же клонились им навстречу мачты деревьев, так же серебрились зеленые паруса березовой листвы. Встал, ощущая радостную легкость. Отсюда, под гору, мы бежали к плотине, к заводу. Проскакивали сосняк, ельник, березняк, вылетали на заставленную дубами пойму, а там и плотина, и домики, и карлик пасет гусей. Мы с этим карликом никогда не говорили, но спорили, сколько ему лет.
Бежать по-прежнему не получилось – дорога была выстелена колючими сухими шишками. Чистый когда-то лес был завален гнилым валежником, видно было, что по дороге давно не ездили. Видимо, она теперь в другом месте. Все же переменилось, думал я. И ты другой, и родина. И ты ее, теперешнюю, не знаешь. Да, так мне говорили: не знаешь ты Вятки, оттого и восхищаешься ею. А жил бы все время – хотел бы уехать. Не знаю, отвечал я. И уже не узнаю. Больше того, уже и знать не хочу. Чего я узнаю? Бедность, пьянство, нищету? Для чего? Чтоб возненавидеть демократию? Я ее и в Москве ненавижу. А здесь родина. И она неизменна.
Все так, говорил я себе. Все так. Я подпрыгивал на острых шишках, вскрикивал невольно и попадал на другие. Но чем ты помогаешь родине, кроме восхищения ею? Зачем ты ездишь сюда, зачем все бросаешь и едешь? И отказываешься ехать за границу, а рвешься сюда. Зачем? Ничего же не вернется. И только и будешь рвать свое сердце, глядя, как нашествие на Россию западной заразы калечит твою Родину. Но главное, в чем я честно себе признавался, – это то, что еду сюда как писатель, чтобы слушать язык, родной говор. Это о нашем брате сказано, что ради красного словца не пожалеет родного отца. Вот сейчас в магазине худая, в длинной зеленой кофте, женщина умоляла продавщицу дать ей взаймы. «Я отдам, – стонала она, – отдам. Если не отдам, утоплюсь». – «Лучше сразу иди топись, – отвечала продавщица. – Хоть сразу, хоть маленько погодя.
Я еще головой не ударилась, чтоб тебе взаймы давать. А если ударилась, то не сильно». Вот запомнил, вот записать надо, и что? Женщина от этого не протрезвеет. И так же, как не записать загадку, заданную мужчиной у рынка: «Вот я вас проверю, какой вы вятский. Вот что такое: за уповод поставили четыре кабана?» Когда я ответил, что это означает: за полдня сметали четыре стога, он был очень доволен: не все еще Москва из земляка вышибла. «А я думал, вас Москва в муку смолола».
Ну, вот зеленая пойма. Но где дома, где бараки? Ведь у нас нет ничего долговечнее временных бараков. Я оглядывался. Где я? Все же точно шел, точно вышел.
Снесли бараки, значит. Пойду к плотине, к заводу. Я пришел к речке. Она называлась Юг. Тут она вскоре впадала в реку Кильмезь. Я прошел к устью. Начались ивняки, песок, бело-бархатные лопухи мать-и-мачехи, вот и большая река заблестела. А где плотина? Я вернулся. Нет плотины. А за плотиной был завод. Где он? Может быть, плотину разобрали или снесли водопольем, но как же завод? И где другой завод, крахмалопаточный? Где избы?
Я прошел повыше по речке, продираясь через заросли. Не было даже никаких следов. Ни человеческих, ни коровьих. Тут же тогда стада паслись. Я остановился, чувствуя, что весь разгорелся. Прислушался. Было тихо. Только стучало в висках. Тихо. А почему не взлаивают собаки, не поют петухи? Вдруг бы закричали гуси? Нет, только взбульки-вала в завалах мокрого хвороста речка и иногда шумел вверху, в ветвях елей, ветер.
Вдруг я услышал голоса. Явно ребячьи. Звонкие, веселые. Пошел по осоке и зарослям на их зов. Поднялся по сухому обрыву и вышел к палаткам. На резиновом матраце лежала разогнутая, обложкой кверху, книга «Сборник анекдотов на все случаи жизни», валялись ракетки, мячи. Горел костер, рядом стояли котелки. Меня заметили. Ко мне подошли подростки, поздоровались.
– Вы не знаете... – начал я говорить и оборвал себя: они же совсем еще молодые. – Вы со старшими?
– Да, с тренером.
Уже подходил и тренер. Я спросил его: где же тут заводы, кирпичный и крахмалопаточный, где плотина? Он ничего не знал.
– Вы местный?
– Да. Ходим сюда давно, здесь сборы команд, тренировки.
– Ну не может же быть, – сказал я, – чтоб ничего не осталось. Не может быть.
Ничем они мне помочь не могли и стали продолжать натягивать меж деревьев канаты, чтобы, как я понял, завтра соревноваться, кто быстрее с их помощью одолеет пространство над землей.
Снова я кинулся к берегу Юга. Ну где хотя бы остатки строений, хотя бы остовы гигантских печей, где следы плотины? Нет, ничего не было. Не за что даже было запнуться. Уже ни о чем не думая, я съехал по песку в чистую холодную воду и стал плескать ее на лицо, на голову, на грудь.
Гибель Атлантиды я пережил гораздо легче. Атлантида еще, может быть, всплывет, а моя плотина – никогда. Никогда не будет на свете того кирпичного завода, тех строений, тех землянок. Никогда. И хотя говорят, что никогда не надо говорить «никогда», я говорил себе: никогда ничего не вернется. Все. Надо было уходить, уходить и не оглядываться. Ничего не оставалось за спиной, только воспоминания да новое поколение, играющее в американских актеров.
Я прошел зеленую пойму, заметив вдруг, как усилилось гудение гнуса, прошел по сосняку, совершенно не чувствуя подошвами остроты сухих шишек, и вышел на взгорье. Куда было идти? В прошлом ничего не было, в настоящем ждали зрелища пьянки и ругани. Измученные, печальные, плохо одетые люди. Тени людей. И что им говорить: не пейте, лучше смотрите телевизор. Очень много они там увидят: мордобой, ту же пьянку, разврат и насилие.
Я не шел, а брел, не двигался, а тащил себя по Красной горе. О, как я понимал в эти минуты отшельников, уходящих от мира! Как бы славно – вырыть в обрыве землянку, сбить из глины печурку, натаскать дров и зимовать. Много ли мне надо? Никогда я не хотел ни сладко есть, ни богато жить. Утвердить в красном углу икону и молиться за Россию, за Вятку, лучшую ее часть. Но как уйти от детей? Они уже большие, они давно считают, что я ничего не понимаю в современной жизни, и правильно считают. А как от жены уйти? Да, жену жалко. Но она-то как раз поймет. Что поймет? Что в землянку уйду? Да никуда я не уйду. Так и буду мучиться от осознания своего безсилия чем-то помочь Родине.
Тяжко вздыхал я и заставлял себя вспомнить и помнить слова преподобного Серафима Саровского о том, что прежде, чем кого-то спасать, надо спастись самому. Но опять же, как? Не смотреть, не видеть, не замечать ничего? Отстаньте, я спасаюсь. Да нет, это грубо – конечно, не так. Молиться надо. Смиряться.
В конце концов, это же не трагедия – перенос завода. Выработали глину и переехали. Люди тоже. Плотину снесло, печи разобрали, все же нормально. Но меня потрясло совершенно полное исчезновение той жизни. Всего сорок лет, и как будто тут ничего не было. И что? И так же может исчезнуть что угодно? Да, может. А что делать? Да ничего ты не сделаешь, сказал я себе. Смирись.
Случай для проверки смирения подвернулся тут же. Встреченный у подножия горы явно выпивший мужчина долго и крепко жал мою руку двумя своими и говорил:
– Вы. ведь наша гордость, мы ведь вами гордимся. А скажите, откуда вы берете сюжеты, только честно? Из жизни? Мне можно начистоту, я пойму. Можно даже намеком.
– Конечно, из жизни, – сказал я. – Сейчас вы скажете, что вам не хватает десятки, вот и сюжет.
Он захохотал довольно.
– Ну ты, земеля, видишь насквозь. Только не десятку, меньше.
– У меня таких сюжетов с утра до вечера, да еще и ночь прихватываю. Вот тебе еще сюжет: вчера нанял мужиков сделать помойку. Содрали много, сделали кое-как. Чем не сюжет? Да еще закончить тем, что они напиваются и засыпают у помойки. Интересно, об этом будет читать?
– Вообще-то смешно, – ответил он. – Но разве они у помойки ночевали?
– Это для рассказа. Имею же я право на домысел. Чтоб впечатлило. Чтоб пить перестали. Перестанут?
– Нет, – тут же ответил мужчина. – Прочитают, поржут – и опять.
– И не обидятся даже?
– С чего?
– Еще и скажут: плати, без нас бы не написал. Ну, давай, – я протянул руку. – В церковь приходи, там начали молебен служить, акафист читать иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша». По пятницам.
– И поможет?
– Будешь верить – поможет.
Мы расстались. Накрапывал дождик. Я подумал, что сегодня снова не будет видно луны, хотя полнолуние. Тучи. Опять будет тоскливый, долгий вечер. Опять в селе будет темно, будто оно боится бомбежек и выключает освещение. Мы жили при керосиновых лампах, и то было светлее. То есть безопаснее. Но что я опять ною? Наше нытье – главная радость нашим врагам.
Я обнаружил себя стоящим босиком на главной улице родного села. Мне навстречу двигались трое: двое мужчин вели под руки женщину, насквозь промокшую. Я узнал в ней ту, что просила у продавщицы взаймы и обещала утопиться, если не отдаст. Взгляд женщины был каким-то диковатым и испуганным.
Они остановились.
– Она что, в воду упала? – спросил я.
– Кабы упала, – ответил тот, что был повыше. – Сама сиганула. Мы сидим, пришли отдохнуть. Как раз у часовни, – вы ж видели, у нас новая часовня? Сидим. Она мимо – шасть. Так решительно, прямо деловая. Рыбу, думаем, что ли, ловить? А она – хоп! И булькнула. Как была. Вишь – русалка.
Раздался удар колокола к вечерней службе. Я перекрестился. Женщина подняла на меня глаза.
– Вытащили, – продолжал он рассказывать. – Говорю: Вить, давай подальше от воды отведем, а то опять надумает, а нас не будет. Другие не дураки безплатно нырять.
– Ко-ло-кол, – сказала вдруг женщина с усилием, как говорят дети, заучивая новое слово.
– Да, – сказал я, – ко всенощной. Завтра воскресенье.
– Цер-ковь, – сказала она, деля слово пополам. Она вырвала вдруг свои руки из рук мужчин. Оказалось, что она может стоять сама. – Идем в церковь! – решительно сказала она мне. – Идем! Пусть меня окрестят. Я некрещеная. Будешь у меня крестным! Будешь?
– От этого нельзя отказываться, – сказал я. – Но надо же подготовиться. Очнись, протрезвись, в баню сходи. Давай в следующее воскресенье.
– В воскресенье, – повторила она, – в воскресенье. – И отошла от нас.
– Да не придет она, – сказал один из мужчин.
– Ну, – сказал я, – спасибо, спасли. Теперь вам еще самих себя спасти. Идемте на службу. Ведь без церкви не спастись. – Они как-то засмущались, запереступали ногами. – Ладно, – сказал я, – что вы – дети, вас уговаривать? Прижмет, сами прибежите. Так ведь?
– А как же, – отвечали они, – это уж вот именно, что точно прижмет. Это уж да, а ты как думал.
– Да так и думал, – отвечал я и заторопился. Надо было переодеться к службе. Сегодня служили молебен с акафистом Пресвятой Троице. Впереди было и помазание освященным маслом, и окропление святой водой, и молитвы. И эта молитва, доводящая до слез, которая всегда звучит во мне в тяжелые дни и часы: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет».
«Нельзя, нельзя, – думал я, – нельзя сильно любить жизнь. Любая вспышка гаснет. Любая жизнь кончается. Надо любить вечность. Наше тело смертно, зачем цепляться за него? Оно исчезнет. А душа вечна, надо спасать душу для вечной жизни».
Но как же не любить жизнь, когда она так магнитна во всем? Ведь это именно она тянула меня к себе, когда звала на Красную гору и к плотине. Я шел в детство, на блеск костра на песке, на свет ромашек, на тихое голубое свечение васильков во ржи, надеялся услышать висящее меж землей и облаками серебряное горлышко жаворонка, шел оживить в себе самого себя, чистого и радостного, цеплялся за прошлое, извиняя себя, теперешнего, нахватавшего на душу грехов, и как хорошо, и как целебно вылечила меня исчезнувшая плотина. Так и мы исчезнем. А память о нас – это то, что мы заработаем в земной жизни. Мы все были достойны земного счастья, мы сами его загубили. Кто нас заставлял грешить: пить, курить, материться, кто нас заставлял подражать чужому образу жизни, кто из нас спасал землю от заражения, воду и воздух, кто сражался с бесами, вползшими в каждый дом через цветное стекло, кто? Все возмущались на радость тем же бесам, да все думали, что кто-то нас защитит. Кто? Правительство? Ерунда. Их в каждой эпохе по пять, по десять. Деньги? Но где деньги, там и кровь.
Мы слабы, и безсильны, и безоружны. И не стыдно в этом признаться. Наше спасение только в уповании на Господа. Только. Все остальное перепробовано. Из милосердия к нам, зная нашу слабость, Он выпускает нас на землю на крохотное время и опять забирает к Себе.
«Господи, услыши молитву мою! Не отвержи меня в день скорби, когда воззову к Тебе. Господи, услыши молитву мою!»
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Рука дрожит, сильно дрожит, даже трясется. Но, чтоб ни на кого не думали, когда меня обнаружат, надо записать.
Я умираю. Стал выволакивать старое бревно, чтоб сжечь, перенапрягся и упал. В глазах потемнело, голову обволокло. И сколько лежал, не знаю. Когда очнулся, может, от холода, то всего меня колотила дрожь. Я икал и не мог встать. Костер, на котором сжигал мусор, еле-еле дымился. Пламя могло и ко мне подобраться. Господь пожалел – не доходя меня, оно загасло.
Приполз, именно приполз, в свою избушку. Шарил какие-то лекарства, ничего нет. Попил оттаявшей воды из фляги. И сильно замутило. Стало рвать. Все жилы на шее вытягивало.
Темнеет быстро. Спички не нашел. Но печь все равно не истопить. Свечек бы побольше зажечь для нагрева воздуха, но спичек нет. Наверное, у костра выронил. Но уже туда не доползти, падаю. Ложусь. Тошнит. Рвать нечем. Лягу одетым. Одеяла ледяные. Сердце останавливается, так что могу и не успеть простудой поболеть.
Если не проснусь, простите меня, родные, простите.
Ночью. Замерз окончательно. Но в темноте увидел, что огонек в лампаде живой. Ноги не держат, хватался за спинку кровати, за стол. Еле вспомнил, где свечи. Страшно боялся загасить огонек. Стал читать «Отче наш», губы сводит, зубы стучат. «Господи, умираю!» А всегда просил умереть после покаяния, исповеди, причастия, и вот... Господи, умираю. По грехам моим не осуди меня, дай свечку от лампады зажечь. И зажег! И согрел ею, попеременно держа в руках, и левую ладонь и правую. Потом вставил в подсвечник. Дальше легче. По стенке дошел до кухонного стола, взял тарелок, в них натыкал свечей, которые зажигал от первой. В избушке посветлело, вскоре показалось, что потеплело. Воду пить боялся, несвежая. Даст Бог до утра дожить, закипячу.
«В руце Твои, Господи Боже мой, предаю дух мой.» Ложусь.
Нет, сразу встал. Что-то с головой. Умираю. Обносит слабостью. Стоять – ноги не держат, лежать – тошнит, голова падает в темное, с искорками, пространство. Сижу. К печке привалился – от нее могильный холод: зиму не топили.
Надо завещание написать. Какое завещание, не смеши людей. Ничего ты не нажил. А что есть, какое наследство, на то есть умная жена и хорошие дети.
Уснуть бы. Но лежать тяжело, мысли рвутся, все время только дети и внуки в сознании. Какими-то наплывами.
Вот, оказывается, как умирают. А столько читал о смертях. Так читал же о монахах, молитвенниках. А наш брат, серый народ, умирает простенько. Вот остановится сердце, и все. Господи, спаси и помилуй!
Попробую сидя дремать. Да, уже опять ночь. Что это? Или еще первая не прошла, или новая наступила? Сколько же я тут? Сутки или больше? Какое-то безсознание.
Свечи освещают иконы. Очков нет. На память читаю молитвы, какие помню. Рвется и память. Тысячи раз читал Покаянный канон, а сбиваюсь. Что, моя хваленая память, захромала?
Очнулся. Утро. А утро ли?.. Вроде опять темнеет? Значит, опять вечер? Значит, день проспал? Или пять минут дремал? Нет, не пять: все свечи в тарелках догорели до корешка. Одна, толстая, мерцает. Какое-то тупое безразличие. Перечитал написанное. Смешно: завещание хотел писать. Небо как свиток совьется, земля и все, что на ней, сгорит, всякое железо сгорит, а ты туда же с клочком бумажки.
А ведь вправду вечер. Хорошо, свечей много. Но вряд ли эту холодину поборют. Термометр есть, но нет очков. Может, градусов восемь-десять.
Свечка эта толстая спасла, лампада-то погасла. Где масло, не помню. Место мне среди десяти уродивых дев.
Свечи зажег. Опять все осветилось. Дров у печки нет, дрова на улице, да и все из-под снега. Не разгорятся. Печка страшно холодная, еще и от нее леденит.
Деточки милые, ничего я не нажил, только на одно надеюсь, что будете хоть иногда вспоминать. Я вас очень любил, больше жизни любил. Но почему любил, люблю, с любовью к вам умираю.
Сидел и силился вспомнить число и день недели. Какой год, неважно, да и число тоже, а вот что сегодня? Вторник? Среда? Нельзя мне, если доживу, пропустить Лазареву субботу, Вербное Воскресение и начать жить в Страстной седмице. Но это все за такими горами, на которые нет сил подняться.
Конечно, надорвался от тяжести. Дурак, он и умирает по-дурацки, нельзя же было после стольких операций хвататься за сырое бревно. Тебе говорили: не больше трех килограммов. Мало ли что – батюшка благословил сжечь этот огромный холм отходов от строительства часовни, дома, мусор, говорил же: «Ты потихоньку, сколько успеешь, столько и ладно». Мне же всегда надо больше всех.
Дрожь бьет. Рука, видно по кривой строке, косым буквам, трясется. Озяб. Ногам в ботинках холодно. Вчера промочил.
Так сколько же я здесь? Ночь, две? День, два? Три?
Какое-то тупое состояние. Надо оживать, молиться надо, ведь пропадаю. Есть надо. Но даже мысль о еде вызывает тошноту.
Господи, помоги затопить печку. Ну, уж это стыдно просить: самому надо. Ну-ка соберись, не будь нюней. А то скажут внукам: ваш дедушка и печку не сумел истопить, умер в холодной избе.
Видимо, сегодня среда все-таки. Батюшка обещал приехать за мной утром рано в субботу.
Но чего считать дни, может, и часов не осталось. Как подпирает слабость, которая все сильнее. Наша сила в нашей слабости? Так это о женщинах. А вот если бы тут была жена, и ради нее надо было согреть избу, то как? Ведь истопил бы. Да, ради любимых нашел бы силы. Ну и для себя найди! Ты же любимый у Господа.
Сидел, голова падала, с трудом поднимал. Увидел вдруг в красном углу, на полу, бутылку с лампадным маслом. Начнем оживание с лампады.
Зажег! Вроде и руки не трясутся. Нет, опять вибрируют. В окне на улице день. Все-таки день. По солнцу понимаю, что идет к обеду. Да, солнышко. С ним повеселей.
Ищу телефон. Взмолился, нашел. Но что толку, здесь прочно вне зоны связи. Лес же. В те приезды ходил далеко, к трассе, там соединяло. Сейчас и до часовни не дойти. На телефоне должны быть год, месяц, день и час, и минуты. Но я же без очков. Шарил их, шарил, обезсилел совсем, опять сидел и только дышал.
А как бы дойти до моей березы, поившей меня раньше? Тут на полочке даже сохранился маленький лоточек из нержавейки, который аккуратно вколачивал в ствол. И капало. Днем побыстрее, к вечеру замирало. Да, вот сок земли, выкачанный корнями березы, меня бы оживил.
Мысль о березе, память вкуса о березовом соке меня как-то оживляют. А что? Вставай и иди к природе за лекарством.
Нет, слаб. Ноги не держат. Вот бы костылики.
А ведь и хорошо, что ни часов, ни радио, ни связи нет. Зачем? Светлеет окно – скоро утро, просветлело – день. И пошел день, и идет, и идет, не останавливается. Но какие же долгие ночи!
Так хотелось справиться с этой некрасивой грудой мусора, убрать и у домика, и у часовни. Убирать и все время поглядывать на разливающуюся реку, на этот океан воды. Я на берегу океана. Выброшен умирать.
Тяжело даже ручку в руках держать. Сейчас опять налетало забвение и какое-то бездумие. Выветривается голова, так, что ли?
Не могу понять, лучше мне становится или хуже? Есть совсем не хочу. Да и Великий пост. Но для сил нужно питание.
Пожевал кусочек ржаного хлеба. Сухо, слюны нет, не проглотить. Птицам отдам. Они всегда здесь меня ждут. Зимовали. Да, и зимой сюда приезжал. На лыжах продирался.
Пульс слабый. То изредка частит, то еле-еле напрягается жилка, пульсирует. Да, прижало. Так мне и надо. Даже и сейчас собой занимаюсь, стыдно.
Что, братишечка, страшно помирать? Не страшись: все равно же придется.
Но дети, дети мои милые, внуки, как же вы без меня? Дети мои, кровные и крестные! Внуки! Вот ваш дедушка среди весеннего леса один-одинешенек. Как хотел дожить до того, чтобы видеть вас взрослыми. Видимо, увижу, но уже из другого мира. Если еще заслужу такой чести.
Смею просить: молитесь за меня, обо мне. Боюсь даже не смерти, ответа за грешную жизнь. Грешник «биен будет много». Особенно тот, кто знал, что надо будет ответить не только за дела, даже за каждое слово. Не только бранное, просто праздное. Которое можно было не произносить. А я-то сколько их рассорил! Сколько словесного мусора оставляю. Как бы его сгрести в кучу и сжечь?
Авторучкой пишу, она тоже, как и я, еле живая. Тоже перемерзла. Над свечкой отогрел. А блокнот еще совсем толстый, мне его никогда не исписать.
Солнышко рассиялось. Дай мне сил, светило, Богом созданное.
Нет, пока на улицу не осмелюсь Сижу, валюсь на правый бок, на левый опасаюсь: сразу тяжелеет сердце.
Все-таки потеплело от свечей в моем пристанище. Пальцами ног шевелю. Слушаю себя, везде пусто. Вот оно, великое изречение: в чем только душа держится. Цепляться же ей за что-то надо. Надо что-то съесть. И без воды нельзя. И пить воду из фляги боюсь.
О, и тут батюшка спасает! Оказывается, он привез и поставил у стола пятилитровую бутыль с водой. Не давал мне тащить. А солнышко ее высветило. Прямо на колени перед ней встал, накренил, налил в кружку. Боялся пить: затошнит, но все хорошо. Попил глоточками. Еще попил. Желудок благодарно отозвался. То есть я почувствовал, как вода оживляет меня.
Да, так. Оживляет. Ну, оживи и дальше, чтобы до березы дойти.
Полежу. Плохо, что вода холодная, внутри холодно. Лежи, в могиле еще холоднее.
Полежал. Думал: как понять, что вот именно моя душа пришла в этот мир? Господи, за что мне такая милость и благодать? Я ли должен был видеть эти облака, этот весенний широкий разлив, эти сухие, умирающие травы и эти стрелки-иголочки новых зеленых травинок, я ли?
Господи, как всегда легко и привольно дышалось под небесами Твоими. И какая краткая оказалась жизнь, как мало успел, успел только понять: какая у нас коротенькая жизнь.
Мгновенная.
И в эти мгновения, составляя опись сотворенного Богом мира, в который Он поместил меня, думал, что надо в нее вставить и залетевшего в домик шмеля, который упрямо таранит воздух в избушке, сердится, значит, на меня. Откуда я вдруг взялся в его привычном мире? Или просит выпустить? Ничего, мы с ним подружимся. А как изобразить в словах полет умирающего в полете, догорающего сухого листочка? Вчера же удалось немного разжечь костерик.
Да! Вот где сухие дрова, в костерке. Он загас, но всякие ветки в нем и щепки высохли.
Надо за ними. Не истоплю печь, окачурюсь. Уже и кашель налетает. Тяжелый, сухой. Надрывный. Знаю, под утро будет еще сильнее мучить.
И вот – первая победа. Сходил, еле-еле дотащился до груды мусора, около которой разжигал костер, постоял, отдышался. Запах костра, такой родной с детства, тоже воскрешает. Река еще и еще размахнулась в размерах, подпирает мой высокий берег, а низкий весь затоплен. Островки деревьев.
Притащил дровишек. Мало. Но начать топку – великое дело. Открыл отдушину, вьюшку. Скомкал сухую газету, поджег свечкой. Горит, но дым идет не в трубу, в избу. Это или снегом забило, или ворона гнездо в трубе свила. Плохо дело. Избушка полна дыма, еще и от него кашляю и плачу. Беда, беда. Пришлось дверь открыть, чтоб дым вытягивало. Снова рвал газетки, уже и лучинки к ним добавлял и сухие веточки. Нашел даже за печкой свиток бересты, это материал зажигательный. Трещит, свивается. Дым ахает из дверцы, сквозит из плиты, прямо дымовая завеса, дышать нечем. Как ты, мой шмель, жив ли?
Выполз на крыльцо, дверь оставил открытой. Отдышался, пошагал опять за дровами. Надеялся, что протянет. От костра оглянулся на избу, на трубу, и возликовал – тонюсенькая струйка дыма шла из нее. Победа!
Даже сил прибавилось. Себя урезонивал: набирай дров поменьше. Приковылял с дровишками в избу. В ней, конечно, холодно, но не дымно уже, уже «веселым треском трещит затопленная печь». Вроде и сам повеселел. Пушкин пришелся к месту.
Тяга хорошая. Плита вскоре теплая, теперь горячая уже.
И еще ходил за дровами, и еще. И перестарался. Опять прижало, да так, что думал: все. Стало даже безразлично дальнейшее. Умирать-то, что в теплой, что в холодной избе, разница невелика, не я тут решаю.
Воду пил из бутыли. Но что вода организму, да еще холодная. Рвало опять. Крепко меня прополаскивает.
Сознание опять терял. Все же ненадолго, так как дрова не успели прогореть. Поставил чайник, насовал в печку дровишек, бывших досок, реек, веток.
Стемнело. Ночи страшусь: дрожь опять вернулась. Печь все еще
холодная.
Еще победа – чайник согрелся, заговорил со мной трясущейся крышкой. Чай у меня хороший. Заварил в кружке. Вначале ее ошпарил, прогрел тоже. Вылил из чайника кипяток в умывальник – пар идет, тоже греет воздух. Снова налил чайник, снова на плиту поставил.
Пока он закипал, читал молитвы. И все время стараюсь их читать. Прошу ангела-хранителя гнать от меня плохие мысли, только молитвы. Вот, милый ангел, где мы с тобой. Прости, тебе со мной всегда было несладко.
Воздух в избушке все теплее. Но пол ледяной. Поднял повыше одеяла и подушки. Кашляю до стона.
Понимаю, что меня так за грехи треплет. Хоть бы только не умереть. А и умру. Недавно же, перед поездкой, причащался.
Слава Богу.
Постоянная судорога мыслей, лица, мелькающие в сознании, вина перед всеми, как понять?
А так и понять, что вина перед всеми, то есть перед Богом.
Господи, Твоя воля, пока живу: лампада горит, иконы со мною, в окне часовня, под обрывом растущая мощь прибывающей воды.
Еще и еще натолкал в топку дров, уже кончились. Больше не пойду за ними: темно. Да и хватит, уже плита раскалилась. Пойдут после зимы трещины в стенках печи, неудобно перед батюшкой.
В избе все теплее, а мне все холоднее.
Молитва перед едой. Чай дымится в кружке, подсластил. Размочил хлебушек, потихоньку съел немного. Больше пока не буду, пусть приживется.
Не буду и гадать, какой день, какое число на дворе. Батюшка сказал, что приедет в субботу утром. Может, она завтра и есть.
Хотя бы уснуть.
А как уснуть, когда, как последний салага, налопался крепкого чаю. Прямо, как зэк, чифирил. Но хотя бы ощутимо согрелось внутри. А кашель наваливается с новой силой. До помутнения сознания. Передышки редкие. Будто кто у меня внутри поднимает к горлу волны удушья, которые надо выкашлять. Нос заложило. Сморкаюсь сильно, безполезно.
Так мне и надо. Может, от этих страданий грехи изглаживаются? Чего захотел! Какие это страдания, кожу с тебя, что ли, сдирают?
Вспомнил недавнее прошлое, то есть поход за дровами, в нем сочинилась такая фраза: «И упадает закатный луч на прошлогодние травы». И еще: «Спасение России в пространстве и времени». Вот какой умный гриппозный писака. Кашляй, выкашливай дурь. Да, еще же была фраза, когда глядел на лес: «И вдруг, в завершение дня, солнце озаряет окрестность, и особенно роскошную березу, что любоваться ею можно в любом состоянии». Немножко искусственно. Но уж больно береза была хороша. И любому состоянию помогала.
А интересно, почему «моя» береза не рядом с домиком? Не знаю. Шел с топориком по берегу, выбирал, и все их жалел. То есть березы. Выбрал. Аккуратно подрубил две канавки уголком книзу, в уголок вколотил лоточек, подставил ведерко. Но вообще такое небольшое изъятие сока для дерева не страшно. Например, сосны, добывание из них ценнейшей живицы. Называется подсочка. Такие сосны иногда растут даже лучше тех, которые росли без изъятия живицы.
Перед дорогой к березе, полежу.
Боже мой, какой полежу: потолок черный. Думал, что это закоптил дымом – нет, это ожили мошки. Потолок прямо весь шевелится. На окнах они же, стадами пасутся на стеклах. Что делать? Когда были с братом, и они так же ожили от тепла, то я стоял внизу, подняв над собой таз с водой, а брат, вставши на стол, сметал мошек веником. Вода в тазу становилась черной. Сейчас я один. Куда денешься, хай живут. Меня уж точно переживут.
Опять что-то плоховато. Давно молитвы не читал.
Нет, пока день, надо идти за соком. Побреду. Святителю отче Николае, помоги!
Да, сходил. Тихохонько брел, добрел. Надрезы мои прошлогодние промокли, на них черным-черно муравьев. Сок березовый, их можно понять. Освежил бороздки, заколотил лоточек, подставил банку. Приду часа через два. Нет, так нельзя, надо: «Если даст Бог дожить, приду через два часа».








