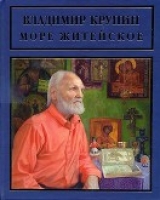
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
– А ну еще! – задоря нас, крикнул Федя.
– Да хватит вам! – не выдержал я. – Совсем уж обжадовели.
– В сам-деле, – согласился дядя, – набурлачились. Да и куда ее складывать, если еще.
– Рубахи снимем.
– Я не сниму, – злобно решил я.
– Тогда я штаны сниму, – решил Федя. – Что мне, в темноте-то по деревне и без штанов просквожу.
– Уходим, – сказал дядя, – Бог через раз улыбается.
Мы смотали на палки тяжелый бредень, понесли его: дядя спереди, я сзади. Кроме того, дядя нес ведро, я – щуку. Федя нес только мешок, потому что свободной рукой поддерживал штаны.
Дядя был выше меня, и с бредня мне текло на плечо. Я замерз.
– Сердце-то замочил, – упрекнул дядя, – дрожишь.
Как будто я был виноват. Он ускорил шаг.
Мы поднялись на обрыв. Сзади, на лугах остались высыхающие озера, полные рыбы. Тяжело шаркала сохнущая на ветру одежда. Комары отступились.
В деревне, в домах готовили ужин. Огонь под таганами давал отблеск на окна, как бы задернутые красными дрожащими занавесками. На дальнем конце деревни сухо и отчетливо щелкала колотушка ночного сторожа.
Пришли.
Хотели развесить сушить бредень, но Федя посоветовал оставить до утра.
Тетя Еня вынесла керосиновую лампу.
Стали, не переодеваясь в сухое, делить. Федя ногой потрогал щуку. Она слабо ущемила сапог.
– Неохота подыхать, – сказал Федя.
Дядя, хакнув, махнул топором.
– Отвернись, – сказал он. Я отвернулся. – Кому?
– Феде.
Феде достался хвост. Дядя отбросил голову в другую сторону, опрокинул ведро на траву. Рыба растеклась небольшим толстым пятном. Федя развязал рубаху. Дядя примерился и разделил кучу надвое. Рыба без-шумно и гладко подавалась под его рукой. Посмотрел, перекинул пару карасей слева направо, потом обратно.
– Смотри, Федь.
– Чего смотреть. Одно к одному.
– Отвернись.
Я отвернулся. Федя сказал:
– На парня-то надо. Слышь, Вася, парень-то лазил.
– В один дом, – сказал Вася.
Тетя Еня поддержала мужа. А мне и не нужна была рыба, я жил у них в гостях, но какая-то обида вдруг резанула меня.
– Ничего мне не надо! – крикнул я и убежал.
БОЧКА
Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы еще служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить (и очень недорого) бочку для засолки. Большую. И десять лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты.
Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и терли морковь, доставали перец-горошек, крупную серую соль. Приходила теща. Дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы счерпывали, а потом, когда капуста учреждалась, лили обратно. Капусту протыкали специальной ореховой палочкой. Через три-четыре дня бочка переставала ворчать, ее тащили на балкон. Там укрывали стегаными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карповной, мир ее праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень ее нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню, потом дно заскребали позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла, и хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки ее закисли.
Лето бочка переживала с трудом, рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была! Осенью за неделю до засолки притащишь ее в ванную, чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клепками – по пальцу, и кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Ее ошпаривали кипятком, мыли с полынью, сушили, потом клали мяту или эвкалиптовых листьев и снова заливали кипятком. Плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме.
Последние два года капуста и вовсе почти пропала, и не от плохого засола, засол у нас исключительный, но не елась она как-то, дарить стало некому, питание вроде улучшилось, на рынке стали бывать...
Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно, кому ее есть, наелись. Все равно пропадет. Да и решили, что бочка пропала. У нее и клепки рассыпались. Но я подумал, вдруг оживет. Собрал бочку, подколотил обручи, поставил под воду. Трое суток оживала бочка, и ожила. Мы спрашивали знакомых, нужна, может, кому. Ведь дубовая, еще сто лет прослужит.
Бочка ждала нового хозяина на балконе. Осень была теплая, бочка вновь рассохлась. Чего она стоит, только место занимает, решили мы, и я вынес бочку на улицу. Поставил ее, но не к мусорным бакам, а отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что еще хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из нее ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе теперь пусто и печально.
ПЛАТОН И ГАЛАКТИОН
Жили-были два моих предка, мои пра-пра-пра и так далее дедушки. Платон и Галактион. Без них бы и меня не было, и детей бы моих, и детей моих детей тоже бы не было. А при каком царе они жили, а, скорее, при царице, до того я не докопался. Да это и не суть важно. Знаю, что дед Платон был православный, а дед Галактион – старовер. Но в семейных преданиях об их разногласиях в вопросах веры не говорится. Вот только говорили, что Галактион иногда задавался, что получше Платона знает Священное Писание, ну как же – старовер, а староверы – большие начет-ники. У них знанию Писания учиться надо. Но были прапрадедушки мои соседями, жили дружно и от души христосовались в светлый праздник Пасхи. Но вот что касается обстоятельств самой жизни, тут разногласия были существенные.
Они не сходились в том, каким образом надо укреплять жизненную силу. Вопрос для любого человека важный, но для крестьянина наиважнейший. Трудности крестьянской жизни может вынести сильный и обязательно здоровый человек. Болезнь для крестьянина хуже смерти. Мертвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход нужен. Деды мои славились здоровьем, носили на плечах не только баранов, но и телят, и жеребят, пахали по десятине, по полторы десятины выкашивали, по два стога в день сметывали. Если читателям это ничего не говорит, скажу, что десятина больше гектара. Да что говорить, вскопайте без отдыха хотя бы три-четыре десятиметровых грядки, притащите домой враз десять арбузов или мешок картошки. А жеребенок потяжелей и того и другого. Однажды, говорит семейное предание, они на себе принесли для мельницы два каменных жернова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трех центнеров. Центнер – сто килограммов. Да, дожил русский писатель до необходимости пояснять читателям, что такое десятина, верста, пуд, сажень, грош, золотник, семитка, гривенник. Неужели булькнут в черные дыры забвения и хомуты, и чересседельники, и подпруги, снопы, серпы... все, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что говорить, не живать уже нам той могучей, спокойной, размеренной русской жизнью, гостившей многие века на русской земле. Но хотя бы свершим благодарный ей поклон.
Попытаемся представить тех былинных богатырей, которыми были наши предки. Да, богатыри, но одновременно и обычные люди. Как мои дедушки. Да, богатыри – не мы.
Конечно, Платон и Галактион, во-первых, дышали не нынешним воздухом, искалеченным не только отходами всяких производств, химией, выхлопами машин, но и забитым радио– и электро-, и эсэмэсволнами. Во-вторых, питание. Не нынешние добавки да суррогаты, да вода, убитая хлоркой, а продукт был все естественный: вода из родника, молоко от своей коровы, мед, мясо, овощи, – все свое. И носили не импортную дрянь-синтетику, а лен. А зимой шубы из овчины, которую сами выделывали.
Так в чем же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе поддержания здоровья. Платон закалял его баней, а Галактион – купанием в проруби. А если наступали такие морозы, что даже и проруби перемерзали, то просто выходил на снег. Снегом и натирался. А когда мороз за сорок и под пятьдесят, то снег как крупный песок. Им Галактион себя так надраивал, таким наждаком, такой теркой, что издали казался факелом на снегу. Так пламенела кожа. Шел домой, отдыхал и выпивал в одиночку полуведерный самовар. Конечно, потом ему гнуть дубовые полозья для саней было в леготку.
Но ведь не менее размалинивался от банного жара и Платон. До того натапливал свою баню-каменку, что войти в нее было страшно – уши горели, хотелось присесть. А когда плескал полным ковшом на камни, вода мгновенно превращалась в пар, и так взрывалась, что отдирало примерзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал без передышки. И обливался чуть ли не кипятком. Прибредал домой, долго лежал на лавке, потом, как и Галактион, выпивал в одиночку такой же полуведерный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал в кузнице раскаленное железо.
Так вот, они всегда спорили, чья система лучше: ледяная, Галактиона, или жаровая, Платона. Получалось, что обе хороши. Ведь и у того и у другого силы были, как говорится, колесные. У того и другого, несмотря на то, что им за пятьдесят, рождались детишки. Да и детишки все крепенькие. Уже галактионовы выбегали в одних порточках с отцом на снег, а платоновы смело, хотя пока и ненадолго, заскакивали в баню.
Вот они сидят и дебатируют. Если это лето, на завалинке, если зима -за самоваром у того или у другого.
– Я только зимой и живу, – говорит Галактион, – чаю мне не наливай, только кипяточку да варенье. Очень я маюсь в жару , кое да как лето пережидаю. Ну, хожу к роднику, в него залезаю, хоть отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую – холод к сердцу идет. Вот идет, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда подремать хожу в погреб.
– Это мне не понять, – отвечает Платон. – Клин клином вышибают, жару жарой. Как ни кипятись солнышко, мою каменку ему не догнать. Так баню раскочегарю, так разогреюсь, что мне потом никакая Африка нипочем. Тебе, брат, в тундре надо жить.
– Оно бы и неплохо. А тебе в пустыне бегать без штанов. Эх, брат, наживешь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле размножается, а в холоде перемерзает. Заразы в холоде нет. К примеру, как с тараканами покончить? Картошку в подпольи закроешь старыми тулупами и – двери настежь. И все! Чисто. Ты ж тоже этим способом пользуешься. А потеплеет и – поползли простуды, змеи и холеры и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя греешь сверху, а что внутри?
– Насквозь пробирает. Как железо в горне.
– Платон, тебе же не засов из себя ковать. – Галактион вставал и задавал свой всегдашний вопрос: – Како чтеши Писание? «Оснежатся вершины в Селмоне»! А о Спасителе? «Были ризы Его блещахуся, яко снег». Яко снег! А Исайя? «Будут грехи ваши багряны, как снег убелю». Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. Вот где разумение! А псалмопевец Давид? Вникни! «Господь дает снег, яко волну».
Платону и возразить нечего. Нет в Писании защиты его бани. Ни до чего не доспорятся, разойдутся. Зимой галактионовы дети и уже и внуки лед на речке колют, запасают, а летом Платоновы наследники веники ломают. Отцы их и деды могучей своей работой людей изумляют. А по субботам взрывы пара, удары веников и довольные крики несутся из бани Платона, а по утрам, и в снег, и в мороз, и в метель идет босой Галактион на завьюженный огород и погружается в снежные перины. А за ним сыплются полуголые наследнички. Он их тешил тем, что брал подмышки и бросал. Кого вдаль, кого вверх. Тот, кто летел по горизонтали, хвалился расстоянием, на которое был заброшен, а тот, кого Галактион подкидывал, хвалился продолжительностью времени в полете. Такие потехи были безопасны, ибо приземлялись они на снежную перину. Снега в вятских пределах были щедрыми, избы заносило по верхние наличники, как говорили, «по самые брови».
И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так: Платон был в городе и купил там книгу. После ужина семейство уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочел название: «Описание трудов и подвигов святого Первозванного Всехвального апостола Андрея». Очень трогательно было описано, почему святой апостол назван Первозванным, и как он шел с именем Христа в северные, то есть в наши, земли. Прошел Херсонес, в коем впоследствии окрестился великий князь Киевский Владимир. Водрузил апостол на кручах днепровских крест. Был и в Новгороде. При этом известии дед Платон от себя сообщил, что предки наши пришли в Вятку именно из новгородских пределов.
– Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика Самого Христа, Господа Бога нашего!
Добрался дед Платон до описания апостолом славянских обычаев. И до того места, как тот был изумлен банями. Тут дед Платон вскочил и побежал к соседу.
Галактион пригласил гостя к столу, но тот, вздымая книгу, объявил, что прочтет, что говорил апостол Андрей, брат первоверховного апостола Петра, о славянах.
– Ну-ко, ну-ко, возгласи.
Платон, разогнув книгу и найдя нужное место, возвысил голос:
– «... И зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия и лежат безгласно». А? Галактион! Слушай апостола, слушай!
Галактион убедился в точности прочитанного, но прочел и дальше:
– «Потом же обольют себя ледяною водою и тако оживут». Тако оживут! – возгласил он. – Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! Тако!
– Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!
– Платон – в снег! – воскликнул Галактион.
Они ударили по рукам в том, что повторят виденное апостолом жаровое и ледяное омовение славян, и вот – в ближайшую субботу свершилось великое событие: Галактион вошел в баню. От температуры и пара хотел выскочить обратно. Но было же рукобитье, он превозмог себя и выдержал. Платон его крепко отхлестал. Но пришла пора страхования и для Платона. Галактион повел его в снега огорода и повалил в сугроб. Закидал снежочком. Платон героически вытерпел насильственное охлаждение, потом вскочил и велел Галактиону вернуться в баню. Сам бежал туда вприпрыжку. И так поддал на радостях, что Галактион запросил пощады. Залег на пол, решив отлежаться, но Платон требовал, чтобы тот лез на полок. И опять брался за веник, в коем березовые ветви были перемежаемы пихтовыми. Хлестал неистово. Галактион просил пощады, но Платон кричал:
– Я не до умертвия. Мы выполняем благословение апостола. Терпи!
Затем же, когда настала очередь снежной купели, Галактион опять
отыгрался. С наслаждением катал соседа по снегу, будто снежную бабу лепил. Тот начинал привыкать к перепадам температуры, а они были градусов в сто, не меньше, но все-таки вырвался и вновь кинулся в свою обожаемую баню. Куда велел снова идти и Галактиону. И таковое действо они свершили еще раз, то есть троекратно. Чувствовали себя после бани превосходно, выпили по два самовара.
– Вот оно! – возглашал Галактион, – вот: будь ты холоден или горяч, но не тепел! Крайности закаляют! Платон! Руку!
А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент – огромные валуны, а на сруб не пожалели лиственницы, никогда не гниющей. Да, строили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, а били из глины с примесью песка и опилок. Это такая технология, которую надо долго объяснять, скажу одно: это не печь, а монолит, в ней металл можно плавить. Поставили баню, а уж белый снег Господь даром посылал. И печь в бане, и сама баня дожили до наполеонова нашествия, до Крымской войны, до революции, перетерпели войну Отечественную и добрались до перестройки. Разве можно было вынести и пережить русским людям такие нападки на матушку Русь без такой бани? Безсчетное количество людей в ней здоровье поправили.
И я в той бане был, и в бане той парился. И на снег под звезды выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскаленного тела до самой земли проседал, и вновь входил я под жаркие своды платоновско-галактионовского чуда. Но как происходило сие, об этом пусть мои пра-пра и так далее внуки своим пра-пра рассказывают.
Спасибо великое святому апостолу Андрею, Всехвальному, Первозванному. И за баню, и за дедушек, и за внуков, и за Русь Святую.
* * *
Послесловие к рассказу – спор стариков, не вошедший в рассказ:
– Галактион, – вразумлял Платон, – зачем это у вас такое слово в пасхальном тропаре – «гробные»? Лучше же «сущим во гробех». Сущие они, не умершие у Бога, а «гробные» – это мертвецы во гробе.
– Спорить с тобой безполезно, – отвечал Галактион. – Что с вас взять -двоеперстие отвергли, противу солнца идете на Крестном ходу.
– А оторвет тебе пальцы, что, креститься не будешь? Да ты хоть и одним крестись. Два пальца – две сути Христа, три – Троица. И не противу мы солнца идем, а навстречу ему. Да и что тебе солнце – Господь Бог?
КРЕСТОХОДЦЫ
Нашу бригаду, или артель, как угодно, сдружил и сплотил Велико-рецкий Крестный ход – это главное чудо Вятской земли. Да разве только Вятской. Уже идет этим ходом вся Россия, все Зарубежье. Ходу свыше шестисот лет. Наши предки дали обет каждый год носить чудотворную икону святителя Николая из Вятки на реку Великую, туда, где она была обретена.
Выполняя этот обет, мы вместе с другими ходим с иконой много лет. Помним, как шло нас человек двести, все друг друга знали, а сейчас идет по пятьдесят и больше тысяч человек. Кто откуда. Вятских, в сравнении с другими, мало. Но вятские выполнили главное дело – сохранили Крестный ход. Вот и наша бригада вся вятская. Все по происхождению сельские, то есть умеющие все делать: и копать, и пилить, и стены класть, и круглое катить, и плоское таскать. И на земле спать, и клещей не бояться.
Нашу бригаду уже давно батюшки благословили уходить заранее вперед, готовить встречу Крестного хода в Горохове. Там, на третий день пути, большая остановка с акафистом святителю Николаю, с двумя молебнами, с погружением в купели, с общим обедом. Но ведь и купели, и обед надо кому-то приготовить. В церкви, пусть она еще без куполов, тоже прибраться.
Горохово было огромным селом: сельсовет, средняя школа, больница, но большевики и сменившие их коммунисты, ненавидя православие, уничтожили его. В прямом смысле. Как фашисты. Жители были насильно изгнаны, переселены, а все избы, все постройки, сожгли. Сгребли бульдозерами в одно место и подожгли. Дым, как крик о помощи, восходил к небесам. И услышал Господь. Увидел наши малые труды и дал сил на дальнейшие. Диву сами даемся, что было и что постепенно становится. В прошлом году разбирали фундамент школы, поражаясь его размерам. Разбирали, потому что нужен кирпич для возрождения церкви. Ее тоже взрывали, но взорвать до конца не смогли.
Пришли мы к костру сегодня раньше обычного. У повара еще и обед не готов. Но дождь остановил работу на плотине, и у нас получился отдых. Мы знаем, что бригадир Анатолий, которого мы в шутку называем вождем, все равно что-нибудь да заставит делать, что-то придумает, но пока он молчит. Усердно, залюбуешься, режет стельки из картонного ящика. Делает он это как любое дело с упреком в наш адрес – вот он не умеет сидеть без работы, а мы умеем. Но мы и молчать умеем, а он все равно молчать долго не будет. И – точно:
– Работу надо видеть, – изрекает он. – Нас послали не на пейзажи пялиться, не чаи распивать. Дрова всегда нужны. Топоры надо подтачивать. Так же и лопаты. А пила! А ножовки! У колуна топорище рас-
шатано. В домик нужно на двери занавеску, на окна сетки. Или вас комары не жрут?
– Есть же препараты, – говорим мы.
– Это химия, это убийство легких. Вы раз в году бываете неделю в лесу, и эту неделю тоже хотите дышать химией, а? Отвечайте. Вы хотите дышать химией? Я лично не хочу, я буду спать на улице. Из принципа.
– Ну и спи, – хладнокровно говорим мы.
– А стыдно не будет?
– С каких коврижек?
– Вы в доме, а человек на улице.
– Ты не человек, ты бригадир, – говорит поэт Толя. – Ты вообще даже вождь. Парни, давайте проголосуем за параграф: вождь, как папа римский, всегда прав. Есть предложение. Нет возражений? Все, командуй.
Такая наша голосовка устраивает бригадира. И он сразу находит, в чем нас сделать виноватыми перед ним и окружающим миром.
– Ваша химия убивает не только вас, но и комаров. А?
– И что?
– Младшие братья, вот что. Питание для птиц. А птицы уничтожают вредителей леса. Также комары и мошки – корм для рыб.
– А рыб уничтожаем мы.
– Прошу без этих ваших поддевок.
– Поддевка – это из разряда одежды.
– Опять! На вашем бы месте я б разделся, хотя б до пояса, и выставил бы себя...
– На обозрение? Или на оборзение?
– На произвол кровососущих. Надо чаще помнить подвиги святых. Мы не святые, – назидает вождь, – но помнить надо. – После паузы он встает и просвещает нас на случай встречи с клещом. – Клещи сидят на краях веток у дороги, на самых кончиках листьев и держат передние лапки вытянутыми и готовыми для захвата. Вот так.
Вождь полуприсел, выдвинул вперед крепкие руки с растопыренными, полусогнутыми пальцами, и очень талантливо изобразил как клещ ждет добычу.
–А я изображу жертву, – говорит Толя. – Буду проходить мимо, цепляйся. – Он в самом деле проходит перед вождем. – Почему не вцепился? Братья! Величие вождя я вижу даже в лекции о поведении клещей. Я шел как на параде, как мимо трибуны. Но на ней стоял не клещ, а вождь в виде клеща. В виде, сечете? То есть голограмма клеща никак не могла наложиться на реального вождя.
– Ну, ребенки, опять ваша демагогия.
– За стол, – зовет повар.
* * *
В этот раз доехали только до поворота. Свернули, сразу сели. Еле вытащили. Еще одну машину на трассе тормознули, перегрузили вещи и... тоже сели. И ее вытащили. Тогда все навьючили на себя – и еду, и питье, и инструменты и потащились знакомой дорогой. Двенадцать километров. Грязища. Идем опять мы, как и ходили все эти годы: бригадир наш крановщик Анатолий и Толя, поэт, идут работяги, два Александра, один с бородой, другой без, идет, опять же поэт, Леша, а с ним впервые идет сыночек семилеток Ваня, инженер Володя, иду и я, аз многогрешный. Год мы не виделись. Год, а как его и не было, этого года. Ибо главное в нашей жизни -Великорецкий Крестный ход. А мы его авангард.
Но надо же отметить радость встречи. Как без этого? Русские же люди!
– Бригадир! Вождь! – взываем мы. – Год не виделись! Ведь мы же фактически еще и не встретились!
– А где присесть? – резонно отвечает он. – Мокрота же. Не отмечать же на ходу.
– А что особенного, – говорит Толя-поэт, – Хемингуэй работал стоя и никогда не знал простоя. Вон лесок впереди. Под елочкой-то как хорошо.
Анатолий назидает, уводя в сторону:
– Маргаритушка прошла семьдесят раз, у меня посоха для зарубок не хватит. – У Анатолия на посохе пока четыре зарубки. – Вот Ванечка сможет пройти много раз. Хорошо, что ты с этих лет пошел. Да, Иван?
Ваня пока стесняется говорить, жмется к отцу. Тот называет его мудрено:
– Дружище, отвечай: к тебе глаголют. Мы входили в веру через терния и потери, через сомнения, а ты можешь войти органически, через радость.
– Леша, от сына отстань, – советует Толя и говорит Ване: – Скажи папаше резко, Вань: «В такую грязь, в такую рань меня, папаша, не бол-вань». Ведь верно, Вань?
– Ой, ребенки, – смеется Анатолий.
– Толя! – вскрикивает Саша. Подскакивает к Толе и достает у него из под ног пестрого шмеля. – Шмелик какой хорошенький, красивый, мирное какое животное. Лапками умывается. Полетел!
На возвышенном месте посуше, идти полегче. Анатолий назидает:
– Кто без покаяния умирает, а паче того без отпевания, двадцать мытарств проходит. Весь мир будет их проходить. Что видим в мире? Безпредел, ужас! Что видим: воровство, пьянка, разврат! – Он останавливается. – Ребенки, мы так не дойдем. Надо акафист святителю Николаю читать. Крестный-то ход Никольский.
Останавливаемся, снимаем с плеч груз. Читаем акафист. Пытаемся даже петь, но врем в распеве и ударениях.
– Ничего. В прошлом годе так же, не сразу спелись. А вы, ребенки, за зиму сколько хоть раз акафист читали?
– Чего с интеллигентов спрашивать? – вопрошает Толя. – Пойду солому поджигать.
Толя вообще поджигатель и разжигатель костров. Вскоре от оставленных груд соломы начинает идти густой серо-белый дым. Его ветром несет на нас. Задыхаемся, сердимся на поэта, он хладнокровно объясняет:
– Это дымовая завеса, я вас маскирую, скрываю. С самолета чтоб не видно.
– От Бога ты нигде не скроешься, – наставляет Анатолий.
– Смотрите! – Толя весь озаряется. – Впервые такое вижу! Целое поле анютиных глазок. Да-а. Где бодрый серп гулял и красовался колос, теперь... – запинается.
– Теперь простор везде и российские поля рождают быстрых разумом Платонов, – привычно поддевает Леша.
– Вот у этого затона я прочел всего Платона, – отбивается Толя.
Оба Александра и Ваня рвут цветы. К иконе Казанской Божией Матери. Образ Ее сохранился в Горохове на стене колокольни.
Саша оцарапал палец. Толя, он врач, перевязывает:
– Тут операция нужна, тут надо обработать спиртом. Ты понял, бригадир? Тебе нужны здоровые работники, или как? Я хирург. А хирург – это взбесившийся терапевт. – И снова подговаривается к выпивке: – Сжег я средь поля сырые снопы и только за стопку сойду со стопы. Нам не для пьянки, а чтоб форму не потерять.
– Лучше сойди со стопы и сядь, в ногах правды нет, – уклоняется Анатолий, – вся правда в Евангелии.
Идем дальше. Дождя уже нет. Ветерок обдувает, сушит. Тяжело, но уже увиделась вдали гороховская колокольня. Поем «Царю Небесный». Идти повеселее. Пригорок, низина, кладбище, снова вверх. Дошли. Бригадир выдержал характер, не дал расслабиться.
В Горохово «обходим владенья свои». Купели, конечно, сметены, смыты водополицей. Ничего, наладим, на то и посланы. У родника сделаны три трубы. Из двух льются хорошие струйки, из крайней к лесу чуть-чуть. С радостью пьем, умываемся, благодать! Вершинки леса осветились, это солнышко старается пробиться к нам сквозь тучи. У Саши прямо сияющее лицо.
– Толя, помнишь, в прошлый год ты не хотел погружаться в источник?
Саша напоминает случай из нашей жизни в прошлый Крестный ход. Мы оборудовали купели и погружались по очереди. А Толя потерял образок святителя Николая и сказал, что это ему знак – запрещение. «Без него не пойду». Мы все осмотрели, обыскали – нет образочка. А вечером вернулись – глядим – да вот же он, над источником! Чудо!
– Да, – кряхтит Толя, – не очень-то я был рад этому чуду, боялся холода. Но! Пришлось! Зато доселе жив! Перезимовал.
Соображаем, чем займемся в первую очередь, чем во вторую.
* * *
Сидим у костра счастливые. «Милка сшила мне рубашку из крапивного мешка, чтобы тело не болело и не тумкала башка», – сообщает Толя скорее всего сочиненную им самим частушку. – Очень вятское выражение: «не тумкала башка», в каких еще странах и континентах до этого дотумкались?
Начинается турнир поэтов.
– Пятистопный ямб, – объявляет Толя. – Как поздно я, мой друг, на родину приехал, как дорого себе свободу я купил. Хожу-брожу в лугах, и нет ни в чем утехи, пустеет на полях: «октябрь уж наступил».
– Я знаю, чем отвечу, – говорит Анатолий. – Обращение апостола Иоанна к семи церквям. «Ангелу Лаодикийской церкви...»
– Прочтешь в церкви, когда пойдем на вечернее правило, – невежливо перебивает Толя. Встает. Он в тельняшке: – По колокольной гулкой сини, по ржанью троечных коней, как я тоскую по России, как горько плачу я по ней».
– А почему не четверочных, не пятерочных? – ехидно замечает Леша. Ване это очень нравится. Он увлеченно перерубает ветки. Смотрит на отца восхищенно. Отец читает о монахе. – Это пока не на бумаге, пока в голове.
– Так нельзя, – укоряет Анатолий. – Нельзя надеяться на память, она ненадежна. Душа, конечно, помнит, но она не пишет. Монах может и согрешить, но украсть не может, убить не может, не завидует, к экстрасенсу не пойдет. Это все отсекается.
Громко кричит коростель. Пасмурный закат. Анатолий:
– Ох, я в детстве убил коростеля, вот грех. С тех пор как услышу.
– Это его праправнук, он тебе отомстит за предка, – предсказывает Леша.
– Чего ж, заслужил. Он упал, я подобрал и заплакал: какая красивая птица была. Да-а.
– Сейчас-то не плачь, не надо, лучше наливай, да помянем твоего коростеля, пухом стала ему земля, – говорит Толя. – А вятское название коростеля – дергач, и ты, бригадир, не плачь.
– Песню знал, забыл, знаете, вот такие слова: «Наискосок, пулей в висок», не знаете? – спрашивает Анатолий.
– И закопают в песок? – спрашивает Толя. – А мне дай стакан и съестного кусок. И вообще, я хочу напиться и куснуть, а потом уснуть.
– Под темным дубом, которые здесь не растут? – спрашивает повар.
Толя находится:
– А вы-то на что? Так что склоняйтесь и шумите надо мной, темные дубы.
Леша уводит Ваню в домик спать. Закат краснеет. Идем в храм, в котором уже есть и крыша, и закрыты щитами окна. Свечи гасятся сквозняком. Читаем и правило и акафист святителю Николаю. Картонные иконочки укрепляем на бывшей школьной парте. Около них Саша успел уже положить букетики анютиных глазок. Пламя на свечках мечется от сквозняков. Заходим в колокольню, читаем молитвы у сохранившейся на стене фреске трем святителям: Иоанну Златоустому, Василию Великому, Григорию Богослову. Вспоминаем, как тут по два лета ночевали. То-то намерзлись.
Возвращаемся к костру. Закат перемещается к востоку встречать восход. Щедрый к ночи бригадир разливает, говорит Толе: «Пей первым, ты больше видел горя».
Ночью изжога, безсонница. Выходил. Так хорошо дышится. Светлая прохлада. Комары молчат. Скрипит коростель. Под утро оживил костер, поставил чайник. Захожу в избушку с романсом: «Утро туманное, утро холодное, вставай, бригада, вставай, голодная». Толя, просыпаясь: «Меня остаканьте, чтоб не думать о Канте. Я храпел?» – «Храпели все, кроме тебя».
Идем к роднику. Роса, холод. Шли только умыться. Но пришли, стали работать. «Нам денег не надо, работу давай», – это бравый бригадир. Меня гонит делать завтрак.
– Чай будешь заваривать, – наставляет он, – воду не прокарауль. До кипения не доводи. Слушай шум. Зашумит как пчелиный улей, заваривай. Смородины добавь.
Иду через густо-зеленый луг с полянками золотых купавок, с ароматной белизной черемух. Поднимешь глаза – лес, ели как остроконечные шлемы древнего воинства. О, как весь год рвалось сюда сердце и так хочется вновь надышаться еще на год.








