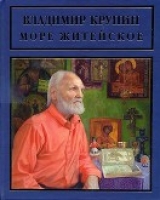
Текст книги "Море житейское"
Автор книги: Владимир Крупин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц)
Именно к Володе привязался большой рыжий пес. Бежал с нами от Великорецкого. Его любили, и он не голодал. Но всегда возвращался к Володе. Володя ему очень радовался, дал имя Пират и считал своим. «Бабушка ругать не будет, он хороший».
Но покинул нас Пират. Видно, не хотелось ему возвращаться, но что делать – служба. Подпрыгнул перед Володей, положил лапы на плечи и помчался обратно. Ночевали в Мурыгино. Постелили нам на полу. Я лег с краю, быстро уснул. Сплю я безпокойно, одеяло всегда сползает, и я слышал, как Володя все время поправляет его.
А назавтра Володечка ушел. Уже начались окраины Вятки. Он увидел автобус: «Ой, мой номер. – И жалобно добавил: – Я ведь поехал, дядя Вова». – И убежал.
Очень мне стало без него грустно. Ничего не знаю о нем, неловко было расспрашивать. С бабушкой живет, траву-сныть батюшки Серафима ей понес. Рада будет.
* * *
Резиновый сапог на что годится? Недалеко от переправы через Грядо-вицу есть родник. Старухам к нему не подобраться. Молодой парень говорит: «Сейчас Медянский бор, большой будет переход, пить захочется, пойду воды наберу. Кому принести?» Старухи обрадовались, тянут ему бутылочки. По литру, по полтора. Он покрутил головой: «Ладно, чего-нибудь придумаем». Ушел с другом. Минут через двадцать возвращаются, тащат в руках каждый по резиновому сапогу. Видно, что тащат с усилием – еще
бы, в каждом сапоге литров по десять родниковой воды. «С песком промыли, ополоснули пять раз. Подходи, получай фронтовые сто грамм». Разливают воду в бутылочки. К каждому очередь.
Разговоры на привале
Женщина показывает фотографии: «Вот с какими бесами работаю, специально взяла показать». – «Дальше не неси, закопай. Или сожги, или утопи. Конечно, и за них молись».
Другая: «А у меня! Соседка читает мне про секту, специально приходит. От церкви отговаривает. Мол, у них лучше. Лечат болезни. Делают испускание ключей на восток. Я прямо плюнула: всегда на запад надо делать испускание».
Старик: «На фронте, на марше, сколь пить захотел, увидел огромную лужу, выскочил из строя, упал к краю лужи и внападку стал пить. Вдруг на меня гуси. Испугался сколь. А как пить не захочешь, когда на голове рама пулемета, на плечах колеса. Да я еще катки потерял, пришлось вернуться. Нашел. Присел, лучше б не сидеть, а то сразу кинуло в сон. Очнулся от пальбы. Догонять! Догнал. Там не поймешь, чего было, кто стрелял. Темно уже. Окопались, пристреливаемся. Они кричат: “Не стреляйте, сдаемся!” – Выходят, сдаются. Я так курить хотел – уши пухнут. “Раухен”, – немцу говорю. Он угощает. И сам курит. Я и автомат забыл – курю... Да-а. Меня два раза в звании повышали, два раза разжаловали. Раз опять послали с термосом за ужином. Навьючился на кухне, возвращаюсь – заблудился. Пришел. к немцам. Слышу: гыр-гыр-гыр. Под самый нос пришел. Потихоньку, потихоньку в сторону. Тут наши как хватили по этому месту, ударили. Думаю – все! Сел на землю, достал ложку из сапога, хоть перед смертью поем. Каша не больно горяча, съел с котелок. Поел и обстрел перестал. Пришел. “Так это мы по тебе стреляли? Дак как ты жив?” Мне бы признаться, что кашу ел, а стыдно, вроде как украдкой поел. Говорю: “В воронке пролежал”. Тут возчик капусту гнилую везет, вся расползается, а пленные у него хватают с воза и в штаны прячут, штаны мокрые. Их кормили. Один дорвался, ведро киселя выпил, живот схватило. После ранений я фронты менял: Третий Белорусский, Первый Прибалтийский, Второй Прибалтийский. В хуторах подземелья, из домов подземные ходы. Когда успели нарыть? Значит, знали, что придем».
С нами идет бледная, красивая Катя. Не ест ничего совершенно. И ни с кем ни слова. Зоя ей говорит: «У тебя сапожки рваные, а у меня запасные есть, возьми, пожалуйста». Катя надменно: «Вы все сказали? Я могу уйти?» И ушла. «Да она блаженная». – «Не блаженная, блажная. Если даже батюшку не слушает. Она же “святая”, где нам до нее». – «Ой, не осуждай». – «Прости, не буду».
– Летом с ребятишками одни тревоги. Иду на работу, знаю, что все равно на речку убегут. Прошу: вернитесь хоть пораньше, чтоб я видела, что вы не утонули. На работе все сердце изорвется.
– А вот вроде как шутят, когда наказывают: утонешь – домой не приходи. А ведь утопленники чаще всех других покойников приходят. И у Пушкина то же, у Гоголя.
– Старик плел лапти. Да какие! Воду не пропускали. Двадцать шесть пар наплел, конфисковали, увезли в передовой колхоз «Красный октябрь». А старик какой был знаменитый: и гончар, и печник. Горшки у него были, сейчас они вообще на вес золота. А печи клал! Уже изба вся разрушилась, сгнила, а его печь стоит под всеми дождями-снегами, подходи, затапливай! Когда лапти отобрали, он сказал: «Все, больше на дядю не работаю». И слег. И не встал.
– А я еще ходила, когда нас гоняли. Уже у Великорецкого сцапали и в машину покидали, в кузов. У меня сумочку из рук вырвали. Там туфлешки да кофтешка. И ведь отобрали. Завезли в лес: «Вылезайте». Мы вылезли, уже темно. «А куда идти, где дорога?» – «Пусть вам Бог дорогу укажет», -и уехали. А так и вышло: мы нисколько не заблудились, а у них машина заглохла. Их комары всю ночь шпиговали, они ж городские, непривычные.
Нам же и жаловались. Говорят: нас заставляли. А сами? Да. Вот я заметила по жизни: кто строил дома на месте кладбищ, в тюрьмы пошли, а кто безвинных сажал, те спивались и с ума сходили. На хлыновском кладбище постройки. Священник из собора Александра Невского сколь был против строительства. Посадили. Татьяну, дочь его, я старухой помню, рассказывала мне, что ее носили на руках на свидание. Он ей все пальчики перецеловал. Больше не видела.
– У мамы был сарафан из ненашего шелка, подарил ухажер. А ее-то мать, моя бабушка, спряла сама и выткала льняное полотно и из него сарафан сшила. Все ахнули, вот какой сарафан. «Носи, дочка». Так мама больше разу не надела тот, иностранный.
– Ухажеру вернула?
– Не знаю, врать не хочу.
– Ты говоришь, милиция гоняла. Так она какая ни есть, а своя. А вот иностранные фотографы – эти страшней. Чем? Идем через лес, много валежника было, тогда еще не расчищали. Еле прокарабкиваемся. И вот эти бесы, прости, Господи, с фотоаппаратами заходят вперед и подстерегают, когда женщина или там девушка будет через дерево перешагивать. Когда ногу поднимет, а? До какого сраму эта Европа дошла! На Крестном ходе им только одно интересно. И в Горохове погружались, они тоже снимали, в кустах прятались. Хорошо теперь, сделали ограждения.
– Они русских как туземцев снимают. У них и Пасхи-то нет, что с них взять, несчастные. Надо читать за них акафист «Умягчение злых сердец».
– Новый надо акафист написать: «О просвещении глупых европейских умов».
– Да и свой-то просветить.
– Неверующему говорит батюшка: – «У тебя пять детей, один слепой. Кого больше всего жалко? Слепого? Конечно! Так и тебя больше всего жалко. Скажи, как без Бога жить, как тыкаться в потемках и умереть в обидах? Говоришь – пробовала молиться, и ничего в жизни лучше не становится? Да ты молись, чтоб хотя бы хуже не было!»
– Осипов, знаете? Алексей Ильич говорит, что жизнь земная не курорт, а больница. Я вот тоже думаю, что грехи надо не грехами называть, а болезнями. Только вот он зря вроде как успокаивает, что ада нет. Есть. Я за одно объядение попаду. Удержаться не могу, ем многовато. Вроде и постное, а все же еда. Конечно, болезнь. Думаю, какие бы таблетки.
– Голод придет, быстро вылечишься.
– Без храма не спастись. Тело моют в бане, душу моют в храме. И молиться всегда. Стол без молитвы – это стойло для скота. И работать без молитвы – это в робота превращаться.
В Медянах позвали за стол. С нам батюшка отец Анатолий. Торопится поесть и встать. Зоя:
– Ты чего, батюшка, из-за стола рвешься? Ты сиди, разъедайся, солидность наращивай. С нами поговори. Вот почему свечки такие дорогие?
Батюшка отвечает:
– Может, это восковые. Конечно, они дороже. Горят аккуратно, неслышно, тихо, запах медовый, а химические трещат, воздух травят. Свиной жир в них добавляют. Нет, я поросятину в церкви жечь не дам.
– А вот, батюшка, у нас отец благочинный, прости, Господи, все всем разрешает: и самоубийцу отпевать разрешает, и давленых, и травленых, и топленых.
– Этого я не знаю, не видел, не слышал и обсуждать это не буду, и вам не советую. Нравится священник – молись за него, не нравится – тем более молись.
– Эдак, эдак, – поддерживают старухи.
– А вот, батюшка, говорят: для глаз очень полезно при вставании солнца на него смотреть.
– Пойдем завтра до солнышка и проверим, – подходит к окну: – Луна еще, видите? В ореоле. Жарища будет, а если зимой так – к морозу. На природу мы обращаем внимание, и от этого к Богу приближаемся, мы же ею, Божиим творением, дивимся.
– Да, да, идем по природе, молимся, а от этого и в церквях легче молиться.
– А вот чего это, батюшка, нынче чересчур очень много говорят о деньгах. Нам-то что говорить, при наших-то капиталах.
– Чего вы бедности стесняетесь? – говорит отец Анатолий. – Все вашими жертвами только и держится. Какой богатый для показухи отстегнет и чванится. Так это разово. А прихожане – копеечки, пусть маленькие, но на каждой службе. Это надежнее.
– А вот, батюшка, скажу: хорошо, что вы по улице в облачении ходите. А то встретила отца, имя не буду говорить, встретила, а как благословение просить, он в пиджаке, вроде чиновник.
– Не осуждать! – сурово говорит отец Анатолий. – Идешь в рясе -больше искушений. Ко мне тут парень подскочил: «А у вас борода не бутафорская? Можно подергать?» – Дергай», – говорю. Все-таки постеснялся.
Мужчина (до того молчавший):
– Менты гонят на «Вольво», прут на красный. Гляжу – ни за кем не гонятся, а прут. Я их машину перекрестил, и машина у них заглохла.
* * *
Обгоняет машина, свирепо газует, прямо напирает. От нее шарахаются. Шофер еще и резко сигналит.
– Ну, этот прямо в ад поехал».
– Этот-то еще, может, очнется, а вот новые эти, говорят, – новые русские, – эти в огонь, в огонь! И никакие это не русские. На какие это деньги они новыми стали? Как в новых перекрестились, кто крестил? Эти – в ад! Никуда не денутся. Каждого барана повесят за свои рога.
– Да пожалей ты их!
* * *
Дождь, утро, у нас новый начальник, который сверг и вождя нашего и нас ни во что не ставит – Андрей. Имеет право: мы-то раз в году приходим в Горохово, а он еще тут будет и лето и всю осень. Но очень, к сожалению, груб. И – что очень досадно – не любит, когда мы становимся на молитвы. Время теряем, по его мнению. «Трудом молитесь, трудом!» Зовет нас рахитами. Толя сочинил: «У нас инфаркты и бронхиты, туберкулез и простатит. А он кричит: “Вперед, рахиты! Вперед! И пусть вас Бог простит!”»
Андрей еще и начетчик: «Безплатно работаете, значит, надо работать в полную силу». – «Не безплатно, – поправляет вождь, а безденежно. Мы денег не получим, а плату от Бога получим».
Дожди. Обедаем стоя, из одного котелка. Надо штабель досок перетаскать. Штабель такой огромный, что лучше на него не смотреть.
Таскаем. Саша облегчает усилия рассказами о медведях и кабанах:
– Медведи умные, не тронут, лишь бы не медведица с медвежатами, а кабаны – это безпредельщики, прут и прут. От медведицы не скрыться, а от кабана только на дереве.
Спасибо Андрею: нынче уже и баня. Сан Саныч натопил. Радуемся, ибо намерзлись, да и ночь впереди трудная: матрасы после холодной весны влажные. Негде было просушить. Хвалим Сан Саныча. Он: «Я люблю, когда меня хвалят». Плохо видит. Толя подковыривает: «А как же ты женщин различаешь?» – «Я наощупь», – отшучивается Сан Саныч. «Это что такое, такие разговорчики!» – кричит вождь.
Баня крохотная, но троих вмещает. Первая партия пошла. Толя садится на чурбак: «Я в кресле, даже под дождем, себя восчувствовал вождем».
Оба они, Толя и Саша, прыгали с парашютом, есть что вспомнить. Саша:
– Не спал я всю ночь, перенервничал. Прыгнул. Вслед кричат: «Красная строка!» Я все забыл. Учили говорить: «Пятьсот один – два – пятьсот три». Дергать кольцо. А страшно: вдруг не раскроется. А земля на меня несется, дернул от страха – парашют раскрылся. До этого прыгали на пятки. Со стола. Стол на стол и еще стул.
– Парашют сам собираешь, – рассказывает Толя. – Пишешь расписку: за мою безопасность никто не отвечает. Ничего себе думаю – неминучая приходит. Расписку написал, насторожился. И все кажется, что парашют не так собрал. Нам говорят: бросят против ветра, это красиво. А прыжки уже идут, одного уже закрутило, хлопнуло. И уже кричат нас. Говорю другу: «Юр, мы же неправильно собрали». Кричат еще раз: «Гребнев, Сафронов!» Пошли. А Сафронов тяжелее меня на пятнадцать килограммов, первый должен прыгать, чтоб меня потом не погасил. Самолет АН-2. Летчица – баба, курит «беломор», глядит презрительно. Мгновенно заволокла в высоту. Юра сел у люка, спустил ноги, глядит жалобно. Баба папиросу сплевывает, кричит: «Прыгай!» Он молчит. А самолет крохотный, люк рядом с летчицей. Она Юрку ногой выпихивает. Рассердилась на него, надо же делать еще круг, керосин тратить. Юра нырнул. Теперь я. Ноги свесил, их ветром так сгибает, кажется, что в колене сломит. Боюсь. Но ведь все равно выпинает. Полетел, стропы дергаю, ничего не запомнил, велели ноги вытягивать, я вроде вытянул, но сел не на две точки, а на одну, сидячую. Язык до крови прокусил. Подбегают: как? Мычу, встать не могу, кровью плююсь.
Пора и нашей смене в баню. Толя в предбаннике:
– И при дожде и без дождя спешит помыться друг вождя. – Лезет на полок. – Сашка, «друг елецкий иль смоленский, дай гвардейскую»! Еще! Не жалей, вода не куплена! «Отдыхай, теперь оно!» Эх, жить хочется, забодай тебя кальмар!
Баня ах как хороша! Вот это русское «оно», оно из «Василия Теркина», не по зубам для переводчиков. То есть достигнуто искомое температурное состояние, когда тело в истоме, когда кожа стонет от счастья и просит веника. А веники у нас двухсоставные: пихта и береза.
Одеваемся. Саша: «Меня бабушка учила: “Ходи баско, говори бастень-ко, не оммыляйся”». Другой Саша: «А у меня бабушка ни копейки за так не давала. Прошу пять копеек на кино. Она: вот возьми поленья в сенях и принеси к печке. И пятак дает уже как заработанный».
Как хорошо после бани в мокром лесу. У избушки разводим костер. Вождь у нас Анатолий, несмотря на Андрея, по-прежнему зовем вождем Анатолия.
– Дуйте, дуйте! – кричит вождь, падая на колени перед костром.
– Уроды, – кричит, пробегая Андрей-диктатор. – До сих пор котлы не вымыты! Рахиты!
– Ад себе готовит, – говорит вождь. – Молитесь за него. Нельзя же, грех, называть человека уродом. Слабо знает Писание. Не знает, что ему грозит.
В четырех огромных, литров по пятьсот, котлах готовим кашу, кисель. В один из котлов натаскиваем воды для кипятка, для чая. Но Андрею все кажется, что мы мало задействованы.
– Главное, – учит повар, – увидя Андрея, хватайте лопату или топор, или изображайте, что куда-то торопитесь. А то запряжет.
Ночь прошла почти безсонная. И почему бы не поспать, есть же дежурные. Но Андрею надо всех взбулгачить. Спать не давал, гонял. То надо палатки для торговли свечами оборудовать, то еще и еще дров подколоть. Темноты в природе не было совсем – июнь. «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».
Мы все приготовили, вымыли, крупу засыпали, костры под котлами горят. Но Андрей всегда будет всем недоволен. Бежит, орет: «Мешайте, мешайте!» Пробежал. Толя подхватывает: «А кто мешает, того бьют». Андрей бежит обратно: «Двое в “уазик”!»
Уазик Андрея Володя назвал «рахитовоз». Уазик без глушителей, чтобы усилить его проходимость. Он так ревет, что здешняя благостная тишина в испуге спряталась на кладбище.
Сан Саныч с Володей уезжают встречать колокола. Усиливаем обкладку котлов поленьями, вчера кололи весь день. Мешаем кашу огромными деревянными лопатками. Льем, не жалеем, растительное масло. Вроде соли мало. А мне кажется, в самый раз. А Леня говорит, что даже и многовато соли.
– Вот вам наглядная иллюстрация к теории Джона Локка о чувствах. Они обманчивы, – это повар философствует. – А кто управляет чувствами?
Разум? Это Кант. Да и разум может врать. А им кто управляет? Правильно, дети, воля, тут Ницше и Шопенгауэр. А рядом уже фашизм. Ибо появился племянник английской королевы Дарвин. Он спрыгнул с дерева, он развился от инфузории-туфельки, встал на ноги, изобрел станок Гуттенберга, и что? Надо же дальше, надо же от человека идти к сверхчеловеку. А это, дети, как мог бы сказать Заратустра, фашизм.
– И как это женщины всю жизнь у плиты, с ума сойти, я бы повесился, – рассуждает Саша. – А вообще вот что скажу: все говорят: жены декабристов, жены декабристов. Да любая русская женщина, которая с алкоголиком живет и не бросает и вытягивает его, выше любой декабристки. Если б не русская женщина, полстраны бы умерло под забором.
– А как эта пословица: какие девушки хорошие, откуда же злые жены? – спрашивает Леша.
Толя прекращает разговоры частушками:
– Ой, подружка дорогая, до чего ты хороша: ведь природные румяна и открытая душа. И: наша Вятка серебриста, на песочке камешки. Наши девушки гуляют, не ругайте, мамушки. И: хороши, хороши в нашей реченьке ерши. Парни любят понарошку, ну и мы не от души
– Вот еще, пока не начали работать, случай расскажу, – говорит Саша. – Едут русский, чукча, грузин, хохол. Скучно ехать. Давай играть. А как? Карт нет. «Давай так, – говорит грузин и ставит бутылку коньяку, -дама». Хохол шлепает шмат сала: «Король!» Чукча хлопает балык: «Туз!» Русский говорит: «Мне крыть нечем. Снимаю». И все сгреб.
– Что это? – вопрошает Леша. – Москальская шутка или великодержавный шовинизм?
– Какой там шовинизм, – возмущается повар. – Вспомни пословицу: не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь. «Москаль зъил твое сало». Много ты его у них съел?
– А на Крестный ход много приезжает из Украины и Беларуси. – говорит Саша. – Из Риги целый вагон. В прошлом году с ними шел.
Много уже прибежало помощников из Крестного хода. Вряд ли их благословили обгонять Крестный ход. Покаются. Говорят, что нынче идти тяжело. Еще бы – глина, грязь внизу, дождь сверху. Но это всегда так. Испытывает Господь. Не бывает Крестных ходов курортных. Дождь, град, снег бывал в эти годы. А уж дожди всегда. А то и жара-жарища. Холод, кстати, лучше, чем жара: комаров меньше. И вообще, Крестный ход – это трудности. А мы все удобства всякие изобретаем.
Пришли! Колокола! Море людей, море дождя. Море горящих свечей. Акафист в храме. Люди радостные, уставшие, шатаются даже, мокрые. Горы записок на столах, которые мы утром поставили, протерли. Толя знакомой женщине, Наташе: «Услышав колокола звуки и не во сне, а наяву, я вытер трудовые руки о восходящую траву». Ее, что совершенно понятно ценителям поэзии, восхищают слова «о восходящую траву», тут и рост травы, и весна, и стремление ввысь, и чистота: трава мокрая, моет руки.
У источника полчища людей. Нашей бригаде немного грустно – уходим отсюда. Выслушиваем слова благодарности за оборудованные купели. Вождь вещает:
– Нам благодарность в погибель. Вся слава Богу. Мы много живой природы загубили, проход прорубали.
– Зато как стало хорошо-то проходить, – благодарят те, кто помнит прежние годы. – Ведь с чего начинали!
* * *
От комаров не спастись, лучше смириться. Просыпаемся – брезентовые стенки и потолок палатки в россыпях красных ягод, это капельки нашей крови просвечивают сквозь брюшки комаров.
Холодно. Толя вылезает:
– Ой, у меня родовые схватки, ой, слово рожаю. Глагол рожаю. «Тре-морить». Меня это утро треморит. Трясучка у меня.
– Я тоже слово рожаю, – говорит от костра повар. – Я обезсучиваю осину, сучки обрубаю. Да, Толя, весь ты в своей крови.
Толя тут же:
– Приглядись к человеческой драме: слез кровавых река пролилась. Всю-то ночку война с комарами с переменным успехом велась.
Делаем длинный стол для молебна, чтоб класть на него записки-памятки. Расставляем тяжелые железные корыта на ножках. Заполняем их песком. Это подсвечники. Вдоль стен. Целая лента огней вскоре
запылает.
Задуманное коллективное погружение не состоится: много работы. Еще приготовить место для стоянки знакомых паломников, натаскать дров для костра и, опять же, побольше воды. Бегу к источнику, придумав уважительную причину – набрать воды для последнего здесь в этом году чаепития. И торопливо ахаю в купель. Троекратно. Чувствительно. Освежающе. Укрепляюще. Ободряюще. Заряжающе.
Уже идут паломники – самовольщики, убежали вперед. Молодежь, все надо быстрее. А староверы уже прошли. Никак не хотят ходить с нами.
Разговор о них. Выстоят, если в православие обратятся. А они считают, что мы должны вернуться в их веру. Но какая вера – считают, что только они правы. Но так и любые сектанты считают. Поговори поди с баптистами, адвентистами, всяким свидетелями Иеговы, – так только они и правы. Но староверы – наши! Наши братья.
Разговоры на привале
– Ловить рыбу на нытье. Как? Червяка насадить на крючок, закинуть и начинать ныть: «Вчера ты рыба не клевала, с утра не клевала, скоро обед, а ты все не клюешь». И все равно клюнет.
– У нас Арсенька так-то ловит на нытье. – замечает паломница.
Да, уж этот Арсенька. Видно, и он послан нам для терпения. Он именно ноет: как ему тяжело жить, как на работе над ним издеваются, не платят, нечем за свет заплатить, еды нет, только картошку ест, да кильку. Конечно, куда денешься от русской жалости, подают ему. Все равно ноет. Когда кто-то не выдерживает, особенно мужчины, бывшие военные, и внушают ему, что недостойно для мужчины побираться, Арсенька тут же обороняется: «Все вы тут Чапаевы да Буденные, один я рядовой. Не учите жить, помогите деньгами».
– У матери деточки ушли за ягодами. День прошел – нет и нет. И вечер уже. Побежала в церковь – закрыто. Тогда и на паперти, и у алтаря молилась. Пришли, рассказывают, что заблудились, а встретили старичка, дедушка такой седенький, он им дорогу показал. Святитель Николай, некому больше.
– Град-то в прошлом годе был, помните, конечно? Перед Велико-рецким. Как лупило, о-о! И целлофан на всех теплицах изорвало. А мы шли с соседкой Наташей. Идем мокрые, голову прикрываем. Ну, думаем, пропали наши теплицы. Вернулись. Так – поверите – наши только теплицы и уцелели. А Дуся, тоже участок рядом, говорит: да как же это, этакое чудо – будто кто заворожил ваши участки, у всех все грядки выбило, у вас уже у огурцов по два цветка. Пойду, говорит, с вами на будущий год. Дак чего-то не вижу, пошла или нет.
– Из Макарья женщина пошла, забыла дом закрыть. Спохватилась к концу дня. А, не буду возвращаться, как Бог даст. Вернулась, в доме парень небритый, кидается к ней в ноги: «Все верну, что поел из холодильника, только выпусти». «Иди, кто тебя держит?» – «Старичок держит. Я иду к дверям, он встанет на пороге, я боюсь». Все батюшка наш!
– Самоубийцы прямой наводкой идут в ад. А солдаты убитые в рай. Идут в рай без мытарств.
– А вот, женщины, как рассудить? Сменщик у меня был. В церковь ходил. Не часто, но ходил. Правда, пил. А как началась эта горбачевщина, стало все горбатиться, как стали народ спаивать, убивать этими спиртами, «рояли» всякие, мужиков еще «роялистами» обзывали. И я ему говорю: не бери в киоске, это гибель. А он взял, налил сто, выпил и сидит с открытыми глазами. Я чего-то говорю, он молчит. «Ты что молчишь?» Взял за плечо, он и повалился. Готов. Так это самоубийство или его убили?
– Европа убила. Ее и судить.
– А вот я бы американского президента спросила: «Зачем тебе везде надо свою власть? Деточка, ты же лопнешь».
– Говорят, трудно ли рыбачить? А что там трудного? Наливай да пей. И трудно ли в Крестный ход идти? А чего там трудного – бери с собой ложку и иди, и ешь. Кормят же везде. И в Великорецком, и в Медя-нах, и в Мурыгино, и в Г ирсово.
– Шутка шуткой, а сколько идет очень бедных людей, они рады хотя бы неделю поесть.
«Марьяна – юбка портяна». Так в шутку назвали совсем юную студентку Марию. Красавица. Тряслась над своей красотой, боялась комаров до смешного. Тащила полсумки всяких препаратов от кровососущих насекомых. На привалах намазывалась. Но ведь жарища, от этих мазей тем более лицо потеет. Становилась некрасивой, страдала. На привале салфетками снимала остатки препаратов, заново оштукатуривалась. Клавдия все подшучивала. «Ох, Марьяна – юбка портяна». И вот – исцеление. Сама, сама! Мария вышвырнула всю косметику в кусты и сообщила, что дарит ее лисе-моднице. И пошагала! Да еще так похорошела. И никакие комары не смели к такой красоте подступиться.
Толя заражает рифмами:
– Мы любим вятскую природу. В ней от сумы и до тюрьмы вождь соответствует народу. Свергать вождя не будем мы.
После затаскивания строительного материала для лесов внутрь храма, мы сели передохнуть. Умаялись все, но только не талант поэта. Толя зациклился на теме вождя. Переходит на элегические размеры:
– Вождь много не говорит. На полях, в лесах или в поле ты. Слово его огнем горит, оно равнозначимо золоту! – Как?
– А какое именно слово равнозначимо золоту? – спрашиваем мы.
– Вождь, на подвиги нас возбудя, но о нас не заботясь нимало, утомленная сила вождя нас на подвиги поднимала.
– Это на троечку, – честно оцениваем мы.
Поэт вздыхает:
– Мне хорошо, ребята, с вами поговорить и помолчать. Такой сегодня вышел саммит: и вам и мне неплохо, чать.
Кто-то рифмует: администратор и дозатор. Толя тут же:
– У пирса ты стоял, у мола я. Твоя поэзия комолая. – Он не терпит конкурентов. – Повар, помнишь крестоходца – китайца, скажи: на ужин будут яйца? Не будь к страданиям жесток, белок нам нужен и желток.
Да, помним, был такой китаец. Пока вспоминаем, вождь выдает совершенно неожиданно для всех:
– Какой тебе еще белок: сегодня пятница, милок. Поешь картошечки с елеем: святые наши это ели.
Да, это очень не комоло. Толя сражен, мы восхищены. Вождь командует идти к источнику, выкладывать дерном топкие места.
– Отцы, у леса вырубаем куски дерна и несем. Не халявничать! Не халтурить! Примерно пятьдесят на пятьдесят.
– Халтуру я не потерплю, поскольку я труды люблю, – уныло, от имени вождя сочиняет Толя. Видно, он переживает рифму вождя «елеем – ели».
– Делать капитально и красиво! – командует вождь.
Толя тут же:
– Он ехал на кобыле сивой, но делал он всегда красиво. – Да, Толя первенство не упустит. Вскоре он сидит на скамье у источника и вещает:
– Когда скамью соделал вождь, то сей сидень всегда хорош. Мои крестьянские привычки: чтоб надо мною пели птички.
Вождь гонит «шалунью рифму» переходит на суровую прозу, вразумляет:
– «Всякое дыхание да хвалит Господа». Всякое. Но не ваше. А ваше не хвалит, поняли? Выпили вчера?
– К-к-каплю, – заикается Леня.
– Каплю! Капля океан освящает и капля душу может загубить.
Еще и еще вырубаем квадраты дерна. Поднатужась, таскаем. У источника зеленеет, хорошеет. Все довольны. Обедать! Идем. Вождь нагибается по дороге и поднимает тяжелую доску.
– Оставь. Крестоходцы сядут.
– И на земле посидят, – учит вождь, – земля силы дает. А доска пригодится. Вот я поднял доску, а все вы делаете холостые пробеги.
– Мы все с тоской, а ты с доской, – это, конечно, Толя.
Вождя уже не остановить:
– Богу нужны не ваши молитвы, рассеянные они у вас, а добрые дела. Все ваши свечи – все зря. Как вы могли пройти мимо хорошей доски? Для храма Господня, как?
– Воздаст тебе Господь по делам твоим, – желает Леша.
– Мне-то воздастся, а вам? Никто доску не взял, а? Только я. Пример давал.
Пример надо было подхватить.
Видно, что вождю нелегко: доска не маленькая. Но мы, наверное из вредности, ее не подхватываем.
У костра обед и опять же рифмовка, которой неизлечимо болен Толя. Он и нас вовлекает:
– Хоть во пшенице, хоть в овсе, рифмуйте все, рифмуйте все! Хоть в васильках, хоть в ячмене, пущайте рифмы вы в мене. – И, беря реванш за сочиненный вождем стих о пятнице: – Привык наш вождь тогда блистать, когда заставил нас устать. Повар! – стучит ложкой по пустой чашке, прося добавки. – От кисленки и щавеля, едва ногами шевеля, народ терпел свою нужду, когда вождь лопал лебеду.
– Да, – подтверждает вождь, – не лопал, а ею питался. И оттого мы непобедимы! Санкции – это такая мелочь.
– Да, скажу вам, ребята, я: санкции – мелочь пузатая. Поскольку суровые зимы, постольку мы Богом хранимы.
– Толя, это ж такая зараза – рифмование. – замечает повар. – Есть же уровень повыше – проза.
– Приведи пример. Из нашей жизни.
– Пожалуйста: «Иногда вождь выходил на природу, внимательно ее озирал, но не всегда бывал доволен ею». Плохо, что ли?
Саша делает знак: внимание.
– Иволга! – Оказывается, Саша может подражать голосам птиц. А мы и не знали. Саша проводит мастер-класс. Подражает пению птиц, свистит на все лады. И птицы то слушают, замирая, то подчирикивают. – Соловей. – Объясняет колена, свистит разнообразно. – Кряковая утка. Коростель. – Ну, его-то мы знаем. – Сорока! – Стрекочет. – Ворона.
– Не надо.
– Ворон?
– Давай.
И как только Саша смог воспроизвести этот пугающий, даже какой-то деревянный, звук карканья, непонятно. Даже жутко.
– По триста лет живут.
– Шел я бором, коркал ворон на кудрявой, на сосне. Кудреватая миле-ночка приснилася во сне.
– Что такое? – обрывает вождь. Встает, читает благодарственную молитву и, не давая передышки, гонит на труды.
Все-таки Толя на десерт читает стихи, привязанные к географическим точкам остановок Крестного хода:
– Не по Корану, не по Торе учились мы с тобою жить. И дай нам, Боже, «Сальваторе» в Медянах еще раз испить. Это вино такое. Можете себе представить – испанцы в Медянах. И: хорошо тебе было в Мурыгино, ну а мне не совсем хорошо: там поклонницы нас замурыжили, и мурыжить нас будут ишшо.
– Толя, – сурово говорит вождь, указуя путь к источнику.
– Иду, – соглашается Толя. – А знаешь, как народ обзывает начальство: шишкарня, шишка, значит, бугор. Дожил я до послепенсионности, а для тебя все как школьник. Мы идем, мы поем, мы проходим по лесам и по полям. И Москва улыбается нам.
– А как же вятским не улыбаться. Обязаны москвичи, – поддерживает повар. – Спасские ворота Кремля названы по обретенной в Вятке иконе Всемилостивого Спаса. До того они были Константино-Еленинскими. А в соборе Василия Блаженного есть церковь Святителя нашего Николая Ве-ликорецкого. И вообще собор восемьдесят лет назывался Никольским.
– И вообще Москва стоит на земле вятичей. Однозначно! То есть, если кто ее начинает наводнять без приглашения, то вятичи имеют право сказать ему: «Куда прешь, холоп?»
– Ну-ну-ну! – осаживает вождь.
– А что ну-ну? Вот ты нукаешь, вот все мы такие скромняшки, а часовня деревянная в Слободском на сто лет старше знаменитых Кижей, и она же – самое древнее русское крепостное сооружение. Вот и ну-ну. «Гордиться славой предков не только нужно, но и должно», товарищ вождь!








