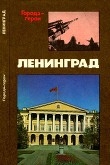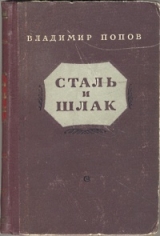
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Что вы собираетесь сделать?
– Я решил переменить назначение газопровода. По трубе доменного газа, что идет на химзавод, пустить коксовальный, а по трубе коксовального пустить доменный, который имеет замечательное свойство – растворять в себе нафталин. Вот мы и очистим газопровод. Подготовительные работы закончены, но часа два все же придется постоять. – И Мокшин виновато посмотрел на наркома.
– Используете опыт юга?
– Я не знаю об этом опыте. Додумался в результате бессонных ночей, повторения химии, консультаций и… и отчаяния, – сознался Мокшин.
– Исправил, значит, ошибку директора завода?
Главный инженер глубоко вздохнул.
– Директор имел право ошибиться в этом вопросе, а я не имел, мне нужно было стать на дыбы, крикнуть так, чтобы в Москве было слышно, а я… спасовал.
– Значит, гениальные идеи рождаются в разных местах? – спросил нарком и улыбнулся радостно и просто.
– Не понимаю, – признался Мокшин.
– Вот товарищ Макаров хотел предложить этот метод, я о нем вспомнил, вы додумались сами, а раньше вас его применяли в Сталино.
– Нет, почему же в разных местах? – Басок главного инженера снова звучал спокойно. – Все гениальные идеи рождаются в одном месте – в Советском Союзе.
В кабинете сразу стало шумно, защелкали портсигары, зазвенели графины, забулькала наливаемая в стаканы вода. Несколько человек окружили Макарова, стали расспрашивать его.
Уже поздно ночью они остались вдвоем, нарком и директор. Нарком сидел у стола, откинув голову на высокую спинку кресла, слегка прищурив глаза, глаза сталеплавильщика, устающие от света, – слишком много приходилось им смотреть на яркое пламя мартенов. Он говорил устало, с очевидным напряжением:
– Странно у тебя получилось: завод ты готовил к войне, а сам не сумел подготовиться. Неверно понял перестройку на военный лад, решил, что во время войны нужно только требовать, приказывать, командовать. И сколько ты делаешь ошибок! Вот и со строительством. На отдельных участках этого фронта задачи решаешь блестяще: цех прокатки брони пустил за три месяца, – такого не видали ни в Европе, ни в Америке. И новая доменная печь строится непревзойденно быстро. А вот – будем говорить по-военному – направление главного удара определить не можешь. Не ухватился за то звено, которое помогло бы вытащить всю цепь. А такое звено у тебя – газ. Только он даст возможность увеличить производство металла, а металл – это победа. Почему же ты распылил силы, почему коксовую батарею строишь далеко не с таким рвением, как домну? Ведь чистка газопровода только улучшит положение, но ведь решение вопроса не в этом. И как ты мог жить под угрозой остановки завода? Я за два часа, пока не решили этого вопроса… – Нарком помедлил, подыскивая подходящее слово, и не нашел, он слишком устал за последнее время, за сегодняшний день.
– Но ведь завод не стал, – возразил Ротов, к которому понемногу возвращалась прежняя самоуверенность.
– Да, не стал, но он мог стать. И в том, что завод не станет, не твоя заслуга. Тебя выручили люди – Мокшин, Макаров. А как ты относишься к людям? Макарова, главного инженера большого донецкого завода, ты позволяешь себе третировать даже в моем присутствии. А он, как рядовой газовщик, в сорокаградусный мороз, на ветру, сверлит отверстия, ищет газ, ищет выход для завода, для тебя лично. А ведь этот человек потерял все, что имел, и отдает все, что у него осталось.
Глаза наркома прищурились еще больше, но Ротов понял, что не от яркого света.
– Не советуешься с людьми, беспокоишься о своем авторитете, а он у тебя не особенно велик. Люди исполнительны, верно, но это результат дисциплины и их сознательности. Авторитет руководителю создает умение сочетать помощь с требовательностью. Если он только помогает – он «помогалкин», если только требует – «погонялкин». А у тебя теперь два любимых слова: «объективщина» и «приказываю»! Мы, руководители, должны устранять объективные причины, чтобы людям даже ссылаться было не на что. Вот на Украине мне один рабочий как-то ответил: «Хиба ревуть волы, як ясла повни?» Ты вспомни товарища Серго – его первый вопрос был: чем помочь? И помогал, даже больше давал, чем попросишь, но зато и требовал…
Большие стенные часы глухо пробили четыре. Нарком посмотрел на свои.
– По-московскому два, а мы с тобой даже последних известий не слушали, – сказал он и позвонил в диспетчерскую: – Что там по радио? – Выслушал, чуть-чуть улыбнулся. – Наступают наши по-прежнему? – И снова поднял на директора усталые глаза.
– Ты еще одно забыл. Руководителя любить должны, тогда люди работают вдвое инициативнее. А тебя… тебя не любят на заводе, хотя ты и очень много сделал здесь. Ты не понял, что коллектив – это большая семья, а разве от главы семьи требуется только кормить и одевать? Разве ты и дома такой: пришел, деньги на стол – и все? Ведь нет же. И детей приласкаешь, и жене теплое слово скажешь. Так и коллективу нужны и теплое слово, и ласка. А от тебя это кто-нибудь видел? Ты заботишься обо всех вообще и ни о ком в частности.
Нарком зажег давно потухшую папиросу. Ротов потянулся к портсигару.
– Понимаю, дел у тебя очень много. Но вспомни Владимира Ильича: в двадцать первом году, когда так же решался вопрос, быть нам или не быть, он находил время написать записочку Семашко с просьбой подобрать крестьянину-ходоку… очки. Нашел же время и написать и проверить. Да только ли это… А ты не находишь времени, чтобы хоть одному человеку в день сказать теплое слово. Ведь народ у нас какой!.. Позаботься о человеке, согрей его дружеским участием, он и на работе, и с женой, и с соседями поделится, – одного согрей – и другим теплее станет. А у тебя наоборот получается. Обругаешь одного, обидишь – вот он и заражает плохим настроением окружающих.
Нарком умолк, и Ротов с облегчением подумал: «Кончилось!» Но он ошибся.
– И как ты не можешь понять одного, – сказал нарком, внезапно подняв глаза на директора, – время сейчас военное, ждать, пока ты перевоспитаешься, не когда. Такие характеры, как твой, ломать нужно.
18
Закрыв за собой дверь квартиры, Крайнев вышел на улицу, спокойный и сосредоточенный.
Мысли были заняты одним: как лучше выполнить задуманное?
В «дежурке» он принял рапорт от старшего полицая, отдал несколько распоряжений, чтобы создать видимость служебного рвения, и прошел на завод.
Вот и станция, ступеньки, дверь. Караульный вызывает начальника караула, тот – начальника охраны станции. Этот последний наконец разрешает Крайневу войти, но следует за ним неотступно. Крайнев проходит в контору и с подчеркнутым вниманием начинает просматривать списки рабочих. Начальник охраны, пожилой, худощавый немец, сидит и нетерпеливо курит. Потом они идут осматривать станцию.
В машинном зале все по-прежнему. Одиноко стоит фундамент главного генератора, мерно гудит уцелевший «смертник». Только количество красных лампочек, горящих на щите, очень невелико. У пульта управления двое – сонный немец в пенсне на длинном понуром носу и русский рабочий в комбинезоне. Оба с удивлением смотрят на Крайнева, – посторонние русские здесь в диковину.
Продолжая методически «проверять» станцию, Крайнев в сопровождении немца спускается вниз по лестнице, к нише в бетонном фундаменте генератора, – на стене до сих пор виден крестик, поставленный Бровиным.
Волнение охватывает Крайнева.
Вот и люк, прикрывающий вход в кабельный канал. Сергей Петрович подзывает двух рабочих и приказывает им поднять люк. Те с трудом при помощи ломов поднимают чугунную плиту.
Послав рабочего за фонарем, Крайнев бросает лом в отверстие и внутренне содрогается.
Глухой звук напоминает ему шахту, где погиб отец.
«Не повезло семье, – думает он. – Отец погиб от белых, сын – от немцев. А Вадимка?» – И чувство бешеной ненависти к врагам овладевает им.
– Да скорее же! – зло кричит он на рабочего, который не спеша несет фонарь. – Бери с собой лом.
Втроем они спускаются в канал. Впереди рабочий, потом Крайнев, за ним, недовольно сопя, немец, который никак не может попять, что нужно неугомонному русскому в этом холодном и сыром склепе, но пунктуально выполняет распоряжение ни на секунду не оставлять начальника охраны одного.
Крайнев знает, что произойдет дальше. Он подойдет к выложенной Лобачевым стене, рабочий разломает кладку и уйдет. А потом, потом нужно ударом пистолета оглушить немца, достать шнуры, зажечь их, вставить в проделанное отверстие и бежать.
«Стоит ли бежать?» – задает он себе вопрос и сам понимает, что стоит. Уйти от смерти все равно не удастся, но стоять и смотреть, как огонь пожирает фитиль, и отсчитывать последние секунды своей жизни слишком трудно.
Так они доходят до конца канала, рабочий поднимает фонарь, и Сергей Петрович столбенеет.
Стена разобрана, аммонита нет.
Это удар неожиданный и сильный. Не обернувшись на своего соглядатая, Крайнев начинает медленно подыматься по лестнице. Наверху он сразу же направляется к выходу. Немец смотрит ему вслед, удивляясь тому, как он не заметил раньше, что этот русский пьян.
Сергей Петрович бредет по заводу, не разбирая дороги. Не все ли равно, куда идти?
Он приходит в себя только за проходными воротами.
«Что делать, что же теперь делать?» – в отчаянии думает он.
…Ночью кто-то сильно тормошит Крайнева и чуть ли не сталкивает его с дивана. Он с трудом открывает глаза, узнав Теплову, тяжело поднимается и садится.
– Что случилось? – спрашивает она, пытливо вглядываясь в измученное лицо Крайнева, – таким она никогда его не видела. – Почему не взорвана станция? – Тон у нее сухой, деловитый.
– Жить захотелось, – отвечает он зло, желая почему-то причинить боль и ей, но тотчас жалеет об этом.
Валя недоверчиво качает головой.
– Это же неправда, Сергей Петрович, – произносит она мягко. – Рассказывайте, что случилось.
– Немцы хитрее, чем я думал, – отвечает он почему-то шепотом и рассказывает ей все.
Валентина долго молчит.
– Что же вы наделали в механическом цехе? – говорит она с отчаянием. – Что вы наделали? Разве можно было так действовать?
– Валя, спросите у Сердюка, как мне быть дальше, – неожиданно спокойно говорит Крайнев. – Я ничего сам не могу придумать. Надо же как-то кончать эту комедию с моей службой у немцев.
Валентина чувствует, как ему тяжело, но не находит слов, чтобы его успокоить. У нее и у самой не легче на душе.
На другой день Крайнев явился на завод поздно. Принимая рапорт от старшего полицая, он услышал чей-то вопль.
– В караулке порют, – сказал полицай, отвечая на его недоуменный взгляд.
– Кого порют? За что порют?
– Как за что? – переспросил полицай, удивленный неосведомленностью начальника. – За все порют: за зажигалки, за гребешки, – а разве на триста граммов проживешь? Ну, а в проходной задержат «с товаром» и порют. Сначала к хозяину водили, а теперь таксу установили, за что сколько полагается, и порют.
Сергей Петрович вошел в караулку.
В узком, темном помещении с единственным окном во двор стояла скамья, и на ней, накрытый мокрым брезентом, с привязанными руками и ногами, извивался под ударами плети паренек. В короткие промежутки между ударами он поднимал голову и кричал, но каждый раз от удара ронял ее снова на скамью, и кровь выступала у него изо рта.
Но самое страшное, что увидел Крайнев, было лицо немца. Оно не выражало ни злобы, ни жестокости. Совершенно спокойно, методически, словно рубил дрова, он стегал извивающееся под брезентом тело.
– Отставить! – в бешенстве заорал Крайнев, но палач, мельком взглянув на него, снова ударил рабочего.
Не помня себя от гнева, Сергей Петрович схватился за кобуру. Гитлеровец завопил и, бросив длинную тонкую плеть – настоящее орудие заплечных дел мастера, выскочил из комнаты.
Крайнев начал сам развязывать брезент, но руки у него дрожали, пальцы не слушались.
– Освободить! – скомандовал Крайнев полицаям, и те начали развязывать сразу четыре узла.
Паренек несколько раз пытался встать со скамьи и не мог. Тогда один из полицаев открыл кран и из шланга обдал его водой, помог подняться и выйти.
Вещественное доказательство преступления – две алюминиевые гребенки – осталось лежать на грязном подоконнике.
– Но почему под брезентом? – спросил Крайнев, с трудом приходя в себя.
– Если голого бить, с него котлета получится, порванную кожу потом лечить надо, а под брезентом кожа цела, а что у него внутрях делается – это никому не видать.
В караулку вбежали офицер из личной охраны барона, солдаты и переводчик.
– Вас требует барон фон Вехтер, – сказал переводчик.
«Ну, началось, заварил кашу!» – подумал Крайнев и, подняв с полу плеть, последовал за ним.
– Кто вам давал право трогать немецкий зольдат? – закричал барон, как только Сергей Петрович переступил порог кабинета.
– Кто вам дал право бить русских рабочих?
Вехтер с удивлением посмотрел на Крайнева.
– Право никто не давать, право брать. Мы взяли это право, – сказал он гораздо спокойнее.
– Ну, вот и я взял свое право, – вызывающе ответил Крайнев.
Барон взбесился:
– Ви забывайт, ви говорит с немец, с барон, с владелец завода!
– А вы говорите с начальником охраны завода.
Вехтер оглядел присутствующих, – ему хотелось чтобы они ушли из кабинета и не видели, как он спасовал перед каким-то начальником охраны, но он боялся остаться один на один с этим странным русским.
Барон в гневе метался между столом и стеной.
– Я прошу вас, – твердо сказал ему Крайнев, – не добавлять мне работы. Если вы будете пороть людей, вам сожгут еще одну танковую колонну, а то и весь цех.
– Ви меня не учить, – резко ответил барон. – Я из них выбить большевистский зараз. Я кончил школа руссише промышленник в Лейпциг, я хорошо знаю руссише характер.
Крайнев спокойно уселся в кресло, взял из коробки сигару и закурил. Вехтер поспешно занял свое место за столом, сообразив, что ему неудобно стоять, когда его подчиненный сидит и курит.
– Вы плохо знаете русский характер. Вот он, – холодно сказал Крайнев и показал через окно на повешенного Воробьева.
– Что ви хочет от меня? – взвизгнул вдруг Вехтер. Этот русский на его глазах превращался из обвиняемого в обвинителя, из подчиненного – в хозяина.
– Немного. Перестаньте пороть рабочих. Если среди них найдется еще несколько человек, которые предпочтут умереть, чем выносить ваше обращение, нам с вами здесь делать нечего. Я завода не уберегу.
С каким наслаждением Вехтер вздернул бы наглеца на виселицу! Но он вспомнил о сломанных и выведенных из строя станках, о сожженной колонне танков. Этот русский был ему пока нужен.
– Ви может идти, я буду подумать, – произнес он с деланным спокойствием, не желая сдаваться сразу.
Выходя на площадь, Сергей Петрович вспомнил рассказ одного летчика о том, что немецкие асы не выдерживают атаки в лоб и всегда сворачивают в сторону, что наглость в характере у фашистов неотделима от трусости.
Вечером, когда Сергей Петрович не остыл еще от разговора с Вехтером, пришла Валентина. Он подробно рассказал ой об утреннем происшествии. Она слушала его с очевидным неудовольствием.
– Вы глупее ничего не могли сделать? – резко спросила Валентина, когда Крайнев закончил свой рассказ.
– Не выдержал, Валя, да и к чему теперь выдерживать? Игра проиграна, и ее надо кончать.
– Товарищ Крайнев, – прервала она, – вы являетесь членом подпольной группы и будьте добры не делать ничего без согласования с ее руководителями. Я не для развлечения сюда хожу, а для инструктажа.
Сергей Петрович искоса взглянул на нее. Официальный тон Тепловой ему не понравился.
– Ну, хорошо, инструктируйте, – сказал он. – Что вы можете мне посоветовать?
– Вы остаетесь работать начальником охраны завода.
– А дальше что?
– Дальше вот что: помните бомбежку электростанции во время эвакуации завода?
– Хорошо помню.
– Помните, но не хорошо. Сердюк помнит лучше. Одна бомба упала возле котельной, в аварийный склад топлива, и не взорвалась.
– Ну, а дальше?
– Нужно найти эту бомбу, буквально из-под земли выкопать и взорвать поближе к котельной. По всем данным, это была бомба весом в одну тонну.
Крайнев схватил Теплову за руку.
– Валечка, вы возвращаете меня к жизни!
– Нет, голубчик, – грустно возразила она, – я возвращаю вас к смерти. – Помолчала и добавила: – Вернее, к бессмертию, Сергей Петрович, – и грустно заглянула в его заблестевшие глаза.
Валентина рассказала о событиях последних дней. На шахте при опробовании подъемника мотор начал вращаться в обратную сторону, канат оборвался, и двухтонная клеть полетела вниз. Ее подняли, с большим трудом отремонтировали, но при следующем опробовании повторилось то же самое.
Вблизи города, на крутом спуске, пошла под откос машина с гитлеровскими автоматчиками. Это было уже дело рук Сашки, который среди бела дня «растерял» на дорого самодельные шипы из толстой проволоки. Шип проколол баллон, и шофер потерял управление.
Во время ночной облавы на скрывающихся от мобилизации убили двух полицейских.
– Кипит народ, – сказала Валя в заключение.
– Да, закипела сталь, – задумчиво отозвался Крайнев. – Вы знаете, Валя, то, что происходит у нас в стране, я представляю себя как огромнейшую плавку стали. Весь народ становится стальным монолитом небывалой твердости, и я чувствую, знаю: близок тот день, когда вся гитлеровская нечисть – этот шлак человечества – будет выброшена за порог.
Снова потянулись недели, полные тревог и напряжения. Крайневу никак не удавалось убедить фон Вехтера в необходимости удалить с территории завода неразорвавшиеся бомбы.
Сергей Петрович решился на последнюю меру. Он отправился к коменданту города Пфаулю и обстоятельно рассказал ему, что произойдет, если красные вздумают бомбить завод и одна из бомб упадет рядом с неразорвавшейся бомбой.
Пфауль, не раздумывая, снял телефонную трубку и приказал Вехтеру заняться удалением бомб с заводской территории.
Сергей Петрович сутками не уходил с завода, с неподдельным старанием следя за всем и за всеми. Он очень боялся потерять свой престиж в глазах фашистских заправил, боялся, что из-за какого-нибудь пустяка сорвется весь его замысел.
С плеткой, взятой у одного из надсмотрщиков, он больше не расставался и испытывал истинное удовольствие, замечая, что его воинственный вид внушает страх и немцам.
В механическом цехе, который усиленно охранялся, Крайнев так отхлестал заснувшего на посту полицая, что его искусству мог позавидовать сам хозяин плети.
Раскопки неразорвавшихся бомб велись одновременно в трех местах, но большую часть времени Крайнев проводил у котельной. Работа здесь спорилась. Начальника русской охраны боялись больше, чем любого гитлеровца.
На третий день бомбу извлекли из угля и уже собирались вкатывать ее по бревнам на сцеп из двух вагонеток, как вдруг появился гитлеровский офицер с солдатами и приказал прекратить работу.
Крайнев понял, что за ним следят.
19
Опанасенко остался в городе беречь дом и имущество. Хороший дом купил себе обер-мастер незадолго до войны. Четырехоконный, из белого кирпича, с нарядным крыльцом, он весело смотрел фасадом на юг. Не стыдно было и людей позвать, было где усадить, чем попотчевать. Дочка подросла, умеет угодить гостям, играет на пианино, поет. Правда, Светлана не в мать, – та покорная, тихая, а эта с характером: слушает наставления отца как будто почтительно, а делает все равно по-своему. Ей только шестнадцатый пошел, подрастет – совсем сладу не будет. Уже сейчас она порой поглядывает на отца с укором, а там и вовсе бунтовать начнет.
Бунт вспыхнул раньше, чем ожидал Ипполит Евстигнеевич. Соседи по дому укладывали пожитки, готовясь к эвакуации, и Светлана тоже сложила свои книги, ноты и одежду.
– Ты куда это, дочка, собралась? – спросил Опанасенко, возвратись с работы и заметив эти приготовления.
– Туда, куда и все. Не оставаться же мне одной, весь мой класс уезжает, а я все-таки пионервожатая.
Светлана знала, что намерения у отца иные, и сказала это твердо, с вызовом, предвидя наперед, что ей предстоит борьба.
– То есть как это одна? Ты с семьей останешься.
– Мама тоже едет, – упрямо ответила Светлана. Вот этого Опанасенко не ожидал!
– А меня кто-нибудь спросил? Да я кто? Не хозяин в доме, что ли? Не глава семьи?
– Видишь ли, папа, у каждого человека две семьи… Одна – это родные… а другая – коллектив.
Опанасенко насупился, – вот и разговаривай при детях, он сам рассказывал о выступлении начальника цеха и дважды повторил понравившуюся ему фразу о двух семьях, И вот тебе раз, его словами его же и бьют.
– А тебе какая семья дороже?
– Которая учит лучшему, – наставительным тоном ответила Светлана.
«Ну и детки пошли!» – горестно думал Опанасенко, грузно опускаясь на стул. А он еще и подсмеивался над Сашкиной матерью, что с сыном справиться не может. И, глядя на дочь исподлобья, как смотрел в цехе на провинившегося сталевара, спросил:
– Так, выходит, тебя отец с матерью дурному выучили?
– Нет, дурному ничему не учили, – замялась Светлана, почувствовав, что пересолила, и тут же, не выдержав, повысила тон: – А чему хорошему выучили? Только и слышишь: «Я – глава семьи», «Я – хозяин», – и правда, вы такой вот хозяин, как когда-то бывали. Мама у вас вроде…
Дальше Опанасенко не стал слушать.
– Прасковья! – закричал он, вскакивая со стула, и, спохватившись, поправился: – Прасковья Егоровна!
Жена сейчас же вошла, она была в соседней комнате и все слышала.
– Да что же это в доме творится? Ты что, уезжать собралась? – напустился на нее Опанасенко.
– Надо бы уезжать, Евстигнеич, все едут, боязно как-то оставаться.
– А потом приезжать куда? Приезжать-то куда, я спрашиваю? Ни кола ни двора не будет, опять сначала начинай. Всю жизнь горбом своим наживал, для вас же старался, а теперь сторожить оставайся! Да разве я сам уберегу? Хватит! Один дом в гражданскую войну сгорел, этот сгорит, третьего не будет!
Его внимательно слушали. У Прасковьи Егоровны собрались под глазами морщинки, вот-вот заплачет, но Светлана не сдавалась.
– И не нужно нам дома, на квартире жить будем. Опанасенко изменил тактику.
– Ну, хорошо, уезжайте, бросайте одного! – И тихо, будто не рассчитывая, что его кто-нибудь услышит, добавил: – У каждого человека две семьи, одна – это родные, другая – коллектив, а у меня, значит, и одной не осталось, от той я оторвался, а эта сама уходит. Ну что же, уезжайте с богом, желаю счастья.
Несколько дней после этого он ночевал на заводе, выдерживая характер. Прасковья Егоровна сдалась и решительно (выполнять волю мужа у нее всегда хватало решимости) заявила Светлане, что она сама не уедет и ее не отпустит.
– Лягу, Светочка, на рельсы перед твоим поездом. Хватит у тебя духу – поедешь, а я отца не брошу и без тебя не останусь.
Если бы отец приходил домой, кричал, запрещал, ругался, Светлана, возможно, и уехала бы тайком от матери, но он разрешил, и она… осталась. Да и не с кем было уезжать, все знакомые давно эвакуировались.
Но вот ушел последний эшелон. Вернувшись домой, Ипполит Евстигнеевич увидел заплаканные лица.
– Чего разнюнились? – обычным суровым тоном спросил он и передернул плечом. – Переживем. Видел я иностранцев, и с бельгийцами работал, и с французами, и немца знавал. Был у нас мастер немец, не одну бутылку я с ним выпил, все думал секреты у него выведать, как он сталь варит, – и зря пил: он меньше моего знал. Пакостный был человек, но ведь не зверь же…
Красивый дом приглянулся квартирмейстеру, и три гитлеровских офицера заняли его. Въехав, они вели себя как хозяева. Прасковья Егоровна чистила им сапоги, стирала белье, убирала постели. Гитлеровцы были аккуратны, звали ее «мутти», и Опанасенко делал вид, что он доволен, и даже успокаивал жену:
– Говорил я, что но звери же они, ну, а насчет белья придется, Прасковьюшка, потерпеть, тут, конечно, не без ущерба.
Но уже с первых дней оккупации обер-мастер понял, что гитлеровцы совсем не такие, какими он рисовал их себе по образцу знакомого немца; осознал умом, что сделал страшную ошибку, почувствовал это сердцем. Ему было стыдно перед товарищами, но ведь и они совершили такую же непоправимую ошибку – остались в оккупированном городе и вынуждены были, как и он, работать на врага. С ними ему легче было делиться своими переживаниями, чем с женой и дочерью.
В семье Опанасенко держался иначе. Он чувствовал себя бесконечно виноватым перед женой и особенно перед дочерью, но всячески старался подчеркнуть, что все идет хорошо и именно так, как он думал.
Светлана понимала эту игру. Она чувствовала фальшь в его словах, да и Сашка не раз рассказывал ей о поведении отца в цехе. Зато Прасковья Егоровна никак не могла понять мужа: откуда это он набрался такого терпения, будто рос в той семье старообрядцев, из которой вышла она сама?
Дому Опанасенко не угрожали вторжение и бесчинства солдат, хорошо знавших, что здесь живут офицеры. Ночью можно было спокойно спать – ни облав, ни обысков, пи грабежей.
Один из офицеров, красивый белокурый немец, до войны служил тапером, и под его пальцами послушно бренчало пианино.
Набренчавшись вдоволь, немец обычно приходил в небольшую комнатку при кухне, где стояли кровать и столик Светланы, и просил ее поиграть. Она упорно отказывалась, но немец был настойчив и в конце концов до смерти надоел ей.
Когда немцев не было, Светлана часами играла для себя. Опанасенко слушал, сидя на кухне, оставленной в их распоряжении, и восхищался:
– Хорошо играет Светлана, хорошая наша музыка. Не то что ихняя, трам-та-там, трам-та-там! У нас в цехе перед плавкой на железке и то лучше выбивали.
В субботние дни Опанасенко чувствовал себя особенно скверно. По субботам гитлеровцы обычно принимали ванну, заливали пол, разбрызгивали мыльную пену по стенам. Прасковье Егоровне приходилось немало гнуть спину, чтобы привести ванную комнату в порядок.
– Ну что ж тут поделаешь, Прасковьюшка! – с виноватым видом успокаивал ее Ипполит Евстигнеевич. – Ни чего не попишешь. Потерпи.
Часов в восемь вечера гитлеровцы отправлялись в публичный дом, обычно на всю ночь. Опанасенко запирал за ними дверь на засов и облегченно вздыхал. Хоть несколько часов он снова чувствовал себя хозяином в своем доме. Иногда в такие ночи он брал свечу и обходил комнаты, чтобы насладиться тишиной.
Однажды его внимание привлек свет в каморке Светланы. Осторожно ступая ногами, обутыми в старые валенки, он заглянул в замочную скважину. Светлана сидела за столом, склонив голову набок, и старательно, так же, как она готовила уроки, что-то писала. Опанасенко приоткрыл дверь, и она, услышав за спиной шорох, схватила небольшую стопку тетрадочных листков и прижала их к груди. Выражение страха в глазах не исчезло, когда она увидела отца.
«Боится, почти как фашиста боится», – с болью подумал Ипполит Евстигнеевич, заметив на одном из листков, второпях оставленном на столе, знакомую красную звездочку. Подойдя к дочери, он прижал ее к себе и долго не отпускал, глотая невольные слезы. Потом нежно, как никогда раньше, поцеловал в лоб и неслышно вышел.
Утром, перед тем как идти на завод, он улучил минутку, когда Прасковья Егоровна пошла за углем в сарай, зашел к Светлане и попросил дать ему одну листовку.
– Доверишь? – спросил он, протягивая большую, сильную руку.
– Только осторожнее, папа, в цехе ведь Сашка, доброволец он.
– Хороший твой Сашка, – растроганно сказал Опанасенко, – и ты у меня хорошая, только опасно это очень.
– Ничего не поделаешь, папа. – Светлана чуть усмехнулась. – Твои грехи мама у бога отмаливает, а мне приходится их перед Родиной искупать.
Согнувшись, как от удара, Ипполит Евстигнеевич вышел на улицу.
Беда пришла совсем не с той стороны, откуда ее ожидал Опанасенко.
В один из воскресных дней гитлеровцы приехали из публичного дома раньше обычного. Вернулись двое, третьего почему-то не было с ними.
Только на другой день Прасковья Егоровна узнала, в чем дело. Соседи шептались о том, что на рассвете в окно публичного дома была брошена граната, третьего квартиранта отвезли прямо в морг.
В субботу гитлеровцы никуда не пошли. Они позвали к себе гостей, напились, горланили песни, прерываемые смехом и женским визгом. Белокурый бренчал на пианино, потом это ему, видимо, надоело. Он ввалился в комнату Светланы и потребовал, чтобы она играла гостям танцы. Она наотрез отказалась. Тогда немец запер дверь в кухню, где сидели родители Светланы, скрутил девочке руки и поволок ее к себе.
Хороший хозяин Опанасенко, и запоры у него надежные, крепкие. Как ни ломился он в дверь, так и не смог сорвать ее ни с крючка, ни с петель. Обезумев от ужаса и злобы, он выскочил во двор, отпер сарай, схватил топор и, вбежав в кухню, стал яростно рубить дверь.
Наконец, выбив добротные доски в нижней половине двери, Опанасенко с трудом протиснул свое грузное туловище в проделанное им отверстие и увидел Светлану, лежащую на полу с окровавленным лицом.
Родители долго приводили Светлану в чувство; у нее была рассечена бровь, разбиты губы, пальцы на руках распухли.
Светлана с трудом открыла глаза.
– Не играла я им и не буду, – прошептала она. – Там такое творится, какие-то голые немки… – И она снова впала в беспамятство.
С мучительным трудом отработав на заводе свою смену, Опанасенко возвратился домой и застал обезумевшую от горя жену. Светланы не было. Прасковья Егоровна с плачем кинулась к мужу. Из ее слов, прерываемых рыданиями, он понял, что дочь увели полицаи.
Ипполит Евстигнеевич побежал к своим жильцам.
Белокурый холодно выслушал сбивчивую речь Опанасенко.
– Она некароший, упрямый девка, – сказал он, поняв, в чем дело. – Я помогаль ей поехать Германия. Наши фрау будут научать эта девка кароший манер. – И он выпроводил просителя в коридор.
Весь следующий день Опанасенко метался по городу, обивая пороги биржи труда, городской управы, полиции, добился даже свидания с бургомистром, но все было бесполезно. Он так и не смог узнать, куда увезли Светлану. На станцию, где в пакгаузах содержались угоняемые в Германию, его не пустили.
Поздно вечером возвратился он домой. Там его уже ждали полицаи. Опанасенко арестовали за прогул.
Всю неделю он был лишен возможности выйти за ворота, отсиживаясь после рабочего дня в лагере, как прогульщик.
За все это время он не сказал ни одного слова. Даже Сашка не мог выведать у него, что с ним произошло.
Когда начинался перекур, разжалованный начальник сидел неподвижно и смотрел в одну точку. Иногда он вздрагивал, закрывал лицо руками, и из-под грязных ладоней капали слезы.
В доме Опанасенко все шло своим чередом. Вместо убитого гитлеровца появился новый. По-прежнему выставлялись сапоги в коридор, белокурый приходил утром на кухню и долго умывался, стараясь не задевать глубоких царапин на небритых щеках.
Только в субботу Опанасенко вернулся домой, грязный, обросший, сразу состарившийся. Не сняв одежды, он упал на кровать и лежал не двигаясь, а Прасковья Егоровна сидела у стола, низко опустив голову, и не смела его окликнуть.