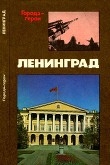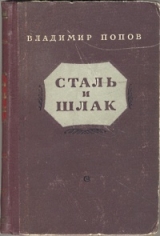
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
6
С того времени, как Вальского последний раз вызвали в гестапо, он не находил себе покоя ни днем ни ночью. Он мечтал заслужить расположение и благодарность немецких властей, но в то же время страшился мести советских патриотов. С фронта поступали тревожные известия: немцев громили то здесь, то там и остановили в Донбассе, неподалеку от Ольховатки.
Поздней ночью, закончив прием осведомителей и оставшись один (супруга выехала осмотреть имение), Вальский испытывал такую тревогу, что не мог уснуть до самого утра.
Прошла неделя. Осведомители, боясь провала, не соглашались на создание провокационного отряда. Напрасно Вальский упрашивал, сулил награды, поил водкой.
В субботу явился связной. Забрав очередную пачку доносов, он вскоре вернулся и принес от Штаммера лаконичную записку: «Даю еще неделю срока».
Вальский окончательно струсил. Он даже перестал бриться. Руки у него так дрожали, что он не мог держать бритву.
И вдруг ему показалось, что его звезда снова начинает восходить.
Вечером, за несколько минут до «комендантского» часа, неожиданно явился Пивоваров, о котором столько времени не было ни слуху ни духу. Он был худой, обросший, обтрепанный.
Вальский принял его как родного, накормил, угостил водкой. Во время совместной работы в цехе они не были слишком дружны, хотя Пивоваров и пытался заслужить доверие своего начальника. В разговорах с ним он, не стесняясь, издевался над тем, чем восторгался на собраниях.
На этот раз Пивоваров начал разговор издалека, но постепенно разоткровенничался.
– Я к вам за советом, Ксенофонт Петрович. Вы единственный человек, с которым я могу говорить откровенно.
Пивоваров рассказал, как они с Лобачевым договорились сохранить станцию для немцев. После того как шнуры были подожжены, Нечаев убежал в заводоуправление, а Лобачев – домой, он, Пивоваров, проник в помещение станции и обрезал шнуры. Эту операцию ему удалось повторить после второго запала. Крайнев застиг его врасплох, но он обманул его, показав подделанную записку. Когда Крайнев ушел, он извлек детонаторы и зажег ящики с аммонитом, чтобы их уже нельзя было взорвать. Все шло хорошо. Как только немцы вступили в город, Пивоваров с Лобановым выпили на радостях. Но утром явился Крайнев с немецкими солдатами. Он убил Лобачева, а Пивоваров едва спасся, убежал черным ходом. С перепугу он скрылся из города и все время прятался в селе.
Что ему еще оставалось делать? Не мог же он явиться к немцам, которые за ним охотились! Нужно было донести на Крайнева, но кто бы ему поверил? Ведь тот опередил их с Лобачевым и сумел втереть немцам очки. Услышав о смерти Крайнева, Пивоваров вернулся в город, но теперь узнал, что этот опасный человек жив, и окончательно растерялся.
– Теперь я уже не знаю, что и делать. К немцам идти боюсь, с Крайневым встретиться боюсь, жить не на что. Совсем погибаю, Ксенофонт Петрович.
Пивоваров быстро пьянел и не замечал, что хозяин слушает его с заблестевшими глазами.
Как только гость захрапел на диване, Вальский забегал по комнате, не в силах сдержать овладевшее им возбуждение.
– Вот это находка! – шептал Вальский. – Теперь мы с вами рассчитаемся, товарищ Крайнев!
Не было человека, которого бы Вальский ненавидел больше, чем Крайнева. Это он в течение месяца выправил работу цеха и доказал всем, что Вальский был никуда не годным руководителем. Это он с первой плавки освоил сложнейшую бронетанковую сталь и завоевал на заводе огромный авторитет.
Вальский и раньше не верил в то, что Крайнев может искренне служить немцам. Но до сих пор у него не было никаких доказательств этого. Теперь, после разговора с Пивоваровым, все стало ясно: Крайневу удалось обмануть немцев.
Вальский испытывал неудержимое желание побывать на допросе Крайнева, самому допрашивать, любой ценой вырвать у него признание.
«К нему не так легко будет подступиться, – размышлял Вальский, – он спас станцию, подготовил к пуску механический цех. Но все это ничто по сравнению с вещественным доказательством, которое лежит у меня на диване. – Он с нежностью посмотрел на громко храпевшего Пивоварова. Сама судьба приготовила ему этот подарок. И вдруг еще одна счастливая мысль осенила Вальского: – Вот кого нужно сделать начальником «партизанского» отряда! Лучшего не найти! Прикидывался общественником, немцы его преследовали…»
Вальский подошел к столу и выпил рюмку водки. Жизнь возвращалась к нему. Теперь немцы вознаградят его по заслугам. Они вернут ему имение.
– Оно мое, мое! – шептал Вальский, страстно сжимая руки.
Плохо только, что жизнь возвращалась с таким опозданием.
Он подошел к зеркалу и долго рассматривал свое морщинистое, одутловатое лицо, на котором торчали короткие седеющие усики.
Утром Вальский заставил Пивоварова повторить рассказ и подробно записал все – слово в слово. Только после этого он отпустил гостя, дав ему опохмелиться и назначив день следующей встречи.
7
У директора завода Ротова никогда не было такого главного инженера, который удовлетворял бы его требованиям и с которым он мог бы сработаться. Директор каждого мерил своей меркой, и ни к кому эта мерка не подходила. Ему требовался помощник талантливый и покорный. Обычно эти качества редко совмещаются в людях. Покорностью и уступчивостью отличались лишь малоодаренные инженеры, а талантливые неизменно оказывались несговорчивыми и строптивыми. Конфликт был неизбежен в обоих случаях: послушные инженеры не удовлетворяли директора потому, что плохо работали, талантливые – потому, что отказывались безоговорочно слушаться.
Прежде чем стать директором крупного завода, Ротов и сам долгое время был рядовым инженером.
Блестяще окончив институт, где он успешно совмещал учебу с руководящей партийной работой, Ротов неожиданно заявил, что хочет пойти в доменный цех в качестве подручного горнового.
– Да почему же к горну? – недоумевали члены комиссии по распределению молодых специалистов.
Особенно удивлялся маститый профессор, убеждавший Ротова остаться при институте.
– Вы же мартеновец, на что вам дался доменный цех?
– Именно потому, что я мартеновец, мне и нужно попрактиковаться в доменном. Сталеплавильное дело я знаю, мастером сработаю, плавку пущу. Я хочу и доменное дело знать до тонкостей.
Это решение созрело у Ротова после одного случая, свидетелем которого он был во время производственной практики.
На завод приехал начальник главка, впоследствии нарком черной металлургии. Вместе с начальником цеха, истеричным и крикливым Вальским, он осматривал печи, подолгу задерживаясь у каждой из них. Когда начальник главка подошел к печи, где Ротов работал подручным сталевара, Вальский посмотрел на пробу и, демонстрируя свою требовательность, грубо сказал мастеру:
– Чего маринуешь плавку? Она давно готова.
Мастер был самолюбивый старик. Он с давних пор терпеть не мог начальника цеха за то, что тот чуждался технологии, никогда на своем веку не выпускал плавок и лишь ретиво администрировал. Усмехнувшись в усы, старик отдал начальнику палку, которой снимал с пробы корочку шлака, и сказал:
– А если готова, Ксенофонт Петрович, то пускайте сами на здоровье. – И пошел прочь.
Растерявшийся Вальский так и остался стоять с палкой в руке.
Начальник главка смотрел на него, чуть заметно улыбаясь.
Чтобы как-нибудь выйти из положения, Вальский приказал послать за другим мастером.
Начальник главка взял у Вальского палку и распорядился достать пробу. Умелым и точным движением он смахнул корочку шлака, поморщился, велел добавить газу, чтобы подогреть металл, и только через полчаса приказал выпустить плавку.
Позже Ротов узнал, что начальник главка, уже будучи инженером, поднялся по всем ступеням производственной лестницы, начиная от рядового канавного. Ротов понял, что именно таким и должен быть инженер новой школы, и во время практики пи одной минуты не потерял зря. Еще до окончания института он работал мастером в небольшом мартеновском цехе, а получив звание инженера-сталеплавильщика, твердо решил так же глубоко, до самых тонкостей, изучить и другие металлургические специальности. Он был уверен, что ему предстоит большая руководящая работа, и, как капитан корабля, обстоятельно и неторопливо готовился к дальнему плаванию.
Окружающие с удивлением смотрели, как этот еще молодой, но уже грузный человек, созданный, казалось, для того, чтобы руководить и распоряжаться, таскает носилки с песком в паре с низкорослым и щуплым подростком. Впрочем, Ротов носил песок недолго. Вскоре он стал горновым, а затем мастером. Его смена быстро завоевала первенство и, не выпуская, держала переходящее Красное знамя. От назначения его помощником начальника цеха Ротов упорно отказывался – ему нужен был досуг. Наскоро пообедав после смены в цеховой столовой, он шел в другие цехи и проводил там по пять-шесть часов за углубленным изучением технологии. Особенно углубленно исследовал он причины неполадок и аварий и изыскивал способы их предотвращения. Узнав о затянувшейся плавке в мартене или о поломке валков в прокате, он спешил туда и внимательно наблюдал за тем, как восстанавливается процесс производства. Ротов не разбрасывался и, наметив себе какой-нибудь цех, ежедневно посещал его. Так было удобнее. Люди привыкали к нему, он привыкал к людям. Его считали студентом-практикантом, и он никого не разубеждал.
– Шел бы ты в техотдел, Леня, инспектором по авариям, – шутливо сказал ему однажды его однокурсник, работавший уже начальником блюминга, – очень уж ты авариями интересуешься. Или ты себя на главного инженера готовишь?
Ротов совершенно серьезно ответил:
– Ты угадал. Готовлю. И знаю, что из меня главный инженер получится, а вот из тебя… Из тебя, кажется, и начальник цеха не получится.
Однокурсник покраснел. Блюминг работал неважно, часто останавливался, давал много брака.
В отместку однокурсник прозвал Ротова «практикантом на главного инженера». Кличка привилась и долго сопутствовала Ротову. Но это не смущало и не сердило его.
Шли годы. Ротов не торопился, и его никто не торопил. Он работал, по-прежнему бывал во всех цехах и много читал. Родные его не обременяли. Отец – лекальщик завода «Красный путиловец» – зарабатывал достаточно и в случае необходимости мог еще помочь и сыну.
Девушки льнули к Ротову, хотя его никак нельзя было назвать красивым. Большой выпуклый лоб, широко расставленные глаза, упрямый туповатый нос, крупные, с решительной складкой губы, коротко остриженные, жесткие и непослушные волосы – во всем этом, казалось, не было ничего привлекательного. Но в его походке, спокойной и твердой, в манере говорить, неторопливой и уверенной, во всем его облике чувствовалась такая внутренняя сила, которая невольно покоряла и влекла к себе.
У него были увлечения, но все они оказывались кратковременными. Кому нужен был молодой человек, уделяющий своей девушке только вечер выходного дня? От него уходили к другим, менее занятым, более внимательным.
И все же нашлась одна, которая полюбила его и не ушла, как остальные.
От общественной работы Ротов тщательно уклонялся, считая, что она отнимает время, которого ему и так не хватало. В конце концов его вызвали в партийный комитет, и ему пришлось объясниться начистоту.
Секретарь парткома Гаевой – тоже однокурсник Ротова – внимательно выслушал его, но не одобрил.
– Ты – Плюшкин. Самый настоящий гоголевский Плюшкин. Копишь и складываешь в копилку. А по-моему, ты накопил уже достаточно, чтобы поделиться и с другими. Так, дружок, можно и привыкнуть брать без отдачи. Пойдем на компромисс. Я дам тебе такую нагрузку, которая придется тебе по душе. Пиши в газету. Об отстающих цехах, о передовых. Давай анализ их работы. Для начала возьми под обстрел блюминг, потом мартен.
Предложение Гаевого действительно пришлось Ротову по душе. Теперь, кроме вопросов эксплуатации, он занимался и экономикой. В связи с этим ему часто приходилось бывать в плановом отделе, где работала девушка по имени Людмила. Так они познакомились.
Первая написанная Ротовым статья была посвящена неиспользованным резервам блюминга. Блюмингом по-прежнему руководил однокурсник, давший Ротову кличку «практикант». Статья была обсуждена на партийно-хозяйственном активе. Ее пытались опровергать. Главный инженер завода Стоковский всячески шельмовал автора за безграмотность и всезнайство. Ротов отбивался репликами, хотел выступить с резкой речью, но по ходу собрания понял, что это излишне: статья была признана верной. Ротова прикрепили к партийной организации блюминга.
Через месяц появилась другая его статья, на этот раз посвященная мартену. Сайл бесился, Стоковский перестал замечать Ротова, Гаевой торжествовал.
После очередного собрания актива, на котором Стоковский квалифицировал предложения автора статьи как хулиганство в технике, а автор статьи обозвал главного инженера консерватором и трусом, Людмила, ставшая к тому времени женой Ротова, спросила его:
– Леня, если бы тебя назначили главным инженером, ты бы пошел?
– Что ты, Людмила! – испугался он. – Я еще слишком мало знаю! У меня еще пробел в энергетике. Думаю пойти в ремонтную бригаду на электростанцию.
Ротов уже несколько раз отказывался от должности помощника начальника доменного цеха. Когда нажим усилился и возникла опасность, что его могут назначить, не спрашивая согласия, он пошел в партком.
– Хочешь, чтобы блюминг увеличил производительность? – без обиняков спросил он Гаевого.
– Странный вопрос! – усмехнулся Гаевой. – Ведь блюминг – наше узкое место.
– Тогда помоги мне перейти на работу мастером нагревательных колодцев.
– Надумал что-нибудь?
– Надумал.
– Выкладывай.
Ротов коротко рассказал.
Прокатка опережает нагрев слитков. Операторы могли бы значительно, раза в полтора, превысить проектную мощность стана, но колодцы не успевают нагревать такое количество металла. По американскому проекту, в каждый колодец помещают четыре слитка стоймя, а он, Ротов, предлагает класть еще два сверху.
– В чем же дело? – спросил Гаевой.
– Все отказываются. И начальник цеха, и технический отдел, и главный инженер.
– А что говорят?
– Многое говорят, а еще больше пишут. – Ротов вытащил из кармана ворох бумажек с резолюциями.
Начальник цеха, ссылаясь на опыт американской школы, предупреждал, что подовые балки не выдержат такой нагрузки, что изменится направление газа в колодцах, что сместится усадочная раковина в слитках, посаженных горячими. Стоковский написал коротко: «Технический бандитизм!» – и перечеркнул всю страницу.
– Ты, я смотрю, с американцами не в ладу, – сказал Гаевой, прочитав резолюцию; он был механик и по металлургическим вопросам высказывался с осторожностью.
– Я со всеми не в ладу, кто говорит, что можно делать только так, как делали до сих пор, – ответил Ротов. – Я всегда думаю: а как бы сделать иначе?
– Так ты и домну скоро предложишь задрать вверх горном, – пошутил Гаевой, выгадывая время для размышления.
– Ты, Гриша, не крути, я от тебя многого не прошу. Помоги мне перейти на блюминг.
– Что ты там будешь делать?
– Это уж мое дело.
– Нет, расскажи.
– Ночью, когда буду дежурить, посажу в несколько колодцев по шесть слитков, прослежу за их нагревом, за прокатом, отберу образцы для испытаний и, если все будет хорошо, на следующую ночь посажу столько же во все колодцы.
– А если сорвешься? Если действительно балки полопаются? – спросил Гаевой.
– Ну, подумаешь, балки! Может, какая и лопнет – отремонтируют. А если не сорвусь?! – горячо воскликнул Ротов. – Это же значит: вместо двух тысяч семисот – четыре тысячи тонн. Сейчас, когда каждая тонна стали на учете…
Гаевой долго думал.
– Ну, решил? – нетерпеливо спросил Ротов.
– Нет, я думаю о другом. Что из тебя получится? Для того чтобы расти, нужно работать в одном цехе. Вот в доменном тебя давно выдвигают в помощники, проверят на этой работе – начальником назначат. А тут ты опять начинаешь с начала, с нагревальщика. Тебе давно пора быть на руководящей работе, ты переросток.
Ротов разозлился. Это слово надоело ему еще в школе. Он был выше всех в классе, учился лучше всех; в его летах всегда сомневались и не раз требовали метрику.
– А ты недоучка! – закричал он. – Я к тебе как к инженеру, как к коммунисту пришел за помощью. Ведь по твоему же предложению меня к блюмингу прикрепили. Вот результат моей работы. Решай. Идти мне здесь больше не к кому. Директор в отъезде, он бы поддержал. Поможешь или нет?
– Помогу, – сказал Гаевой, чувствуя, что Ротов сейчас хлопнет дверью и уйдет. – Черт с ним, отвечать будем вместе. От административного взыскания тебе не уйти. Стоковский беспартийный и такого случая не упустит. А от партийной ответственности избавим, возьму все на себя. Я только одного не могу понять – то ли ты в самом деле много знаешь, то ли ни черта…
– А если и ни черта, то это тоже неплохо, – вызывающе ответил Ротов. – Ты вспомни Бессемера: он говорил, что открыть новый процесс производства стали ему помогло полное незнание металлургии. Он был свободен от всяких догм и канонов. Плохо другое – блюмингу теперь не будет хватать слитков: мартен не обеспечит.
У Гаевого загорелись глаза.
– Вот это и хорошо. Это очень хорошо, Леня. Сейчас Стоковский носится с проклятым Сайлом, как с писаной торбой. Ему торопиться некуда, металла достаточно. А если блюминг прижмет, придется распрощаться с Сайлом, а может быть, и со Стоковским. Они же, мерзавцы, всю работу тормозят! Ну, а насчет незнания – это парадокс.
Гаевой ненавидел главного инженера за барские манеры, за апломб, за консерватизм. Всем существом он чувствовал в нем чужака, но доказать это было трудно.
– Надо сегодня же испробовать нагрев в двух-трех колодцах, – все так же горячо продолжал Гаевой. – Только сделаем иначе, чем ты предлагаешь. Возьмем в оборот начальника блюминга. Расставим людей в смене: на стан – лучшего оператора, к колодцам – лучших нагревальщиков, на уборочные краны – лучших машинистов. Всех коммунистов-руководителей – в цех. Пусть потом разбираются, кто прав, кто виноват. Игра крупная. Выигрыш – тысяча тонн металла, старые нормы вверх тормашками. Проигрыш… – Гаевой помолчал. – Проигрыш – мы с тобой вверх тормашками…
Ротов смотрел на него с восхищением. Именно таким, увлекающимся, горячим, смело идущим на риск, он знал Гаевого по партийной работе в институте.
– Медлить нельзя, – продолжал между тем Гаевой, – директор уехал в Москву защищать Григорьева, избавляться от Сайла. Если все будет хорошо, дадим ему вдогонку телеграмму. Понимаешь, как она ему там поможет? Хочешь не хочешь, а придется форсировать печи. Гаевой снял трубку и позвонил в отдел кадров:
– Ротова переводи на блюминг. Сегодня же. Сейчас же. Сейчас же. Ни с кем не согласовывай, с начальниками я договорюсь сам.
Он вызвал доменный цех и, закрыв мембрану рукой, весело сказал:
– Началось самоуправство. А ты давай уходи, я буду с блюминга людей вызывать.
Бережно сложив бумажки с резолюциями, он запер их в сейф.
– Можете идти, товарищ Ротов, – официально сказал Гаевой, – ваше предложение принято. – И улыбнулся одними глазами.
За четыре часа до начала смены Ротов явился на колодцы и застал всех в сборе. Возле оживленного Гаевого с унылым видом стоял начальник блюминга. Он понимал, что Стоковский в любом случае наложит на него взыскание, и знал, что оно будет особенно строгим, если эксперимент окажется удачным…
Ротов принялся командовать. Гаевой не узнавал его. Куда делась спокойная тяжелая походка, неторопливая речь? Он метался по площадке, наблюдая за посадкой каждого дополнительного слитка, кричал на машинистов и ругался, как никогда в жизни. К началу ночной смены все тридцать два колодца были заполнены слитками. Начали прокатку, и Ротов побежал к стану. Оператор ни на секунду не отрывался от рукоятки управления. Когда он хотел курить, ему вставляли в рот зажженную папиросу. Семитонные слитки быстро мчались по рольгангу к стану, втягивались валками в одну сторону, потом в другую, становились тоньше и длиннее. Ротов побежал на колодцы, потом опять вернулся к стану. Выдав тысячу двести тонн вместо восьмисот, уставший от беготни, от нервного возбуждения, он ушел домой спать, но долго лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая, испытывая одно чувство, заполнившее его всего, – радость.
Вечером приехал Гаевой. Он быстро вошел в комнату, еще более возбужденный, чем во время беседы в парткоме.
«Седые виски, а какие молодые глаза! – успела подумать Людмила. – Седеет, но не старится».
– Победа и разгром! – сказал Гаевой, бросая кепку на диван. – Начальника блюминга Стоковский снял и перевел старшим мастером на колодцы, чтобы впредь и другим неповадно было.
А его? – встревожилась за мужа Людмила.
– Он уволен с завода, – спокойно сказал Гаевой.
Ротов побледнел. Он всего ожидал, но только не этого.
– Все хорошо, Леня, очень хорошо, – говорил Гаевой, не обращая внимания на испуганные глаза Людмилы. – Стоковский перегибает палку и тем самым разоблачает себя. Посиди дома, отдохни, с жинкой в театр сходи – ведь ты ее не особенно балуешь.
Два человека сидели дома и с нетерпением ждали директора – Ротов и Григорьев. Третий – начальник блюминга – безотлучно дежурил на колодцах, боясь, что примеру Ротова последует кто-нибудь еще.
Как только вернулся директор, новый режим нагрева слитков был проведен приказом по заводу. После разгрома американской школы Сайла Стоковского перевели на рядовую работу, в отдел оборудования наркомата.
Вскоре после ухода Стоковского Ротова назначили начальником доменного цеха, но и ему, и Людмиле, и всем остальным было ясно, что эта работа не могла его удовлетворить. Он привык жить интересами всего завода и, в короткий срок наладив работу своего цеха, по-прежнему бывал в других цехах, на строящихся объектах, в плановом отделе.
Через год он был уже заместителем главного инженера, затем главным инженером. Это не удивило никого, но многих испугало. Ротов слишком много знал и требовал от своих подчиненных столько же, сколько и от самого себя.
Когда его наконец назначили директором завода, ему было жаль расставаться с технологией, и он с ней так и не расстался. У него по-прежнему хватало времени на все. Основным цехам он уделял день, остальным – вечер. Половину ночи он неизменно проводил за чтением. В выходной день директор появлялся в цехах только для того, чтобы разогнать по домам некоторых слишком усердных начальников. Он тщательно следил не только за тем, как его подчиненные работают, но и как они отдыхают.
При заводе был создан целый комбинат отдыха. В сорока километрах от города, на берегу живописного горного озера, быстро вырос дом отдыха с летним театром, кинотеатром, рестораном, лодочной пристанью, пляжем. Неподалеку раскинул свои палатки и пионерский лагерь. Поездка сюда была для командного состава обязательной, от нее освобождал только директор.
Ротов начал строить комбинат, еще будучи главным инженером. Директор завода счел это вмешательством в свои функции. Но такова уж была натура главного инженера, что он не мог не вмешиваться решительно во все. И если по этой причине он, будучи главным инженером, не ладил с директором, то теперь, будучи директором, по той же причине не ладил с главным инженером. На каждого нового работника, назначенного к нему на завод, Ротов смотрел как на неизбежное зло. И когда к нему в кабинет вошел маленький худой человечек, положил на стол приказ о назначении Мокшина Евгения Михайловича на должность главного инженера и сел в кресло, протирая запотевшие с мороза очки, директор с нескрываемым изумлением посмотрел на его подслеповатые глаза с короткими рыжими ресницами, на всю его тщедушную и слабую фигуру.
К этому времени Ротов привык считать себя непогрешимым, а свой путь – единственно правильным для советского инженера. Этого тщедушного, большеголового человека он решительно не мог представить себе в цехе, на рабочем месте. И руки у будущего главного инженера были маленькие, женские.
Директор сразу принял его в штыки.
– Вы на производстве когда-нибудь работали? – спросил он таким тоном, словно от этого зависело, будет ли Мокшин работать на заводе.
Тот кивнул головой. Губы у него были плотно сжаты, казалось, он не мог разжать их.
– Где? – спросил директор.
Мокшин с трудом разжал губы и ответил неожиданным басом:
– Знаете что, товарищ директор, с моим личным делом вы познакомитесь в отделе кадров. А сейчас не будем терять время на взаимные расспросы. Завод не в таком состоянии, чтобы тратить его зря. О заводских делах тоже пока говорить не будем – осмотрю вначале сам. Техническая политика на заводе – моя, остальное – ваше. Установку о работе получите от наркома. Кстати, могу передать вам одну его фразу дословно, до буквы: «На этом заводе считают, что у них большие достижения, потому что большой объем работы. А качественные показатели у них плохие. Забыли там, что количество растет из качества».
Он встал, протянул маленькую, но, как оказалось, очень сильную руку и вышел.
Ротов растерялся – кажется, впервые за всю свою жизнь.
Из всех главных инженеров этот оказался самым беспокойным. Он прочно занял свое место в руководстве заводом, и Ротов чувствовал, как сужается круг его директорской деятельности. Для того чтобы совсем не оторваться от цехов, Ротов стал проводить рапорты, чередуясь с Мокшиным. Иногда директор вмешивался в распоряжения главного инженера, но тот каждый раз давал ему понять, что он не прав.
Вскоре произошел случай, заставивший Ротова впервые усомниться в своей непогрешимости.
Директор давно уже собирался на сутки остановить цехи с тем, чтобы очистить газопровод. Мокшин принципиально договорился с ним, что цехи остановятся 1 июня 1941 года. Но когда соответствующее распоряжение появилось за подписью главного инженера, Ротов усмотрел в этом неуважение к своему директорскому достоинству и передвинул срок на 1 июля.
После того как началась война и завод перешел на оборонные заказы, остановка цехов на сутки, естественно, оказалась невозможной. Ротов понимал: в конце концов цехи придется остановить больше чем на сутки, но ничего не мог придумать, чтобы предотвратить это. Советоваться с главным инженером он не хотел, так как чувствовал, что сам во всем виноват. А Мокшин, в свою очередь, упорно молчал и, как казалось Ротову, был очень доволен тем, что дал директору жестокий урок.
Когда Ротов заметил, что крайние печи во втором мартеновском цехе пошли холоднее, он почувствовал, что попал в тупик. Останавливаться было нельзя, но и работать дальше становилось невозможно.