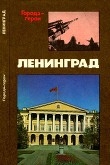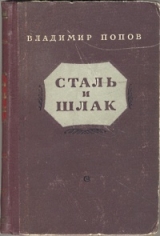
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Пырин оказался очень полезен подпольщикам. В городской управе он получил разрешение на открытие собственной ремонтной мастерской и занял для этой цели пустующий домик на одной из окраинных улиц. В жилой половине участники группы встречались с Сердюком, который был зарегистрирован как сотрудник по скупке и сбыту домашней утвари. Зайти в мастерскую было всегда удобно, тем более что в этой глухой части города клиенты не часто беспокоили Пырина. Постепенно в работе группы создалась определенная система.
Петр Прасолов поступил на завод. Этому участку Сердюк уделял особое внимание. На окружающих город шахтах патриоты не давали немцам выдать на-гора ни одной тонны угля, выводили из строя восстановленные клети и насосы, откачивающие воду; на одной из шахт умудрились взорвать копер. В этот район, как и в большинство районов Донбасса, гитлеровцы вынуждены были ввозить уголь из Германии. Активнее всего работали подпольщики на транспорте – взрывали эшелоны с боеприпасами, засыпали песок в буксы вагонов, проводили ремонт так, что паровозы останавливались на перегонах, едва выйдя из депо. А на заводе все было тихо. Товарищ, оставленный для этой работы, то ли провалился, не успев ничего сделать, то ли отсиживался, неизвестно чего выжидая. Это и заставило Сердюка заняться заводскими делами. В мартеновском цехе работал Сашка, каждую неделю проводивший читку «Донецкого вестника» по сделанной ему Сердюком разметке. Такую же читку проводил в механическом цехе молодой слесарь Семен Воробьев по заданию Прасолова, который успел уже обзавестись собственным активом.
Валентина Теплова нигде не работала, заручившись у знакомого врача справкой, что она больна туберкулезом. Это не могло вызывать особых сомнений, девушка так исхудала за последнее время, что на нее страшно было смотреть. На ее обязанности лежал выпуск листовок о положении на фронтах, с призывами к населению, и Сердюк совершенно серьезно называл Валю своим агитпропом. Он ухитрился раздобыть старенькую пишущую машинку, доставлявшую немало хлопот Пырину, которому чуть не через день приходилось ремонтировать ее. Сашкины «личные кадры» уже не занимались переписыванием – они только распространяли напечатанные листовки. Не работал и Павел. Он целыми днями шатался по городу, по базару и всегда возвращался с какими-нибудь новостями. Сердюк держал его в «горячем резерве» и не особенно о нем беспокоился: этот из любого положения выйдет – и от облавы ускользнет, и от мобилизации в Германию. Зато Гревцова доставляла немало беспокойства. По мнению Марии, подпольная группа сделала очень мало, а ей хотелось мстить непрестанно, действенно. Сердюк о многом ей не рассказывал, и она часто жаловалась Пырину:
– Остыл наш начальник, отсиживается. Так он до ста лет спокойно проживет, а что толку!
Пырин все больше молчал и, казалось, сочувственно слушал горячие слова Гревцовой.
Однажды, идя по городу мимо полицейского управления, Мария встретила свою подругу по школе – Норину. Когда-то они очень дружили, но потом охладели друг к другу. Романтической душе Марии был чужд практицизм Нориной. Девушки сошлись в свое время именно вследствие несходства характеров и по этой же причине разошлись. Теперь Норина встретила Гревцову так же дружески, как в лучшую пору их знакомства, расспросила ее и посоветовала устраиваться на работу.
– У нас в полицейском управлении ищут сотрудника в паспортный стол. – И добавила шепотом: – Доходное это дело, Муся, пошли, надо сегодня же зачисляться.
Гревцова подумала и согласилась.
Узнав от Павла, что Мария поступила на службу в полицию, Сердюк был несколько озадачен. Его рассердило нарушение элементарной дисциплины группы. Он приказал Павлу вызвать Гревцову, но Мария не явилась ни на другой день, ни на третий. Это еще больше озадачило Сердюка.
Наконец она все-таки пришла и, не говоря ни слова, положила на стол подписанные бланки пропусков для ночного хождения по городу. Все стало ясным.
– За это спасибо! – обрадованно сказал Сердюк. – Но вы забываете, товарищ Гревцова (он всегда принимал официальный тон, когда был недоволен кем-нибудь), что являетесь членом подпольной группы и…
– Бездействующей подпольной группы, – ядовито поправила Мария.
– Вы откуда знаете, действующей или бездействующей?
Она зло посмотрела на него.
– Ну, мне это все равно, я, во всяком случае, – бездействующий член группы, а мне хочется действовать. Если мне пока не позволяют стрелять фашистов, то я хоть буду спасать жизнь нашим советским людям. За это тоже стоит отдать жизнь. Вы, Андрей Васильевич, все больше дома отсиживаетесь, а если бы вы своими глазами посмотрели, что эти гады с народом делают, то у вас бы терпение лопнуло.
Сердюк с трудом сдерживал себя.
– Что вы делаете в полицейском управлении? – спросил он, резко меняя тему разговора.
– Пока еще немного, – смущенно отвечала Мария, – работаю в паспортном отделе. Интересное это учреждение – полиция. Там все продается и покупается: и штамп о перерегистрации, и освобождение от мобилизации, и даже освобождение из-под ареста. Оплата по соглашению в зависимости от жадности берущего и состоятельности дающего. Для группы полезна моя работа, я буду держать вас в курсе проводимых и намечаемых мероприятий.
– Вы еще не успели узнать, какой штат полицейских намечается в управлении? – заинтересовался Сердюк.
– Ну, как же не успела, знаю. Четыреста человек.
– А вы не ошиблись, Мария? Ведь это очень много.
– Это совершенно точно. Только такого количества они никак не наберут. Пока у них около сотни.
– Из кого вербуются полицаи?
– Охотнее всего принимают кулаков, репрессированных за контрреволюцию, не отказывают уголовникам.
– Какие отделы имеются в полиции?
– Отделов три: уголовный, политический, паспортный. Политический – непосредственно в ведения гестапо. Кстати, это здание напротив – страшное здание, Андрей Васильевич. Вчера один заключенный из окна ухитрился выпрыгнуть, с третьего этажа прямо на тротуар – пыток не выдержал. – Она вздрогнула. – Вы знаете, труп его целый день не убирали.
– И все же вопрос о своей работе вы должны были согласовать со мной, – прервал ее Сердюк. – Я предполагал использовать вас лучше – переводчиком в гестапо.
– Должна была, – согласилась Мария, – но тут нужно было сразу ответить: да или нет. Я поразмыслила и сказала «да».
Сердюк молчал, и Мария снова заговорила о своем:
– А все-таки обидно, Андрей Васильевич. Люди работают, эшелоны рвут, склады, а мы?
– Мы будем рвать паутину, которая оплела город, Маша. – И Сердюк осторожно, не до конца, рассказал ей, какая работа предстоит группе.
Мария несколько успокоилась.
– Работайте осторожнее, не зарывайтесь, – сказал он ей на прощание, и она кивнула головой.
Но чувство тревоги за нее еще более возросло. Сердюк опасался, что такая жгучая ненависть к врагу может не вовремя выплеснуться наружу.
Еще больше тревожила Сердюка неуверенность в том, правильно ли он поступает, давая участникам группы поручения, не соответствующие основной задаче их пятерки. Товарища Варьянова, о котором говорил Кравченко, не удалось найти ни по одному адресу, и это ощущение оторванности от организации угнетало Сердюка – советоваться было не с кем, помощи, если она потребуется, просить неоткуда, и он действовал так, как подсказывали ему обстоятельства.
Не успевало немецкое командование вывесить какой-нибудь приказ, как тотчас же рядом с ним появлялось обращение к населению с призывом не выполнять этого приказа.
Первая листовка, вылетевшая из трубы мартеновской печи седьмого ноября, была подписана буквами «ГК», что должно было означать: «Группа комсомольцев». Эту подпись население истолковало по-своему: городской комитет. Листовка сразу завоевала доверие. В дальнейшем Сердюк так и обращался к населению от имени городского комитета.
Порой листовки носили не агитационный характер, а были написаны в форме приказа. Так, после распоряжения комендатуры о сдаче теплых вещей германской армии появилась листовка, в которой городской комитет большевистского подполья запрещал населению сдавать теплые вещи.
«Пусть замерзают фашисты на нашей земле, пусть их греет вьюга – это поможет Красной Армии громить захватчиков».
Теплова рассказала Сердюку, что Опанасенко, окончательно подружившийся с Сашкой, говорил ему:
– Не ушла, значит, наша власть из города, с нами она. И советует, и просит, и приказывает. Так какой власти я буду подчиняться – ихнему коменданту, чтоб ему за шею с ковша плеснуло, или нашей?
В один из воскресных дней к Сердюку пришел Петр. Он был встревожен и не пытался скрыть этого.
– Андрей Васильевич, сегодня утром к нам пришла женщина, пожилая такая, лет за сорок. Говорит, что она из штаба партизанского движения, хочет связаться с вами.
– Ты говоришь – утром, а сейчас два, – сказал Сердюк, взглянув на буфет, где было выставлено несколько будильников.
– Я же не напрямик шел – так можно и шпиков сюда привести, – по городу петлял.
– Ты ее проверил хорошо? – спросил Сердюк.
– Хорошо. Действует она осторожно: вчера еще отыскала дом Гревцовой, но, узнав, что та работает в полиции, не рискнула с ней говорить, нашла меня, беседу повела осторожно, издалека начала. Весь состав нашей группы знает, характер задания тоже. Одно меня смущает – документов у нее никаких, ни одного.
– Вот это как раз и успокаивает, – сказал Сердюк, вставая, и стал поспешно натягивать полушубок. – Если без документов, похоже, что наша: у провокатора документов было бы больше, чем нужно. Гестаповцы без фальшивок ни шагу, они на это мастера.
Сердюк взял с буфета будильник и ушел. Спустя несколько минут за ним последовал и Петр.
Когда Сердюк появился у Прасоловых, связная дремала, но будить ее не пришлось. Услышав шаги, она быстро приподнялась и взглянула на вошедшего ясными, словно и не спала, глазами.
«Жизнь ведет тревожную, – отметил Сердюк, – а лицо спокойное».
– Я Сердюк, – сказал он.
– Паспорт, – потребовала связная и, надев простенькие, в железной оправе очки, тщательно рассмотрела документ, дважды сличив фотографию с оригиналом.
– Здесь вы моложе лет на десять, – сказала она, возвращая паспорт.
– Не мудрено, еще при наших снимался.
– Так вот что, Андрей Васильевич, – сказала связная, присаживаясь к столу, – документов у меня нет, записей тоже нет. У меня все тут, – показала пальцем на лоб. – Слушайте: Центральный Комитет КП(б)У и штаб партизанского движения поручают вам принять все меры, чтобы помешать пуску механического цеха.
– Я сам действую, как могу, – ответил Сердюк, оживившись: он был рад, что указания штаба совпадают с его собственными намерениями.
– Сейчас надо действовать еще активнее. Штаб считает, что лучше всего было бы взорвать электростанцию. – И она, со слов Кравченко, рассказала о заряде аммонита, замурованном в кабельном канале, рассказала подробно, словно сама там была и его видела.
– Где находится штаб? – спросил Сердюк.
Она насторожилась, глаза ее посуровели.
– Вам, пожалуй, следовало бы знать, что таких вопросов не задают, потому что на них не отвечают.
– Я и рассчитывал получить такой ответ, – усмехнулся Сердюк.
– Проверяете?
– Проверяю, – спокойно подтвердил он.
– Это неплохо.
– Вы мне вот что скажите, – сказал Сердюк, – разве это задание моего профиля? Почему бы его не выполнить группе, которая работает на заводе?
– Вы рассуждаете, как прокатчик, а не как подпольщик, – насмешливо сказала она, – хотя это, наверное, опять проверочный вопрос?
– Опять!
– Штабу неизвестно о существовании заводской группы. Товарищ Варьянов, оставленный для этой работы, – вы должны были держать с ним связь, – расстрелян в гестапо за незаконное ношение оружия. Кстати, ваши товарищи оружие с собой носят?
– Почему это вас интересует?
– Видите ли почему… Оружие часто способствует разоблачению подпольщика и редко спасает его. Вот возьмите Варьянова: его задержали случайно, по легкому подозрению, а нашли пистолет, и… он погиб. Оружие позволяет только дорого продать свою жизнь и спастись от пыток. Отсюда следует, что высшая храбрость для подпольщика – это брать с собой пистолет, лишь идя на операцию.
Выражение недоверия окончательно исчезло с лица Сердюка, и он подробно рассказал связной о Крайневе, Лобачеве, Пивоварове.
– Лобачев не наш, есть предположение, что он помешал взрыву станции. В истории с Крайневым не все ясно. – Она помолчала, раздумывая над тем, что услышала. – А как же все-таки насчет оружия?
Сердюк рассказал ей, что оружие он выдает участникам группы только тогда, когда они идут на оперативное задание.
– Ну, а теперь отчитывайтесь о работе, – потребовала связная, и интонация учительницы, спрашивающей урок у своего ученика, проскользнула в ее голосе.
Он рассказал ей все, что сделала группа.
– А какие у вас планы на дальнейшее? – осведомилась она.
– О планах я привык докладывать только после их выполнения, – замялся Сердюк.
– Теперь вам придется отказаться от этой привычки. ЦК и штаб не только дают задания и спрашивают отчет – они руководят работой групп и организаций, предупреждают ошибки и даже способствуют обмену опытом. Вот, например, обращается особое ваше внимание на людей, отпущенных гестапо на свободу. Ведь, как правило, гестаповцы освобождают только тех, кого удалось спровоцировать на работу в качестве агентов-осведомителей.
Сердюк, уже не таясь, рассказал ей все.
– Задумано очень хорошо, но пока сделано не очень много, – заключила она, внимательно его выслушав. – Вы еще не оправдываете название городского комитета, которое вам присвоили люди, но оно вас ко многому обязывает. Будьте пока хоть заводским комитетом – займитесь заводом, механическим цехом, лучше всего – выведите из строя станцию: ведь без электростанции завод не может работать ни одного дня. Если у вас мало людей, свяжитесь с другими группами, – она назвала фамилии и явки трех руководителей групп, – вам помогут и шахтеры. Эти люди привыкли отказываться от света, чтобы давать свет другим, а сейчас они отдают свои жизни, чтобы дать жизнь другим. Они очень самоотверженно работают в подполье.
Перед уходом связная договорилась с Сердюком о месте встреч – мастерская Пырина – и о пароле. Она сообщила, что устройству на работу и освобождению от мобилизации может содействовать один товарищ, служащий на бирже труда.
Только когда она надела старенькое пальто и закуталась в платок, Сердюк вспомнил ее: эта женщина вышла из кабинета Кравченко в тот вечер, когда Сердюк дожидался приема у секретаря. Она быстро прошла мимо, и он тогда не заметил ее лица.
«Вот это связная! – с восхищением думал Сердюк, возвращаясь домой. – Не связная, а настоящий инструктор, да еще какой – будто всю жизнь только этим и занималась! Да, не забыли нас, помогают, инструктируют, спрашивают, задание расширили. Значит, правильно, что я сам размахнулся широко. Теперь остается ударить». И в первый раз за все это время он радостно улыбнулся.
2
Очередная читка «Донецкого вестника», проводимая Сашкой во время обеденного часа, была прервана неожиданным происшествием.
В цех вошел офицер в форме СД с пятью солдатами и переводчиком. Рабочие встали.
– Кто здесь Лютов? – спросил переводчик.
– Я Лютов, – откликнулся мастер и, подбежав к группе, вытянулся в струнку.
Гитлеровец молча показал на него пальцем, и тотчас двое солдат скрутили Лютову руки и надели наручники. Остальные солдаты следили за рабочими, держа автоматы наготове.
Немцы ушли, уведя с собой мастера, который всем своим видом выражал горестное недоумение. Он решительно не понимал, откуда на него свалилась такая напасть.
– Догавкался, собака, в гестапо потащили! – злорадно произнес Луценко и, усевшись на кирпичи, полез в карман за бумагой. – Вот теперь накуримся, ребята.
Но курить пришлось еще меньше, чем раньше. Непосредственное наблюдение за бригадой взял на себя Вальский, которому немцы пообещали отдать имение в Орловской губернии, некогда принадлежавшее его отцу. Лютов кричал, ругался, но все-таки побаивался рабочих. Вальский же выслуживался, как только мог. Он по нескольку раз в день проверял работу, причем всегда появлялся оттуда, откуда его не ждали, – то из-за развалин соседней печи, то с верхней площадки, где, притаившись за колонной, наблюдал за рабочими.
Пять-шесть человек ежедневно лишались хлеба в результате его наблюдений.
Нередко появлялся Смаковский и по собственному усмотрению расправлялся с людьми. Приходил Гайс и тоже для острастки кого-нибудь наказывал.
Легче всего жилось тем, кто был занят на перестилке крыши цеха. Кровельщики с утра забирались наверх, захватив с собой несколько ведер кокса, разжигали камельки и отлеживались, попеременно отогревая бока.
Вальский на крышу лазить боялся, а придя в цех ровно в девять утра и не слыша стука инструментов, бесновался на площадке, задирая короткую, как у свиньи, шею, грозил кулаками и визжал.
«Работа» на крыше оживлялась. Кровельщики начинали энергично стучать молотками, каблуками, а кое-кто просто кулаком. Вальский успокаивался и уходил.
Своими ежедневными ябедами Вальский окончательно надоел Гайсу.
– Я не могу всех сажать в лагерь, – однажды сказал Гайс не в меру ретивому «майстеру», – должен же кто-то работать.
Вальский помчался к фон Вехтеру и пожаловался на Гайса: Гайс не поддерживает его авторитет, Гайс либеральничает с русскими рабочими.
На этот раз он переусердствовал.
Какая сцена произошла у владельца завода с зондерфюрером, неизвестно, но только Гайс прилетел в цех красный, потный, взбешенный.
– Где есть своличь Вальски?
Опанасенко молча пожал плечами.
– Вальски нихт майстер! Ти есть майстер. – Гайс ткнул его пальцем в грудь.
– Ну какой я начальник! – возразил Опанасенко и замотал головой.
– Молтшать! Ти есть нашальник! – закричал Гайс и так дико посмотрел на Опанасенко, что тот пожалел об отсутствии Вальского: будь он тут, ему бы здорово влетело от немца.
– Майстер гнать на шея! – крикнул Гайс и выбежал из цеха.
Бригада собралась вокруг новоиспеченного начальника. Тот сконфуженно ворчал:
– Дожил-таки до чести, начальником стал у немцев! Тьфу ты, господи, сто чертей твоей матери!
В этот момент из-за печи неожиданно появился ничего не подозревавший Вальский.
– Опять, голубчики, стоите! Заморю! Перестреляю! – завопил он.
Несколько секунд все стояли молча. Сашка затаил дыхание, с интересом ожидая, чем все это кончится.
– Ты на кого кричишь? – неожиданно суровым тоном спросил Опанасенко. – Я здесь начальник! Гайс сказал, чтобы тебя отсюда гнали поганой метлой. Да уходи же ты, гад! – И он нагнулся за лопатой.
Вальский, спотыкаясь о разбросанные кирпичи, побежал из цеха. Сашка бросил ему вслед кусок кирпича, но второпях промахнулся.
Новый начальник избрал своим кабинетом комнату экспресс-лаборатории. Отсюда была хорошо видна дорога, по которой ходили в цех Гайс и Смаковский. Возле Опанасенко всегда дежурил рабочий, который своевременно предупреждал бригаду о появлении начальства. По сигналу дежурного бригада дружно принималась за работу – и все были довольны.
3
Характер зондерфюрера и его тяжелый кулак были хорошо известны Вальскому, и он боялся появляться не только на заводе, но и на улице. Несколько дней незадачливый «майстер» скрывал свои злоключения от жены, но в конце концов вынужден был признаться, что «потерял службу». Дни проходили невесело. Жена плакала и ходила на базар продавать вещи, Вальский сидел дома, размышляя о своей плачевной судьбе, и предавался любимому занятию – рассматривал старые фотографии. Далекое прошлое вставало в памяти во всей своей неповторимой прелести. Вот он, держась за руку матери, величественной дамы с высокой прической, стоит у огромной цветочной клумбы. Вот с пожелтевшей фотографии смотрит дородное, холеное лицо отца. Он снят на фоне длинной кленовой аллеи, ведущей к дому с колоннами.
А вот он, Вальский, в щегольской студенческой форме с однокурсниками возле стола у серебряной чаши для пунша. Спирт, горящий в чаше, оплавляет сахарную голову, водруженную на скрещенных шпагах. Эта последняя фотография помечена 1917 годом – годом окончания Рижского политехнического института и конца беззаботной жизни.
Более поздние фотографии Вальский рассматривание любил. Они лежали совершенно отдельно, плотно связанные черной тесьмой, – это была уже другая жизнь, лишенная надежд на возврат к милому прошлому.
И вдруг снова возродились эти надежды. Вспыхнула война, и то, что казалось безвозвратно потерянным, вдруг снова воскресло в мечтах. Теперь все заботы Вальского свелись к одному: сохранить жизнь (никто не сидел в щели столько, сколько он) и… купчую крепость, дававшую ему право вступить во владение имением. Документы, уложенные в железный ящик, были закопаны в погребе, – если даже дом сгорит, они уцелеют.
Пришли гитлеровцы, и надежды Вальского как будто близились к осуществлению. Фон Вехтер обещал ему всяческое содействие, если он будет стараться. Он старался, как мог, и все шло хорошо, но упрямство этих проклятых рабочих, не желавших честно трудиться, и сумасшедший характер Гайса испортили все дело.
Зондерфюреру Вальский прощал его поведение, даже в глубине души боясь злиться на него.
Убедившись, что на заводе ему оставаться нельзя, Вальский подал в орткомендатуру заявление с просьбой разрешить ему выезд в Орловскую губернию, чтобы принять принадлежавшее ему по праву наследства имение.
Пфауль откладывал выдачу визы на выезд со дня на день и, когда Вальский зашел к нему лично, направил его к начальнику СД – оберштурмфюреру фон Штаммеру. Не без дрожи подходил Вальский к мрачному зданию гестапо.
Фон Штаммер был занят. Вальский долго сидел в приемной. Из кабинета доносились душераздирающие женские крики.
Наконец дверь распахнулась, и двое молодчиков выволокли из комнаты пожилую женщину с растрепанными седыми волосами. Глаза ее были закрыты. Когда Вальского позвали в кабинет, он не сразу смог подняться с дивана.
Оберштурмфюрер принял его сурово.
– Я думал, что вы остались помогать Германии в осуществлении ее великой миссии, а вы работали очень плохо, – сказал он, и переводчик перевел Вальскому эту фразу.
Вальский стал оправдываться. Он довольно бойко говорил по-немецки, и фон Штаммер заметно смягчился.
– Я понял, что вы хотите помогать нам и работать. Я правильно понял? – милостиво проговорил он.
– Конечно, конечно, правильно, я очень хочу помогать, очень! – обрадовался Вальский и от полноты чувств прижал руку к груди.
– Что же было в вашем имении при большевиках? – спросил Штаммер.
– Совхоз был.
– Вам нет смысла туда ехать. Совхозы немецкое хозяйственное командование пока превращает в государственное хозяйство. Они будут снабжать нашу армию. Мы дадим вам здесь хорошее место. А все же почему вы плохо работали на заводе?
Вальский начал жаловаться на рабочих – ленивы, не хотят трудиться. О Гайсе он не сказал ни слова.
– Будут добросовестно трудиться, когда мы уничтожим всех коммунистов и партизан, которые до сих пор руководят ими. Вы должны помочь нам в этом.
Вальский съежился от страха. Партизан он боялся больше всего на свете.
Фон Штаммер понял его:
– О, это совершенно безопасно! Вас назначат нашим старшим осведомителем, резидентом. К вам на дом будут приходить агенты-осведомители, приносить донесения, а раз в неделю наш связной будет их забирать и передавать политическому инспектору. Ходить сюда осведомителям нельзя – их тогда узнает весь город, а так все сохранится в тайне. Согласны?
Вальский хотел попросить время на размышление, посоветоваться с супругой, но, взглянув на Штаммера, взял перо и дрожащими пальцами подписал обязательство о неразглашении тайны и активном содействии СД.
– Помните, нас интересует все, что касается настроения жителей, – инструктировал фон Штаммер. – Тут важно всякое, казалось бы, незначительное высказывание, даже выражение лица. Например, хоронят погибших немецких солдат – житель улыбается. Достаточно. Сегодня он улыбается, завтра смеется, послезавтра убивает сам. Надо уничтожать не только партизан, но и тех, кто может стать партизаном. Вы поняли?
Покидая кабинет, Вальский все же упросил оберштурмфюрера дать жене визу на выезд. Судьба имения его по-прежнему беспокоила: не сгорел ли дом, не вырублен ли парк?
Начиная со следующего дня квартиру вновь испеченного резидента начали посещать осведомители. В субботу явился связной и забрал пачку доносов на людей, высказывавших недовольство немцами.
К концу второй недели Вальский вполне освоился со своей новой ролью, тем более что круг осведомителей был невелик. К Вальскому изо дня в день приходили четыре потрепанных субъекта, чем-то похожих друг на друга. Он покрикивал на них, когда они являлись с пустыми руками, хвалил успевающих, выплачивал им гонорар по установленной таксе, когда они приходили с добычей.
Они были сродни ему, эти люди, так долго и глубоко скрывавшие свою злобу и даже сейчас не вставшие на путь открытой борьбы. Он им даже завидовал, – в случае чего они так и останутся незамеченными. Вальский восторгался теми, кто действовал открыто в городской управе и полиции, но не одобрял их – мало ли что могло произойти на фронте. Даже временный захват города частями Красной Армии сулил большие неприятности, а эти, осторожные и тишайшие, останутся в стороне.
Постепенно у резидента установились дружеские отношения с осведомителями. Никогда еще Вальский так много и охотно не разглагольствовал. На заводе он не имел круга знакомых, его интересы слишком отличались от интересов окружающих, а эти высланные кулаки, осужденные за контрреволюцию, белогвардейцы, скрывающие свое прошлое, были понятны и близки ему.
Записка, переданная связным, несколько испортила настроение Вальского. Штаммер писал коротко: «Вы ловите мелкую рыбку. Нужны коммунисты и в первую очередь партизаны».
Прошла неделя. Осведомители обнаружили нескольких коммунистов, укрывавшихся от регистрации, но выявить партизан по-прежнему не удавалось. «Резиденту» наполовину снизили паек.
Прошла еще неделя, и Вальского вызвали в гестапо. Фон Штаммер принял его суровее, чем при первом свидании, и даже не предложил сесть. Резидент так и остался стоять перед столом, переминаясь с ноги на ногу.
– Плохо работаете. Сеть у вас хорошая, а ловите мелкую рыбешку, – медленно цедил фон Штаммер, не вынимая изо рта папиросы. – Пора и за крупную приниматься. Надо понять: если мы не уничтожим партизан, они могут уничтожить нас. Эти бандиты с каждым днем все больше наглеют, регулярно выпускают листовки, клевещут на доблестную германскую армию. – Штаммер протянул Вальскому листок с красной звездочкой, в котором подробно сообщалось о потерях немецких войск на фронтах.
Вальский невольно съежился, когда понял, что сообщение о разгроме не вымысел. Еще ни разу листовки со звездочкой и таинственной подписью «ГК» не сообщали лжи. Это было известно и Штаммеру – он сам точнее узнавал о положении на фронтах из этих листовок, чем из сводок личной квартиры фюрера.
– Так, как вы ищете партизан, вы их вообще не найдете, – продолжал Штаммер, когда Вальский осторожно положил листок на край стола. – Надо переходить к другим, более тонким методам. Надо самим создать партизанский отряд.
Лицо Вальского изобразило полное недоумение.
– Да, создать самим. Ловить рыбу на приманку, – подтвердил фон Штаммер. – Подберите подходящего человека из числа своих осведомителей или знакомых. Пусть он собирает вокруг себя недовольных, а чтобы у них не было никаких подозрений, натравить их на итальянцев. В городе стоит итальянский гарнизон. Итальянцы очень плохие союзники. Еще Наполеон, предшественник фюрера, говорил: «Чтобы Италию держать в страхе, нужна одна дивизия, чтобы оккупировать ее, нужно три, а чтобы воевать в союзе с Италией, нужно десять дивизий – затыкать бреши итальянского фронта». Вы знаете, что говорят итальянцы? Три города в России невозможно взять: Москву, Ленинград и Ольховатку… Как вам это нравится – город Оль-хо-ватка.
Штаммер усмехнулся. Угодливо осклабился и Вальский, хотя внутри у него что-то заныло. Значит, правда, что наступление немцев задержано и фронт недалеко. Вот почему осведомители охотнее брали советские деньги, нежели немецкие марки.
– Итальянцев необходимо позлить, они будут лучше воевать. Пусть наш партизанский отряд нападет на итальянский гарнизон и убьет несколько итальянцев. Если вы подберете хитрого руководителя, он сможет связаться с партизанским штабом, с другими партизанскими отрядами, он обрастет, как снежный ком. А потом мы их… – Штаммер загреб руками по столу. – Но руководителю дадим возможность бежать через линию фронта к красным, он и там будет работать на нас. Вы меня поняли?
– Понял… – поспешно согласился Вальский, мысленно проклиная тот день и час, когда он связался с гестапо.
– Вот и хорошо, – заключил Штаммер. – Выполните это задание – будете награждены знаком фашистской чести, – он с гордостью ткнул себя пальцем в грудь, украшенную значком с изображением черного страусового пера, – если не выполните, ну, тогда…
– Выполню, все выполню… – пролепетал испуганный Вальский. – Мне бы вот имение возвратить.
– За успешную работу возвратим и имение, – пообещал оберштурмфюрер.