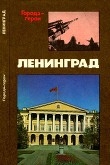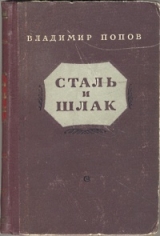
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
13
Иван Пафнутьевич Воробьев собирался на работу. Когда его младший сын Семен вернулся с завода, он укладывал в маленький железный сундучок пару картофелин и кусочек кукурузного хлеба.
Скудный завтрак легко мог поместиться в кармане спецовки, но Воробьев привык к этому сундучку с его узором, затейливо вырезанным из красной меди. Тридцать лет ходил он с ним на работу и остался верен своей привычке, хотя для его нынешнего завтрака сундучок был слишком вместителен. Картофелины катались в нем из угла в угол и в крошки дробили хрупкий хлеб. Старик с горечью вспоминал то еще совсем недавнее время, когда ему, наоборот, приходилось искать места в этом сундучке. Всегда что-нибудь не умещалось: или кусок сала с розовыми прожилками мяса, или бутылка с молоком…
– Ну что, завтра, значит, пускаете цех? – спросил он сына, молча снимавшего спецовку.
Тот только опустил голову.
– Брат до сих пор болеет?
– Нет, навещали его ребята, говорят, ходит. Это старик тот, – Семен приблизился к отцу, – поговаривают, что поломка – его рук дело, в редукторе гайка была, а куда она делась, никто не знает. Хитрющий старик, смелый, и память у него хорошая. Советская власть его высоко подняла, вот он и действует. Побольше бы таких, ничего с нами немец не сделал бы.
Иван Пафнутьевич сердито засопел. Он недолюбливал младшего брата. Федор и водки не пил, и женился, когда старший еще парубковал, и в сорок пять лет, работая уже мастером, не постеснялся сесть за парту и окончил курсы мастеров социалистического труда вместе со своими учениками (хочу, мол, быть зрячим практиком!), и домик себе выстроил, не в пример старшему брату, который всю жизнь таскался по квартирам. Не заглядывай Иван Пафнутьевич в бутылку, водить бы ему поезда на перегоне Дебальцево – Сталине, а он так и присох машинистом «кукушки», такой же старой, как и он сам. Всегда ему было завидно, когда в газете встречалась фамилия брата как лучшего мастера, а сейчас похвала брату и ущемила стариковское самолюбие, и обрадовала. Значит, ошибался он в Федоре, считая его скопидомом и стяжателем. Значит, брат не променял Родину ни на домик свой, ни на жизнь. Федору и сейчас карты в руки: поправится – опять что-нибудь устроит. А что может сделать он, Иван, кочегар, который только греет мазут двенадцать часов подряд!..
– Значит, к торжеству готовитесь? – зло спросил он сына.
– Немцы готовятся, – поправил его Семен, – на стане цеха свастики нарисовали, портрет Гитлера повесили.
– Не портрет надо было повесить, а его самого, сучку. По нем самом веревка плачет, – произнес старик и горестно задумался.
Сколько жертв, сколько людей брошено в лагеря, сколько расстреляно, а результат…
– Занятно получается, – произнес он, тяжело поднимаясь со скамьи и беря сундучок, – один сын эти самые танки бьет, другой ремонтировать собирается. Занятно… Неужели так-таки ничего сделать нельзя?
– Ничего, – хмуро ответил Семен, – этот проклятый инженер ключ к нам подобрал, прикрепил к станкам. Сломаешь станок – тут тебе и канут.
– Хлипкие вы какие-то стали, совсем хлипкие. Еще недавно были мастера на язык, на собраниях герои. Послушаешь, бывало, уши развесишь. А сейчас куда и прыть делась! – Иван Пафнутьевич в упор посмотрел на сына.
Семен опустил глаза. Он лгал отцу. Он знал, что цех завтра не будет пущен, потому что сегодня, после всех испытаний, в подшипники мотора главного привода на глазах у немцев залили масло в смеси с наждачной пылью и мелкими стальными опилками. Это наверняка выведет мотор из строя.
– Хлипкие, – повторил старик и вышел, не закрыв за собой дверь.
Семен озабоченно посмотрел ему вслед. Отец сильно одряхлел за последнее время, как-то сразу осунулся, сгорбился. Щеки впали, глаза глубоко ввалились и смотрели из-под седых бровей нелюдимо и зло. Даже усы опустились, обвисли и придавали лицу выражение растерянности и горечи.
До начала работы оставалось еще много времени, но Иван Пафнутьевич привык выходить из дому пораньше, чтобы идти не спеша, посидеть в жарко натопленной ожидалке, «брехаловке», как пренебрежительно называли ее транспортники, переброситься словцом с приятелями, послушать разные занятные истории. Теперь в ожидалке было совсем невесело. Люди обычно сидели и молчали, как на похоронах, а если начинали беседу, то становилось вовсе тоскливо. Но все же здесь по-прежнему собирались задолго до работы, чтобы хоть немного отогреться после нетопленых квартир, хоть немного побыть на людях.
«Неужели так-таки ничего сделать нельзя?» – думал Воробьев, неторопливо шагая на завод.
Миновав проходную, где полицаи проверили пропуск и выдали жетон на получение похлебки из картофельной шелухи, старик пошел не прямым путем, а направился мимо доменного цеха.
Здесь, на широком асфальтированном шоссе, вплотную с заводской железнодорожной колеей, по два в ряд стояли подготовленные к ремонту танки. Целая колонна танков.
Обычно Иван Пафнутьевич с удовольствием рассматривал развороченные башни, сорванные гусеницы, пробитую броню, но сегодня он смотрел на танки с болью. Завтра их начнут ремонтировать, и они снова поползут на фронт, на восток, и ремонтировать их будет Семен – его сын.
Неожиданно старик поскользнулся и с трудом удержался на ногах. Только сейчас он заметил темную лужу, на асфальте и, осмотревшись, увидел тонкую полоску мазута, тянувшуюся по шпалам вдоль пути. Он понял, что паровоз недавно протащил здесь цистерну, спускной люк которой был плохо закрыт и пропускал. Паровоз, очевидно, отказал – уголь последнее время был плохой, немецкий. Пока цистерна стояла, под ней образовалась лужа.
Иван Пафнутьевич вдруг хлопнул себя по лбу и несколько мгновений простоял как зачарованный. Потом он оглянулся, словно кто-то мог прочитать его мысли, и быстро зашагал прочь. В такт его шагам по дну сундучка погромыхивали картофелины.
Впервые он не зашел в ожидалку, а направился прямо к паровозу. Это был один из тех небольших старых паровозиков, которые на заводе называли «кукушками», Он, казалось, врос в землю. Кучи неубранных сгарков, огромные сосульки закрывали его колеса.
Паровоз уже давно стоял у мазутохранилища без всякого движения. Немцы использовали его как паровой котел для разогрева застывшего мазута перед сливом в бак.
Старик принял смену, раньше времени отпустив дежурного машиниста, подбросил угля в топку и пошуровал в ней так, что искры снопом полетели из трубы.
– Но-но, ты потише, дед! – закричал на него перепуганный сливщик. – Кругом мазут, недолго и до беды. Что ты, ехать куда собрался, что ли?
– Отъездился я уже, Сема, – сказал Воробьев, но бодрый тон, которым он произнес эти слова, не соответствовал их грустному смыслу.
До отказа забросав углем топку, Иван Пафнутьевич взял кирку и начал раскайловывать смерзшиеся сгарки.
Часа два спустя пришел фельдфебель с двумя солдатами, взглянул на вспотевшего старика и усмехнулся.
– Russische Schwein arbeitet rein88
Русская свинья работает чисто.
[Закрыть], – сказал он солдатам, и те громко расхохотались.
Что такое «швайн», Воробьев уже хорошо знал, но что значит «райн», узнать еще не удосужился. На всякий случай угодливо закивал головой.
– Да, да, рай, – подтвердил он, и солдаты, снова рассмеявшись, ушли.
– Рай, – пробормотал старик, очищая лопатой раскайлованные сгарки, – будет вам сегодня рай!
Утомившись и вспомнив о завтраке, он залез в будку и начал собирать по дну сундучка крошки хлеба.
«Надо было бы хоть соломы наложить, чтобы картошки не катались, – подумал с досадой. – Вот чудак, раньше не догадался! Ну, не беда, завтра положу».
– Завтра, – произнес он вслух и задумался.
Нацедив из контрольного краника кипятку, он выпил несколько глотков пахнущей известью и маслом воды и принялся за еду.
Поздно вечером «кукушка» снова стала похожа на паровоз.
Большие кучи сгарков и льда высились по обеим сторонам пути.
Проверив давление пара – стрелка манометра подошла к красной черте, – Иван Пафнутьевич направился в депо. В железном ящике, стоявшем в углу, он набрал большую охапку обтирочных материалов, пакли, концов, пропитанных маслом, принес их в будку и уложил в углу.
– Да ты что, гнездо вить собрался, что ли, как воробей? – удивленно спросил сливщик.
– Гнездо, Семен, гнездо. На том свете мягче будет, – ворчливо ответил старик.
Гудела топка, ровно бурлил мазут в цистерне, а Иван Пафнутьевич все подбрасывал и подбрасывал уголь. Потом обошел паровоз, залил смазку в буксы, зачем-то постучал пальцем по цилиндру.
Закончив свои дела, сливщик снова пришел к старику.
– Пойду подремлю в брехаловке, – сказал он. – Как только разогреешь цистерну – разбудишь. – Он ушел, вытирая паклей измазанные руки.
После двенадцати ночи Иван Пафнутьевич пощупал цистерну: она была горяча.
Старик заторопился, отключил паровоз, машинально протянул руку к свистку, но вовремя спохватился и выругался. Положил руку на регулятор и с бьющимся от волнения сердцем начал медленно открывать его.
Паровозик не двигался.
«Неужели не пойдет?» – с ужасом подумал старик и резко нажал регулятор.
Паровозик рванулся и покатился по рельсам.
В первый раз за всю свою долгую жизнь машинист отправился в путь, не подав сигнала.
Остановиться, перевести стрелку, подъехать к цистерне и набросить сцепление было делом нескольких минут.
«Кукушка» медленно потащила цистерну по заржавленным заводским путям.
Подъехав к асфальтовой дороге, Иван Пафнутьевич дал самый тихий ход, выскочил из будки и открыл люк. Горячий мазут ровной струей ударил в асфальт, заливая гусеницы ближайших танков, разливаясь, как вода.
Машинист залез на паровоз и повел его вдоль танковой колонны.
Когда показались последние танки и цистерна успела опорожниться, старик дал задний ход и повел паровоз обратно.
Сунув в топку приготовленный заранее факел, он поджег сложенную кучей обтирку и начал выбрасывать горящую паклю на дорогу.
Пламя обжигало ему руки, обгорела борода, слиплись ресницы, а он все ехал и бросал паклю, думая только о том, чтобы никто не помешал ему доехать до конца колонны.
Там, откуда двигался паровоз, уже полыхала широкая огненная река, освещая мертвые кауперы, трубы, домны.
У проходных ворот послышались крики, свистки, выстрелы. Начали сбегаться полицаи и гитлеровцы.
Вдруг у начала колонны что-то взорвалось и со свистом полетело вверх. Это рвались бензобаки. Все сбежавшиеся хлынули назад.
Иван Пафнутьевич отъехал от колонны и выглянул из будки. Танки горели. Тогда обожженными до костей руками он рванул регулятор до отказа, дав полный пар.
Паровозик, толкая пустую цистерну и быстро набирая скорость, понесся по рельсам.
Старик закрыл глаза и подставил холодному ветру обожженное лицо.
На минуту ему показалось, что он ведет свой паровоз в обычный рейс. Но только на минуту. Цистерна сбила тупик и врезалась в заводскую стену. Воробьев ударился головой о топку и потерял сознание.
14
На другой день после диверсии, рано утром, Крайнева вызвал к себе фон Вехтер. Уже подходя к двери, Сергей Петрович услышал бешеную ругань. Войдя в комнату, он увидел разъяренного фон Вехтера и бледного Смаковского. У стола сидел немец в форме гестапо с многочисленными знаками отличия. Его холодные, словно замороженные глаза на один миг остановились на Крайневе, и тот не успел разобрать их выражение.
– Ви надо повесить! – кричал фон Вехтер, тыча пальцем в сторону Смаковского. – Партизан зажигаль танки, а ви спаль, ви ему помогаль! Ви есть езель, осель! – И указал рукой на дверь. – Вон, шнеллер, вон!
Смаковский ушел, а фон Вехтер набросился на Крайнева:
– Что ви думать в своей голова? Что ви будет теперь ремонтировать? – И он со стоном упал в кресло.
– Я думаю, что было глупо оставлять танки без охраны, – невозмутимо ответил Крайнев и, не ожидая приглашения, сел в кресло.
– А ви зашем? – снова закричал на него фон Вехтер.
– Я начальник механического цеха, – с удовлетворением возразил Крайнев, – мой участок в полном порядке. Завтра пускаю цех.
Теперь он готов был пустить цех хоть сегодня. Для того чтобы убрать с шоссе все танки, потребуется не меньше недели. Из окна кабинета Крайнев видел, как два трактора, цепляясь друг за друга гусеницами, волочили по земле сгоревший, изуродованный танк.
Немцы начали разговаривать между собой, а Сергей Петрович рассматривал стол фон Вехтера. Здесь все сохранилось, как при Дубенко. И письменный прибор с чернильницами в виде сталеразливочных ковшей, и миниатюрная изложница для ручек и карандашей, и фигура сталевара. Даже графин на маленьком столике рядом был тот самый, из которого Дубенко, разгорячившись на рапорте, наливал себе воду.
Сергей Петрович так глубоко задумался, что даже вздрогнул, когда фон Вехтер обратился к нему снова.
– Я хочу вам задать вопрос, – сказал фон Вехтер. – Ви ошень любил свой сын?
– Очень, – ответил Сергей Петрович, соображая, что же последует дальше.
– Почему ви его отвез на Урал?
– Разве можно было подвергать опасности ребенка? Были бомбежки, ожидались большие бои за город. А Урал – это так недалеко. Немецкие войска скоро будут на Урале, он сдастся без боя. Поеду и заберу.
– Почему ви ушель от ваша жена? – снова спросил фон Вехтер. – Она карошая, она хочет нам помогать.
– Я ее уличил в измене, – сообразил Сергей Петрович и обрадовался, что так ловко у него получилось.
Немцы переговорили между собой.
– Ви назначен нашальник русской охрана всего завода, – торжественно сказал фон Вехтер. – Теперь ви будете отвечать за все своей головой. За все. Ви поняль?
– Я понял, – ответил Сергей Петрович, с трудом сдерживая радость. – Я сделаю все, что в моих силах. Но мне нужно завтра же осмотреть электростанцию.
Услышав это слово, немец, сидевший у стола, насторожился и долгим взглядом посмотрел на Крайнева. Сергей Петрович и на этот раз не понял выражения его глаз, но ему стало как-то не по себе.
– Почему у вас интерес к станция? Она хорошо охраняется.
– Раз я отвечаю за все, мне необходимо проверить, какие люди там работают.
Фон Вехтер перевел.
Сергей Петрович курил, делая вид, что решение вопроса его не особенно интересует.
– Карошо, – после короткого совещания произнес барон. – Шеф гестапо разрешает вам завтра быть на станция.
Крайнев вышел на площадь с сияющим лицом. Человеку бывает гораздо легче сдержать горе, чем радость. Да и зачем Крайневу было сдерживаться? Разве он не имел права на радость? Разве он не заслужил этого права?
Сколько раз он думал о том дне, когда ему удастся проникнуть на станцию! И вот он накануне решающего дня…
Это было осуществлением его самого горячего желания, исполнением его самой страстной мечты. Он испытывал то особое, ни с чем не сравнимое чувство, которое возникает в момент превращения мечты в реальность, вспомнил счастливейший день своей жизни, когда испытал его впервые.
По вызову наркомата он приехал в Москву, где давно стремился побывать.
И вот он поднимается к Красной площади мимо огромного музея, видит затейливые купола собора Василия Блаженного, острия кремлевских башен. Еще один миг, и знакомая панорама открывается перед его глазами. Он останавливается и переводит дыхание. Сколько раз видел он эту историческую площадь на снимках, на экране, в своем воображении, а сейчас вот она перед ним, и можно сколько угодно любоваться кремлевскими стенами, стройными елями, строгими линиями Мавзолея.
Ему хочется к чему-нибудь прикоснуться, унести с собой на память хоть веточку ели.
…Сергей Петрович шагает по шпалам мимо сожженных танков и не видит их. Мысли уносят его далеко от событий сегодняшнего дня. Но действительность властно напоминает о себе. На фонарном столбе, высоко над дорогой, лицом к сожженным машинам висит Иван Пафнутьевич. Обгоревший, маленький, он склонил голову набок, словно удивляясь, что ему удалось совершить такое большое дело.
Непреодолимое желание снять кепку и поклониться этому мужественному человеку овладевает Крайневым, и он ускоряет шаги.
В цехе Сергей Петрович вызывает к себе Прасолова. Тот входит, как всегда, мрачный.
– Сегодня вечером принесите мне на старую квартиру детонаторы и шнур. Завтра станция полетит в воздух, – тоном приказа говорит Крайнев и удивляется тому, что Прасолов смотрит на него по-прежнему недружелюбно.
– Расскажите подробнее, – говорит Прасолов.
Его недоверие раздражает Крайнева.
– Идите и выполняйте приказание!
Валя пришла поздно ночью. Сергей Петрович посмотрел на нее и содрогнулся. Она была неузнаваема. Над верхней губой огромный волдырь, волосы коротко подстрижены.
– Что с вамп, Валя? – испуганно воскликнул он.
Она мягко отстранила его руку.
– Осторожно. – Валя попыталась улыбнуться, но от боли сжала губы.
Потом расстегнула ватник, достала детонаторы и шнур и положила все это на подоконник.
– Что с вами? Где это вас так разукрасили?
– Это пустяки, Сергей Петрович, это я сама. Проходу нет девушкам от солдатни, ну, я вчера нагрела щипцы – и к губе, но перестаралась немного. Не беда! До наших заживет, а теперь хожу спокойно: кому такая красуля нужна?
Они уселись на диване и долго молчали. Сергей Петрович думал о себе, Валентина – о нем. Взрыватели мирно покоились на подоконнике, освещенные мягким лунным светом.
– Ночь-то какая! – тихо сказал Крайнев. – Ходить бы сейчас по улицам, разговаривать, мечтать…
– Мечтатель, – с ласковой насмешкой произнесла Валентина. – Не похожи вы на мечтателя. Они все какие-то непутевые. А вы человек дела.
– Вы не правы, Валечка, – горячо возразил он, – мечтатели бывают разные. Одни помечтают, помечтают и успокоятся на этом. А другие чем больше мечтают, тем сильнее хотят реализовать свои мечты. А кто такие великие новаторы в технике? Мечтатели, Валечка, движут человечество вперед. А коммунисты – это самые активные мечтатели на земле. Они преображают мир сообразно своему учению, которое многие считали мечтой.
Валентина внимательно слушала, и ей, как всегда в его присутствии, становилось тепло и радостно.
Вдруг она вспомнила о том, что должно произойти завтра.
«Неужели он не понимает, что уже завтра его не будет? – подумала она, удивляясь, как мог он в эти минуты говорить и думать о другом. – Или он надеется остаться живым?» Валя покосилась на детонаторы – сто секунд от запала до взрыва…
Сергей Петрович понял ее.
– Валечка, возьмите и передайте Сердюку.
– Что это? – тихо спросила она.
– Прочтите.
Валя подошла к окну и при ярком лунном свете прочитала:
«Секретарю партийного бюро.
Иду на выполнение задания. Прошу считать коммунистом.
Сергей Крайнев».
Валя осторожно сложила бумагу и спрятала ее на груди. Слезинка засветилась у нее на щеке.
Сергей Петрович подошел к ней. Она обернулась, крепко обняла его, словно никуда не хотела отпускать.
– Сергей Петрович, родной мой! Как все это страшно! – И она разрыдалась.
Крайнев отвел ее от окна, усадил рядом с собой и, как маленькой девочке, вытер слезы. Она понемногу успокоилась. Потом порывисто прижалась к нему и, заглядывая в глаза, крепко поцеловала.
Невыносимо тяжело было Крайневу. Поглядывая на стрелки часов, он инстинктивно отдалял время своего ухода. Он знал, что через час после того, как он выйдет из дому, все для него будет копчено.
Они назначили срок ухода в семь часов. Прогудел гудок.
И тогда Валя еще раз обняла Крайнева.
– Сергей Петрович, вам пора.
Чтобы несколько овладеть собой, Крайнев подошел к окну.
В стекла неприветливо смотрело хмурое зимнее небо, и скромная желто-розовая заря бледной полоской лежала на горизонте. Невольно подумав, что это утро последнее, которое он видит, Крайнев постоял у окна, взял детонаторы и, не оборачиваясь, вышел.
15
Дмитрюк злился на свой тулуп больше, чем на лютые морозы. Куда бы он ни приходил проситься на работу, всюду ему, словно сговорившись, предлагали должность сторожа. Старик был уверен, что виной всему проклятый тулуп. В конце концов он пришел в ярость, вооружился сапожным ножом и отхватил полы сразу на пол-аршина. Такой же операции подвергся и длиннейший воротник, свисавший почти до поясницы. Из обрезков, которых хватило бы на добрый полушубок, Дмитрюк выкроил карманы, нашил их, хоть и не очень красиво, но зато прочно. Каждый раз, проходя мимо застекленных витрин магазинов, старик любовался своим произведением. Оно не было похоже ни на один из видов принятой теплой одежды, но это его мало беспокоило.
К Макарову Дмитрюк из деликатности больше не показывался – пусть, мол, новый начальник осмотрится, – но времени зря не терял. Приняв в эшелоне шефство над женщинами с детьми, он считал себя по-прежнему обязанным помогать им и целые дни проводил в заботах. Его привыкли видеть и в детских яслях, куда он устраивал своих маленьких подопечных, и в коммунальном отделе, и в больнице, и в отделе кадров, но чаще всего в заводском комитете профсоюза. Именно здесь ему удалось добиться, чтобы Пахомовой и Матвиенко дали большую и теплую комнату и чтобы их устроили на работу в разных сменах. Женщины прекрасно справлялись с домашними делами, одна из них всегда была дома.
Дмитрюк приходил в недавно организованный для семей фронтовиков дом-коммуну, как к себе в цех, покрикивал на уборщиц, журил заведующую и с нескрываемым удовольствием просиживал часок-другой в детском садике. Завидев своего деда-мороза, дети бросали все и бежали к нему.
Суровое детство было у Дмитрюка. Сказок ему никто не рассказывал, и он, дожив до старости, совсем не знал их. Чтоб позабавить малышей, старик купил на рынке растрепанный томик русских сказок. Каждую ночь перед сном он прочитывал одну сказку, а днем рассказывал ее детям. И все же его мучила совесть: «Ну какой же я дед-мороз? Тот всегда приходит с подарками, а я сказочками отделываюсь».
За неделю до Нового года Дмитрюк перестал бывать дома по вечерам. Он появлялся только после десяти – одиннадцати часов, усталый, но веселый.
– Загулял наш дед, – подтрунивали над ним соседи, – нашел где-то молодайку.
В самый разгар новогоднего вечера, когда дети кружились вокруг елки, такой огромной, какой они никогда не видели дома, на юге, появился дед-мороз в сопровождении Шатилова. Они с трудом волокли по полу мешок, набитый чем-то до отказа. Дед торжественно развязал его и с грохотом высыпал содержимое на пол. Малыши, увидев огромную груду ярко раскрашенных деревянных кубиков, с радостью набросились на них и сразу же принялись строить большой дом. Стены у дома были неправдоподобно пестрые, но это никого не смущало.
И в крупных делах, и в мелких хлопотах Дмитрюку помогала Людмила Ивановна Вершинина, светловолосая женщина с темными бровями и усталым взглядом. Она работала председателем комиссии по делам эвакуированных и первая обратила внимание на неугомонного старика. Вершинина сама попросила Дмитрюка помочь ей и дала ему несколько заданий, которые он охотно выполнил. С течением времени Людмила Ивановна убедилась, что лучшего помощника ей не найти, и предложила старику штатную должность в своей комиссии. Тот с тоской посмотрел на заводские трубы, дружно дымившие за окном, взвесил все «за» и «против» и согласился.
Круг его обязанностей сразу расширился. Теперь все жалобы поступали к нему, и старик разъезжал по городу, разбирая их на месте. Сначала он недоумевал, откуда взялась у заводского комитета такая шикарная машина, но, разговорившись во время одной из поездок с шофером, узнал, что машина принадлежит вовсе не завкому, а директору и что Людмила Ивановна – вовсе но штатный работник, а общественница, жена самого Ротова. Дед смущенно крякнул. Он не раз очень горячо, чуть ли не до перебранки, спорил с Вершининой, отстаивая правильность своих требований и поругивая директора, а она тут же снимала трубку и звонила Ротову, торопя его с решением тех или иных вопросов. При этом она разговаривала с директором так, что ее нельзя было заподозрить не только в родственной связи с ним, но даже и просто в знакомстве. Впрочем, и после своего открытия Дмитрюк не изменил отношения к начальнице – пусть знает наших! Немало директоров пришлось ему видеть за долгую жизнь. Они приходили и уходили, а он неизменно оставался на своем посту.
Новая работа увлекала старика, но каждый выходной день все-таки был для него настоящим праздником. В этот день он неизменно отправлялся на завод. Поднявшись рано утром, дед подпоясывал широким армейским ремнем свой гибрид тулупа с полушубком и уходил на завод вместе с рабочими. В проходной он долго рылся в ящиках с недоставленными письмами, для важности надевал на самый кончик носа очки и поверх них рассматривал адреса, далеко отставляя конверты.
Найдя письмо, адресованное кому-нибудь из своих (а своих у него теперь было очень много), Дмитрюк вскрывал его и без зазрения совести прочитывал. Относительно тайны корреспонденции он держался особого мнения. Мало ли что могло быть в письме! И сообщение о ранении, и даже похоронная… Нельзя же так просто взять это письмо и сунуть в руки адресату!
В таких случаях Дмитрюк подготавливал родных к печальному известию, особенно если это были женщины, и утешал, как мог. Откуда у этого ворчливого старика брались ласковые слова, никто не знал, но старенький его пиджак был пропитан слезами горя и радости.
Прочитав письмо, Дмитрюк прятал его во внутренний карман пиджака, в тот самый карман, где лежала заветная записная книжка в потертом коленкоровом переплете, разбухшая от вкладок и вшитых листов. Книжка эта была предметом его неизменной заботы, и он по нескольку раз в день нащупывал ее, пугливо хватаясь за тулуп. Нашедший книжку вряд ли смог бы разобраться в сложных иероглифах, порядок и назначение которых были понятны только хозяину. Все основные размеры мартеновских печей цеха, оставленного в Донбассе, значились на ее страницах. После того как заводской архив сгорел и чертежи печей погибли, Дмитрюк берег эти записи больше всего. В том, что восстанавливать печи придется именно ему, старик не сомневался – ноги еще держали, глаза видели ясно, память не ослабела. Бессонными ночами он не один раз повторял в уме размеры печей. Опустив ноги на меховой коврик, сшитый из обрезков тулупа, доставал из кармана, заколотого булавкой, драгоценную книжку и проверял себя. Он ни разу не ошибся, но с книжкой все же было спокойнее…
Однажды в проходной его внимание привлек конверт с несколькими фамилиями, написанными столбиком. Шатилову, Крайневу, Дмитрюку, Никитенко, Бурому… За все время войны это был первый конверт, на котором старик увидел свою фамилию. Он вскрыл его дрожащими от волнения руками, второпях надорвал листок и, не читая текста, взглянул на подпись. Матвиенко! Дмитрюк перевел дыхание, прочел письмо и, забыв про хромоту, помчался в цех. На его беду, никто из поименованных на конверте в утренней смене не работал. Пришлось ждать трех часов дня, когда они должны были выйти на работу.
Дмитрюк дождался сменно-встречного собрания перед началом работы и, попросив разрешения у Макарова, начал читать письмо Матвиенко. Он мог бы и не заглядывать в текст. Еще дома, просмотрев несколько раз, старик запомнил его наизусть.
– «Дорогие земляки, – читал Дмитрюк, – пишу, пользуясь секундными промежутками между разрывами снарядов. Ушли мы недалеко, раньше сюда доносился гудок нашего завода. Не пускаем гитлеровскую сволочь ни на шаг дальше. За нами – Алчевский завод, последний завод Донбасса».
Дмитрюк неожиданно шмыгнул носом и, помолчав, продолжал:
– «Он работает! По ночам зарево встает над заводом, а какая страшная степь перед нами! Раньше сверкала она огнями, а сейчас темно, как в могиле, только вспышки разрывов. И не зажечь гитлеровцам огней на этой земле. Борьба с ними идет и там, за линией фронта. Не дают им паши люди восстанавливать ни шахт, ни заводов. Это мы знаем от тех, кто ежедневно переходит к нам, вырвавшись из неволи. Про свой завод мы знаем все. Там то станки выводят из строя, то танки, собранные для ремонта, жгут. Борются зло, не жалея жизни. И мы воюем зло.
Держим эти пяди донецкой земли как залог, что вся она опять будет нашей. Несколько раз переходили в контратаки, топили врага в его собственной крови. Работайте так же и вы. Встретимся – отчитаемся, чтобы не стыдно было смотреть друг другу в глаза. Просим об одном – танков, больше танков, товарищи!»
Дмитрюк полез за платком.
– Так что мы ответим Михаилу Трофимовичу? – спросил он в полной тишине.
– Ответь вот что, – сказал Шатилов, который во время чтения письма не сводил глаз с Бурого: – «Земляки твои донбассовцы и…»
– И уральцы, – подхватил Пермяков, – все земляки, вся земля наша.
– И днепропетровцы, – подсказали из глубины комнаты.
– «…будут достойны звания фронтовиков». О процентах пока не пиши. Стыдно. Мало. Ведь правда мало, товарищи?
Мало, – отозвались сталевары.
– Но не все еще достойны, – продолжал Шатилов. – Напиши, что Василий Бурой целый месяц не шел на завод из самолюбия, а когда пришел, работает хуже, чем может, все ждет, что сталеваром поставят, тогда только думает развернуться. Так и напиши.
Загудел гудок. Дмитрюк сложил письмо и отдал его Шатилову.
Бурой встал красный, словно только что отошел от печи.
– Я прошу об одном, товарищи, очень прошу: ничего не пишите обо мне. – Никто никогда не слышал, чтобы Бурой просил, он всегда требовал. – Пропустите меня на этот раз, в другой раз плохого обо мне не напишете.