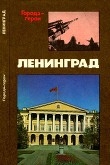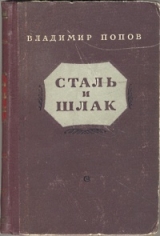
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Крайнев распахнул дверь. Теплова вздрогнула от неожиданности, но овладела собой и быстро переступила порог.
– Здравствуйте, Сергей Петрович, – произнесла Валя так, словно они виделись только вчера и за это время ничего не произошло.
– Здравствуйте, – с трудом выговорил Крайнев.
Несколько мгновений они молча рассматривали друг друга. Взгляд Тепловой задержался на его виске, где поседевшие волосы разрезались длинным узким шрамом.
В костюме военного покроя, ладно сидевшем на нем, с кобурой на поясе, он казался ей совсем чужим и незнакомым.
– Вы меня звали, Сергей Петрович?
Он порывисто схватил ее за руку.
– Валечка, вы можете мне поверить? – Голос его дрожал.
– Я вам всегда верила, Сергей Петрович, верю и теперь.
Только сейчас, когда он радостно улыбнулся, Валентина увидела его таким, каким знала всегда.
– Ну, рассказывайте, для чего звали?
Крайнев рассказывал торопливо, словно боясь, что его не успеют выслушать, сбивчиво, будто опасаясь, что ему не поверят. Сергей Петрович слышал свой голос как бы со стороны, чувствовал, что он звучит неуверенно, и с тревогой смотрел на Валентину, силясь понять, какое впечатление производят его слова.
Теплова слушала, взвешивая каждое его слово.
– Ну? – спросил он, закончив свое повествование.
– О предательстве Лобачева и Пивоварова мы уже знаем, – сказала Валя. – Я пришла к вам, Сергей Петрович, чтобы связать вас с подпольем.
Он снова схватил ее за руки и сжал их с такой силой, что она поморщилась от боли.
– Валя, Валечка, неужели это возможно? Я уже потерял надежду, что наши мне поверят. С ума можно было сойти от этих косых взглядов, от этой ненависти. Порой крикнуть хотелось: «Да поймите же, что я ваш, ваш!»
– Как я рада, Сергей Петрович, – сказала Теплова, взглянув на него с нескрываемой нежностью, – что вы до конца остались нашим, что я не обманулась в вас. Ведь я вам верила. Поймите: когда веришь в человека и ошибаешься, то перестаешь верить и людям, и самой себе.
В голосе ее было столько простоты и искренности, что у Крайнева перехватило дыхание.
…С настольными часами в руке Крайнев быстро шагал но улице города следом за Валентиной, держась от нее поодаль. Несколько раз он сгонял с лица улыбку и снова ловил себя на том, что улыбается. Далеко позади, не спуская с него глаз, шел Петр Прасолов. По другой стороне улицы – Павел. В другое время Крайнев, безусловно, заметил бы людей, неотступно следовавших за ним, но сегодня ему было не до того.
В мастерской он отдал часы, и мастер показал рукой на дверь, которая вела в жилую половину дома. В комнате рядом с сияющей Валентиной стоял Сердюк.
– Ну, здравствуй, товарищ Крайнев, – сказал он, подчеркнув слово «товарищ».
– Здравствуй, товарищ…
– Сердюк, – подсказала Валентина.
– Пришел, не побоялся?
– Если бы боялся, не пришел.
– Садись, рассказывай все по порядку.
Сергей Петрович снова рассказал все подробно, более подробно и связно, чем Тепловой. Наконец случилось то, на что он уже и не надеялся! Его слушали, ему верили!..
– Что ты думаешь делать дальше? – спросил Сердюк, внимательно выслушав его. – Что ты вообще думал делать? Действовать в одиночку, как герой-индивидуалист?
– А что я мог сделать? – спросил Крайнев. – Обстоятельства заставили стать на путь террора, и я запутался. Решил идти напролом, втираться в доверие, расширять сферу своего влияния, подобраться к станции. Пытался связаться с вами, но не удалось. Теперь будем думать вместе.
– Втираться, а не завоевывать, – подчеркнула Теплова и торжествующе посмотрела на Сердюка. Ей было жаль, что Петр не присутствует при этом разговоре.
Мужчины закурили.
– Задал ты нам задачу! – усмехнувшись, сказал Сердюк. – Ничего я не мог понять. После того как ты по радио не выступил, твое поведение стало понятнее, но, признаюсь, далеко не совсем. Потом ты начал свирепствовать в механическом цехе и снова спутал все карты. Вот только она твоим защитником была до конца. – Сердюк кивнул головой в сторону Тепловой. – С трудом мы добрались до истины.
– Как же вы все-таки до нее добрались? – спросил Крайнев.
Сердюк молча протянул ему пакет с сургучной печатью. Сергей Петрович прочитал донос и озабоченно нахмурился.
– Значит, Пивоваров действует?
– Действует, – подтвердил Сердюк. – Я думаю, судьба Вальского его кое-чему научит, но забывать о нем нельзя, он еще может ужалить.
– А как этот пакет оказался у вас в руках?
– Об этом когда-нибудь позже, – улыбнувшись, ответил Сердюк. – Ты вот скажи: что теперь делать с механическим цехом? Мы было решили подпилить вал главной трансмиссии, чтобы он во время пуска лопнул. Но теперь это стало невозможным – тебе будет каюк. А ты для нас… Да знаешь ли, что ты сейчас для нас?.. Организовать налет на станцию, добраться до заряда можно, но это связано с большими потерями в людях. А сорвать пуск цеха необходимо.
– Сорвем, – уверенно отозвался Крайнев, – я давно уже придумал, что сделать, но мне одному это было не под силу, а сейчас… Сейчас я как Антей, прикоснувшийся к матери-земле.
– Что же ты надумал? – спросил Сердюк.
– Нужно вывести мотор главного привода – за него отвечает хозяйственная команда, и это меня не коснется.
– Это правильно, но как? Ведь его усиленно охраняют?
– Его охраняют, – подтвердил Крайнев, – но масло для смазки не охраняют.
Сердюк хлопнул себя рукой по лбу.
– Валя! Позови сюда Петра, он где-то здесь неподалеку.
12
Зонневальд не переставал думать о судьбе бывшего начальника гестапо фон Штаммера, разжалованного за провал агентурной сети. Он всеми силами старался поддержать свою репутацию «мастера смерти».
Каждое утро Зонневальд наведывался к своим оперативным работникам, наводя страх не только на тех, кого они допрашивали, но и на них самих.
…В кабинете следователя Швальбе, завербованного в гестапо из бывших немецких колонистов, идет очередной допрос. Невысокий коренастый паренек стоит против следователя и спокойно отвечает на его вопросы.
– Значит, не комсомолец и не стахановец?
– Нет.
– Какие общественные нагрузки нес?
– Почти никаких. Разве только в лавочной комиссии состоял.
– И только?
– И только.
Швальбе молчит, не зная, что спрашивать дальше.
Замороженные глаза Зонневальда не изменяют своего выражения, но следователь понимает, что начальник недоволен.
– Что значит – и только? – по-немецки говорит Зонневальд. – Этого вполне достаточно. Был в лавочной комиссии – значит, помогал советской власти.
– Подпишите, – говорит Швальбе, протягивая пареньку протокол.
Когда тот ставит свою подпись, следователь пальцем показывает ему на дверь.
– А меня часовой выпустит или пропуск напишете? – спрашивает паренек, уверенный в том, что он благополучно отделался.
Швальбе хохочет:
– Вы уже подписали себе пропуск на шахту.
– За что? – спрашивает паренек, бледнея, но в голосе его больше удивления, чем страха.
– В камеру! – командует Швальбе.
Солдаты выводят паренька.
– Плохо работаете, – раздраженно говорит Зонневальд. – Этот парень виновен уже тем, что молод. Такой может уйти в партизаны, перейти границу, стать советским солдатом. У вас низкая пропускная способность, разговариваете много.
Швальбе слушает начальника, стоя навытяжку. Его глаза, такие же рыжие, как и брови, выражают внимание и угодливость.
Конвоир вводит пожилого мужчину.
– С этим придется поразговаривать, – как бы извиняясь, говорит Швальбе начальнику.
Зонневальд не удостаивает его ответом.
– Сильвестров Илья Иванович? – спрашивает Швальбе.
– Он самый.
– Коммунист?
– Нет.
– Стахановец-двухсотник?
– Это да.
– Садитесь, пожалуйста.
Сильвестров садится, бережно одернув натянувшиеся на коленях синие шевиотовые брюки.
– Я попрошу вас написать в газету о том, как вы стали стахановцем, – все так же вежливо говорит Швальбе. – Не так, конечно, как вы писали в «Металлург», – он указывает на газетную подшивку, лежащую на столе. – Вы напишете, что вам угрожали тюрьмой, ссылкой, что двести процентов вы никогда не давали, а вам это нарочно приписывали.
– Значит, вы хотите, чтобы я написал, будто я жулик, а не мастер своего дела?
Швальбе криво усмехается:
– Не жулик, а жертва. Жертва режима запугивания. Подумайте. Если вам трудно написать самому, за вас напишут, а вам останется только подписать.
– Это, значит, себя продать, Родину продать? Как же я после этого с людьми встречаться буду?
Швальбе щурится:
– А если вам вообще не придется с людьми встречаться?
– Все равно не подпишу, – поняв, что имеет в виду следователь, говорит Сильвестров, встает и застегивает пиджак.
– Массаж! – кричит Швальбе и, схватив плеть, бьет рабочего по лицу.
Конвоир подскакивает и ударяет сзади. Обливаясь кровью, Сильвестров падает на пол.
Зонневальд внимательно следит за струйкой крови, текущей к ковру.
Конвоир оттаскивает Сильвестрова к стене.
– Следующего! – приказывает Швальбе.
– Плохо бьете, – замечает Зонневальд. – Нельзя все время бить по голове: объект быстро теряет сознание.
Входит Луценко. Переступив порог, он останавливает взгляд на струйке крови, текущей по полу, и сразу понимает, почему завернут ковер. Оглянувшись и увидев окровавленного Сильвестрова, он вздрагивает. Ему хорошо знаком этот старый рабочий, с которым он много лет живет на одной улице.
– Садитесь, пожалуйста, – приглашает Швальбе.
Луценко слегка поднимает густые брови, отчего морщины у него на лбу обозначаются еще резче.
– Коммунист? – спрашивает следователь.
– Нет, беспартийный.
– Беспартийный большевик?
– Нет, просто беспартийный.
– Ну, не совсем просто, – возражает Швальбе.
В зубах у него папироса, и кажется, что слова проходят сквозь мундштук и вместе с дымом повисают в воздухе. Он открывает газетную подшивку, медленно читает подпись под фотографией, обведенной синим карандашом:
– «Беспартийный большевик, пенсионер Иван Трофимович Луценко, вернувшийся в цех, плавит сталь для разгрома фашистских банд». Значит, не просто беспартийный, а большевик?
– Выходит, значит, большевик, – спокойно соглашается Луценко.
– Придется повесить, – в тон ему говорит Швальбе.
Луценко бледнеет, но молчит.
В углу шевелится и стонет Сильвестров. Придя в себя, он садится на полу и осторожно ощупывает обезображенное лицо, на котором лохмотьями висит кожа.
Швальбе подходит к нему с плетью в руке:
– Ну, как теперь, подпишешь статью?
Рабочий отрицательно качает головой. Следователь с силой ударяет его ногой в зубы, и тот падает навзничь.
– К смертникам его! – нарочно по-русски говорит следователь.
Зонневальд взглядывает на Луценко. Сталевар сидит, стиснув зубы, капельки пота катятся по его лбу. Швальбе снова усаживается за стол.
– Давно здесь живете? – обращается он к Луценко.
– Родился тут, – отвечает старик. Он несколько овладел собой, но все же слова выговаривает с трудом.
– Закуривайте. – Швальбе с неожиданной любезностью протягивает ему портсигар.
– Не курю, – отвечает Луценко и ежится под холодным взглядом Зонневальда, уставившегося на его побуревшие от табачного дыма усы.
– Жить хотите? – в упор спрашивает Швальбе и выпускает струйку дыма в лицо старику.
Луценко жадно втягивает в себя ароматный дымок.
– Кому же помирать охота! – говорит он, исподлобья поглядев на Швальбе.
– Закуривайте, – снова предлагает ему Швальбе, и старик, не выдержав, берет папиросу.
Следователь многозначительно смотрит на Зонневальда и обращается к Луценко, стараясь придать своему голосу интонации дружеского участия.
– Я могу вам сохранить жизнь и даже дать хороший заработок в обмен на очень небольшие услуги.
– Какие? – спрашивает Луценко, глубоко затягивается и задерживает дым в легких.
– Вот передо мной газеты, у меня их много, за несколько лет. В них я встречаю фамилии людей, активно помогавших советской власти. Одни вырабатывали по две-три нормы, другие подписывались на заем больше, чем это требовалось, третьи подавали рационализаторские предложения. Но где эти люди, я не знаю, многих не могу найти, хотя они и не уехали. Вы давно живете в городе, старожил, как говорят, всех знаете, правда?
Луценко кивает головой в знак согласия и берет вторую папиросу.
– Вы могли бы помочь нам найти этих людей. Узнаете адресок – и нам…
– Это все? – спрашивает Луценко, делая затяжку за затяжкой.
– Все. Мы платим хорошо…
– Сволочь ты, подлюга, – не повышая голоса, говорит Луценко и делает последнюю затяжку.
– Массаж! – яростно кричит Швальбе, хватая плеть.
Зонневальд жестом останавливает его и поднимается со стула.
– Бить надо так, – говорит он, беря в руки плеть.
Заместитель начальника гестапо по хозяйству долго рассматривал учетную карточку рабочего, присланного биржей труда на должность слесаря-водопроводчика. Павел Прасолов, рождения 1922 года… Исключен из комсомола, до этого работал слесарем на заводе. Благонадежен.
«То, что рабочий неопытен, это плохо, – размышлял гестаповец, – но то, что он молод, это хорошо. Пожилые рабочие – опаснее. Два пожилых кочегара работали из-под палки и в конце концов сбежали, выведя из строя котлы. Этот просится сам – хорошо. Лицо у него какое-то удивленное, видимо, глуповат – еще лучше. Такой до диверсии не додумается».
Решив, что новый слесарь-водопроводчик соответствует своему назначению, гестаповец положил перед ним подписку о неразглашении тайны и активном содействии СД. Рабочий подписал, не задумываясь, что окончательно расположило гестаповца в его пользу.
Котельная парового отопления помещалась в полуподвальном этаже, и Павел нашел ее без труда: первая дверь по коридору направо. Комната напротив, с решетчатой перегородкой вместо двери, была завалена ворохами одежды.
Длинный коридор отгорожен высокой – от пола до потолка – железной решеткой, за которой прохаживались гитлеровцы, сквозь отверстия в дверях наблюдавшие за заключенными.
Едва Павел входит в котельную, как дежурный кочегар, сухопарый одноглазый детина с безобразным, обожженным лицом, начинает расспрашивать новичка, рассказывает о себе. Он успел уже побывать в бывшей немецкой колонии, из которой был выслан задолго до войны. Немцы вернули ему дом и назначили старостой. Он сумел поприжать колхозников, собрал немного хлеба для немецкой армии, заслужил благодарность, но односельчане подожгли его дом. Ему, обгоревшему с головы до ног, чудом удалось спастись. После пожара он окривел, и на оперативную работу его не взяли: куда там с одним глазом, за партизанами и с двумя не уследишь! В секретную службу тоже не приняли – личность, говорят, неподходящая, а не учитывают, что личность эту ему за помощь Германии испортили. Вот и пришлось идти сюда; в другом месте и убить могут, а тут безопасно, да и работа калымная: по субботам, когда особенно много возят на шахту, одежонкой кое-какой премируют. Прошлый раз ему досталась военная гимнастерка, женская рубашка и туфли. Одежда ничего, правда много кровяных пятен, но не продырявленная, перед расстрелом снятая. Жаль только, что ему не доверяют машину. Все русские отказываются возить, а он возил бы – шоферам калым хороший.
– Ну, ничего, отсижусь здесь, а мое время еще впереди.
Павел внимательно слушает, время от времени вставляет короткие замечания.
Потом он уходит сгружать уголь. Вернувшись, он застает в котельной Николая, знакомого парня, живущего в заводском поселке. Кочегар куда-то уходит, и они могут поговорить на свободе. Николай направлен сюда биржей труда в качестве шофера. До сегодняшнего дня его наряжали возить кирпичи на постройку гаража, а сейчас некому везти арестованных. Вот он и прячется здесь, чтобы не послали.
Неожиданно в кочегарку входят следователь Швальбе и начальник гаража, длинный кривоногий немец.
– Ты чего здесь околачиваешься? – спрашивает шофера Швальбе.
– Греюсь, замерз. – Николай в самом деле дрожит.
– Машина в порядке?
– Не совсем. – Николай опускает глаза под пристальным взглядом Швальбе.
– В порядке или не в порядке? – повторяет гестаповец и кладет руку на кобуру. – Если не хочешь везти, скажи. Пассажиром поедешь.
– И поеду! – неожиданно кричит Николай. – Поеду, но не повезу.
– Хорошо, поедешь, – спокойно говорит Швальбе, выходит из котельной и сейчас же возвращается с солдатами.
У Николая дрожат руки и губы. Он весь дрожит, но старается шагать твердо.
– Я повезу, – предлагает кривой кочегар, когда Николая уводят, – домчу, лучше не надо.
Швальбе подозрительно смотрит на его обожженное, кривое лицо:
– А не вывалишь на дороге?
– Не извольте беспокоиться, – горячо отвечает кривой, – шофер второй категории.
– А котлы?
– За котлами он доглядит. – Кочегар кивает в сторону Прасолова. – Мудреного тут ничего нет.
Швальбе соглашается, и кривой торопливо выходит из кочегарки.
Следователь не спешит. Он долго смотрит на Павла и внезапно спрашивает:
– Ты, Прасолов, кажется, комсомолец?
У Павла перехватывает дыхание, но он овладевает собой.
– Был, да выгнали, – отвечает он, стойко выдерживая испытующий взгляд рыжих глаз.
– Что-то вас многих повыгоняли, – криво усмехается Швальбе. – Кого ни спросишь – всех выгнали. За что выгнали?
– За то, что в армию добровольцем не хотел идти и отказался эвакуироваться.
Некоторое время Швальбе стоит в раздумье, и Павлу кажется, что он решает: увезти его на шахту сейчас или в следующий рейс?
Но в коридоре раздается шум отодвигаемой железной решетки, и следователь уходит.
Мимо котельной проводят обреченных. Впереди идет человек без шапки – наверное, отдал кому-то, зная, что она уже больше не понадобится. Разбитые губы плотно сжаты, один глаз закрыт огромной синей опухолью, но другой глядит упрямо и зло. Павел с ужасом узнает в этом человеке сталевара Луценко. Следом за Луценко идут несколько незнакомых мужчин. Потом молодая женщина, согнувшаяся, как древняя старуха. За нею три мальчика, взявшиеся за руки. Старший, худенький подросток, ведет братьев, судя по всему – близнецов. Один из них пристает к старшему с расспросами: «Изя, а куда мы поедем? К маме?» Проходят две женщины, одетые в одинаковые серенькие пальто. Они похожи друг на друга, как мать и дочь. Одна из них смотрит обезумевшими глазами на дверь, возле которой стоит Павел, словно хочет юркнуть в нее. Два босых красноармейца с трудом тащат окровавленного человека. Он почернел, еле дышит. Что-то знакомое чудится Павлу в чертах его лица, посиневшего и залитого кровью. Да это же Сильвестров, сосед Луценко…
Павел видит, как люди, помогая друг другу, забираются в кузов, крытый брезентом. Сильвестрова кладут на пол. Конвоиры усаживаются по бортам. Швальбе садится в кабину, и машина трогается.
«Бежать, немедленно бежать!» – думает Павел и выходит в коридор.
На пороге он останавливается. Перед глазами возникает окровавленное лицо Сильвестрова, упрямый и злой взгляд Луценко. Они не боятся умереть, – а ведь им никто не давал задания. Они поступают так, как подсказывает им совесть. Ему же Сердюк сказал: «Иди и работай». Павел знал, куда и на что он идет, чего же теперь испугался?
Прасолов хватает лопату и с яростью принимается кидать уголь в топку.
Время тянется медленно.
Во двор въезжает пустой грузовик с немецким солдатом за рулем. Из дверей напротив начинают выносить огромные тяжелые тюки. Павел видел такие же тюки на станции – их грузили в вагоны с надписью: «Подарки от украинцев великому германскому народу». Теперь Прасолов знает, что это за подарки. Только бы успеть рассказать о них Сердюку или Тепловой – пусть весь парод знает, что это такое.
Снова во двор входит машина. Она привезла новую партию арестованных. Из темноты котельной Павел смотрит на них и содрогается при мысли о том, что ждет этих людей. Отсюда путь один – в шахту. Жизнь здесь можно купить только той ценой, на которую, конечно, не согласились ни Сильвестров, ни Луценко.
Снова машина. Конвоиры выбрасывают из нее одежду – старый пуховый платок, детские курточки, синюю спецовку Луценко, два сереньких женских пальто…
Поставив машину в гараж, кривой кочегар вваливается в котельную с ворохом одежды. Среди прочего две гимнастерки и синий, залитый кровью костюм – костюм Сильвестрова!..
Кривой медленно опускается на скамью.
– Неладно получилось сегодня, – начинает рассказывать он. – Первым из машины этого почерневшего вытащили. Раздели его, на снегу он в чувство пришел. Ну, его за руки, за ноги – и в шахту. Потом мальчишки пошли, старший их за руки вел; сначала не понимал, что к чему, а бабы чертовы заголосили, и он плакать начал: «Дяденька, не кидайте нас туда!» Швальбе в него выстрелил, думал, что он и братьев с собой уволочет, а он руки разжал, а пацаны остались, заверещали, как поросята, которых режут, аж до сих пор в ушах звенит. Тут женщина выскочила, просить начала: «Господин офицер, детей-то за что?» Не понимает, дура, чьи это дети. Загородила собой одного. Швальбе в нее бахнул, и она – в шахту. Так в одежде и упала. Одного пацана собой сбила, а другой оказался юркий, бегает кругом шахты, кричит, Швальбе насилу его догнал, сбил с ног – и туда же…
Потом штатские пошли. Те все делали, как было приказано. Раздевались, на колени становились у самого ствола.
А вот когда мать с дочерью разделись, опять концерт начался. Им блажь в голову пришла – умереть вместе, обнявшись, будто не все равно.
Военные – те на колени не становились. Один разбежался и сам в шахту прыгнул. А другой подошел к стволу, повернулся и крикнул Швальбе: «Наши придут – отомстят за нас!» Швальбе в него выстрелил и промахнулся, а он стоит и смеется: «Дерьмо ты, только в спину стрелять умеешь», – а у самого глаза горят… Тут мне даже страшно стало: а что, думаю, если… Швальбе второй раз, и опять мимо – руки трясутся. И только с третьего. Кривой умолкает и оглядывается по сторонам, как будто хочет рассказать еще что-то, но боится. Затем, близко придвинувшись к Павлу и понизив голос, продолжает:
– Последний высокий пошел, с подбитым глазом. – Павел понимает, что это был Луценко. – Он еще в машине разделся, идет, голову повесил, шатается, а когда мимо Швальбе проходил, ка-ак схватит его за руку да как рванет – и вместе с ним в шахту. У Швальбе только сапоги блеснули. Хорошие были сапоги, и… начальник был хороший, тоже из колонистов, давал кой-чего.
– А Николай? – спрашивает Павел, еле сдерживаясь, чтобы не ударить кривого лопатой.
– Николай? – переспрашивает кривой. – А правда, где же он? Там я его не видел. Удрал, значит, в суматохе.
Кривой поднимается, заглядывает в топку и берется за лопату.
Павел наливает себе воды в ржавую консервную банку и пьет большими глотками. Зубы его стучат о жесть.