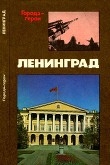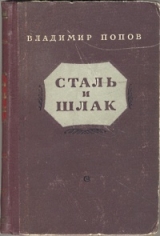
Текст книги "Сталь и шлак"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– А конских хвостов там не просят? – съязвил Луценко.
– Ну, ну, без глупостей! – одернул его Лютов. – Еще что скажешь?
– А что? И конские хвосты нужны, – не растерялся Сашка и, порывшись в газетах, нашел то, что ему нужно.
– «Приказываю, – прочел он, – всем спецуполномоченным обойти дворы и подрезать хвосты и гривы лошадям. Хвосты следует подрезать на ширину ладони от последнего позвонка, гривы оставлять не более пяти сантиметров. Земельное управление при окружном земельном командовании».
Опанасенко, прищурив глаза, внимательно следил, как у Лютова вытягивалось лицо.
Сашка решил добить «майстера».
– У тебя корова есть? – спросил он, прекрасно зная, что в первый же день прихода немцев Лютов приволок откуда-то корову с теленком.
– Есть, да что с нее толку: кормить нечем, скоро сдохнет, – ища сочувствия, ответил Лютов.
– Смотри, чтобы не сдохла, – заботливым тоном предупредил Сашка. – Здесь и про коров предписание есть: всякий, кто допустит падеж скота, будет сурово наказан.
– Плохи твои дела, майстер! – не скрывая злорадства, произнес Луценко. – Хвост корове подрежут, а сдохнет – и с нее шкуру спустят, и с тебя тоже.
Лютов вскочил с кирпичей.
– Давай, давай начинай работать! Начитались уже досыта, хорошего ничего вычитать не можете.
Рабочие нехотя поднялись и взялись за носилки.
Вечером Сашку, который обычно ходил домой один, догнал за воротами Опанасенко.
– Приноси еще газеты, сынок, – сказал он. – Хорошо ты читаешь, с умом. И ко мне заходи. Светлана все одна и одна. Скучно девочке. Поговорим, чайку напьемся.
12
Алексей Иванович Пырин был замкнутым и неразговорчивым человеком. Его флегматичное лицо со светлыми, невыразительными глазами и тихий, монотонный голос никто не мог запомнить. Познакомившись с Пыриным, люди тотчас же забывали его и в следующий раз знакомились с ним заново.
Пырин работал мастером теплобюро, круг его интересов ограничивался контрольно-измерительной аппаратурой. Восьмой год он нес профсоюзную нагрузку сборщика членских взносов. Все попытки шире вовлечь его в общественную жизнь не увенчались успехом. Собрания Пырин посещал аккуратно, но никто ни разу не слышал, чтобы он выступил по какому-нибудь вопросу.
Дело свое он знал в совершенстве и легко устранял неполадки в самых сложных приборах. От отца, часового мастера, он унаследовал любовь к мелкой, кропотливой работе и частенько задерживался в мастерских, заканчивая ремонт какого-нибудь сложного аппарата. С особым удовольствием чинил он часы. Элементарные поломки его не интересовали, но над сложными он способен был просидеть ночь напролет.
В свободные минуты Пырин шел в цехи и молчаливо наблюдал работу приборов. Чаще всего его внимание привлекала новая установка автоматического регулирования теплового режима мартеновской печи. Стоя в сторонке, он со снисходительной усмешкой наблюдал за сталеваром, важно расхаживающим у печи. Добрую половину его работы делали автоматические приборы. Посматривая на сталевара, Пырин говорил про себя: «Думаешь, это ты управляешь печью? Нет, ею управляю я: это мои глаза – ардометры – смотрят в самые сокровенные участки; это мой нос – газоанализатор – проверяет дым; это мои руки убавляют количество воздуха, переводят аппараты. Пусть-ка выйдет из строя хоть один прибор. Куда денется тогда твоя важность?» Но приборы выходили из строя очень редко, и так же редко люди вспоминали о Пырине.
Алексей Иванович с давних пор жил в одной квартире с семьей Замбергов и давно считался у них своим человеком.
В первые дни войны Замберг был призван в армию. Прощаясь с соседом, он по-дружески попросил его помогать жене и детям.
Пырин молча кивнул головой.
В начале эвакуации Алексей Иванович и Фаина Соломоновна Замберг твердо решили уехать. Они не изменили своего решения, даже когда заболела скарлатиной трехлетняя Ниночка. Но когда вслед за ней слегла старшая дочь, Лида, Фаина Соломоновна заколебалась. Пока врачи устанавливали диагноз, эшелоны, в которых имелись специальные вагоны для больных, ушли. Последний формировался из одних теплушек. Фаина Соломоновна поплакала и решила остаться. Решил остаться и Пырин, Напрасно Лида уговаривала, умоляла, плакала.
– Значит, Лидочка, не судьба, – утешал свою любимицу Пырин. – Как-нибудь перебьемся: часовой мастер сам никогда не пропадет и другим поможет.
О главном они молчали. Об этом не только говорить, но и думать было страшно.
После того как гитлеровцы заняли город, Пырин поступил на работу в частную часовую мастерскую. Только теперь он почувствовал, как привык к людям, с которыми столько лет работал вместе, как не хватает ему привычного сознания полезности и необходимости его труда. Однако возвращаться на завод он и не думал. Он не желал работать на немцев.
Вскоре по городу были расклеены объявления организованной немцами еврейской общины. Община призывала всех евреев немедленно зарегистрироваться. Пырина это встревожило гораздо больше, чем Фаину Соломоновну. Алексей Иванович тщетно убеждал ее не ходить на регистрацию, но женщина упорно стояла на своем:
– Раз приказано – надо подчиняться. Я не хочу, чтобы из-за этого были какие-нибудь неприятности. Все идут, а чем я лучше других? Во главе общины стоит почтенный человек – Гольцман, тот, у которого когда-то был свой магазин. Умный старик, все знает. Он не подведет.
Потихоньку от всех Фаина Соломоновна зарегистрировалась и, успокоенная, пришла домой.
Однажды, вернувшись домой с работы, Пырин нашел комнату пустой. Соседка по квартире рассказала, что Фаину Соломоновну и Ниночку забрали немцы. Лиду удалось спасти: светловолосая и светлоглазая, она не была похожа на еврейку, и соседи убедили немцев, что это домработница Пырина.
Алексей Иванович опрометью бросился в город. Квартал больших трехэтажных домов, сильно пострадавших от бомбежек, за одну ночь был обнесен колючей проволокой. Единственные ворота охранялись сильным нарядом полевой жандармерии в черных шинелях с большими металлическими бляхами. Грузовые машины, переполненные женщинами, детьми, стариками, то и дело въезжали на территорию гетто.
Алексей Иванович смешался с толпой, стоявшей на противоположной стороне улицы. Ждать было нечего, но уйти он не мог и простоял так до темноты, пока жандарм не разогнал толпу очередью из автомата.
Дома Пырин пролежал до утра, не раздеваясь. Лида осталась у соседей, и он был даже рад этому: у него не хватило бы сил смотреть ей в глаза.
Каждый день, отработав в мастерской положенное время, Алексей Иванович шел в город и до наступления темноты стоял в толпе, прислушиваясь к разговорам и разделяя все опасения, надежды и страхи. Находились и оптимисты, утверждавшие, что немцы отвели евреям целую область и переселяют их туда.
В субботу хозяин мастерской задержал Пырина дольше обычного. Когда запыхавшийся Алексей Иванович пришел из поселка в город, уже совсем стемнело. Но и в темноте он отлично разглядел, что гетто больше не было. Не было ни толпы на улице, ни часовых у ворот, ни людей в полуразрушенных домах.
Потрясенный Алексей Иванович долго стоял у открытых настежь ворот.
Подошел патруль, окликнул Пырина, но он не слышал. Его могли убить: появляться на улице в такой поздний час было запрещено под угрозой расстрела. Но на этот раз солдаты были настроены миролюбиво и ограничились ударом приклада по спине.
Пырин побрел по направлению к огромной каменоломне, где немцы производили массовые расстрелы. Но с полдороги он повернул и пошел домой. Он шел еще медленнее, содрогаясь при мысли о Лиде, которой нужно было рассказать правду. А что он скажет Замбергу, когда тот вернется?
Войдя в комнату соседей, он остановился на пороге и обмер.
На диване, прижав к себе Лиду, лежала Фаина Соломоновна. Ниночка спокойно спала в своей кроватке.
Фаина Соломоновна рассказала ему о том, что ей пришлось пережить. Им повезло: в единственной комнате с уцелевшими стеклами матери устроили лазарет и собрали туда всех больных детей. Только это и спасло Ниночку. К тому же режим в гетто за последние дни улучшился, появилась даже горячая пища.
– Ну вот и окончились все беды! – облегченно вздохнул Алексей Иванович и осекся, встретив укоряющий взгляд Лиды.
– Ничего не окончилось, Алексей Иванович, – грустно ответила Фаина Соломоновна, не глядя ему в глаза. – Через пять дней нужно снова явиться туда. Немцы объявили, что они всех нас отправят в Палестину. Но я к ним больше не пойду. – И, достав спрятанный на груди листок бумаги с красной звездочкой над текстом, она отдала его Пырину. – Вот, посмотрите.
Пырин много слышал об этих листовках, но ни разу их не видел.
– «Товарищи! – прочитал он вслух, и голос его дрогнул: таким родным показалось ему это еще недавно привычное, а теперь столь редкое слово. – Организация общины была подлой провокацией. Многие из вас пошли на регистрацию, потому что гитлеровцам помогли буржуазно-националистические элементы, которые еще имеются среди вас. Этих прихвостней буржуазии соблазнило обещание отправить их в Палестину, капиталистическую страну, куда они всегда стремились.
Роспуск гетто явился второй гнусной провокацией гестапо. Почему немцы распустили гетто? Потому что на регистрацию явились далеко не все. Немцы хотят, чтобы все евреи добровольно полезли в петлю.
Не верьте фашистским палачам и буржуазно-националистическим элементам!
ГК».
– Что означают эти буквы внизу? – спросил Пырин.
Фаина Соломоновна пожала плечами.
– Это городской комитет, мама, – слабым голосом, но вполне уверенно ответила Лида, – это советская власть, которая осталась в городе. Надо верить ей, как мы верили всегда. Ты права, что не хочешь возвращаться в гетто.
К утру было решено, что Фаина Соломоновна с Ниночкой переедет к знакомым, Лида останется у соседей – ей еще нужен уход, – Пырин будет жить дома.
Когда Лида уснула, Фаина Соломоновна тихо сказала:
– Помните, Алексей Иванович: что бы со мной ни случилось, вы должны спасти Лиду. Это моя просьба, может быть, последняя. Обещаете?
В ответ он безмолвно склонил поседевшую за эти дни голову.
Начальник гестапо господин фон Штаммер просчитался: в гетто вернулись немногие. На следующий же день по городу был расклеен новый приказ, написанный на трех языках: русском, украинском и еврейском.
Всем евреям, проживавшим в городе и окрестностях, приказано было немедленно явиться в гетто, имея при себе ценные вещи и ключи от квартир с указанным на бирке адресом. Тот, кто не явится, будет расстрелян. Тот, кто будет укрывать у себя евреев, будет расстрелян.
Приказ был подписан комендантом города полковником Пфаулем.
Фаина Соломоновна прожила несколько дней у знакомых. Мучась тревогой и за себя, и за скрывавших ее людей, она не вытерпела и вернулась домой. Там ее схватили и бросили в гетто.
И снова Алексей Иванович бежал из мастерской в город и до наступления темноты простаивал в толпе. Вечером соседи отпускали Лиду к нему, днем за ней приходилось следить, чтобы она не ушла к матери в гетто. Лида, не по годам развитая пятнадцатилетняя девочка, не плакала и никого ни в чем не упрекала. Только один раз, когда Пырин, измученный, вернулся домой после очередного бесплодного дежурства у ворот в гетто, Лида сказала:
– Я же просила увезти нас на восток. Лучше было бы нам с Ниночкой умереть в дороге, чем так мучиться. И мама была бы в безопасности.
Алексей Иванович промолчал. Что он мог ответить ей?
В воскресенье Лида настояла, чтобы Пырин взял ее с собой в город.
В это утро перед гетто собралось особенно много народу. Жандармов также было больше, чем обычно. У ворот стояла легковая машина коменданта города. Пырин понял, что немцы к чему-то готовятся.
Около десяти часов утра жандармы очистили мостовую от людей, оттеснив их на тротуар. Ровно в десять распахнулись ворота, показался конвой, а за ним…
Если до этой минуты в душе Пырина еще теплилась какая-то смутная надежда, то, взглянув на несчастных, он сразу понял, что их гонят на смерть.
Одетые во что попало, шли женщины с детьми, женщины без детей, одни дети, старики, старухи.
В глазах у Алексея Ивановича потемнело. Он вглядывался в каждую женщину, надеясь и в то же время боясь узнать в ней Фаину Соломоновну.
Не она ли шлепает в одних чулках по талому снегу, не она ли несет почти раздетого ребенка, не ее ли поддерживают две старухи, сами спотыкающиеся на каждом шагу? Подгоняемые конвоирами, женщины смотрели в толпу, надеясь в последний раз увидеть родных и близких. Одной из них, дрожавшей от холода в рваном ночном халате, из толпы бросили ватник. Она кинулась к нему, но конвоир ткнул ей в спину ствол автомата, и ватник остался лежать на снегу.
– Лида! – вдруг доносится до Пырина слабый голос.
Фаина Соломоновна идет с краю, прижимая к себе Ниночку. Он узнает только ее глаза, большие, черные, но лицо… изможденное, сморщенное, лицо глубокой старухи.
– Фаина Соломоновна! – кричит Пырин и, не выпуская руки Лиды, идет вдоль тротуара, стараясь услышать хоть одно слово.
– Прощайте, – шепчет Фаина Соломоновна и останавливается, не в силах оторвать взгляда от лица дочери.
Конвоир взмахивает автоматом и ударяет Фаину Соломоновну прикладом.
Голова ее откидывается, руки разжимаются, и ребенок падает на снег. Она опускается на колени, чтобы поднять дочь, но конвоир пинком ноги отшвыривает Ниночку в сторону.
– Мамочка! – кричит Лида; с неожиданной силой подняв мать, она идет с ней рядом.
Пырин бросается к Ниночке, но что-то оглушительно гремит, и он валится лицом на мостовую.
Когда Алексей Иванович приходит в себя, колонны уже нет. Это первое, что он видит. Лиды тоже нет. Его поддерживают под руки незнакомые люди. Ниночку, завернутую в пальто, держит на руках какая-то девушка, одетая в легкое платье. Кто-то протягивает ему носовой платок. Он не может понять, к чему это, но потом ощущает боль и трогает ухо – оно в крови.
– Вы можете идти? – спрашивает девушка; лицо ее бледно и сурово.
Пырин кивает головой. Они идут узкой незнакомой улицей. Девушка с Ниночкой на руках идет впереди. Она идет медленно, а он спешит, спешит и никак не может догнать ее, чтобы взглянуть на Ниночку. Ему кажется, что они идут очень долго, но, оглянувшись, он видит, что они прошли всего два квартала.
В чьей-то комнате Ниночку раздевают и укладывают в постель, а он с ужасом смотрит на прозрачное, начинающее синеть тельце.
Эту сцену застал Сердюк, зашедший к Гревцовой. Встретив постороннего человека, он хотел было уйти, но то, что он увидел, заставило его остаться.
Подойдя к Ниночке, он взял маленькую, холодную руку, пытаясь нащупать пульс, бережно опустил ее и снял кепку.
Когда спустя несколько дней Сердюк опять зашел к Марии, он снова увидел Пырина.
Пырин рассказал Сердюку все, что он пережил за последнее время. Он рассказывал ровным, спокойным голосом, таким ровным и спокойным, что Сердюку стало страшно.
И Сердюк поверил в него.
13
Сознание с трудом возвращалось к Крайневу.
– Что со мной? – спрашивает он, пытаясь подняться, но голова словно приросла к подушке.
Санитарка, немка с рыжими бровями, жестом приказывает ему лежать, вливает в рот ложку какой-то жидкости и выходит из комнаты. Пытаясь повернуть голову, Крайнев ощущает боль в виске, с трудом поднимает руки и нащупывает бинт на лбу. Откуда-то издалека приходит воспоминание о том, что в него стреляли, и в памяти возникают события последних дней.
Кто же был тот человек, приговоривший его к смерти? Подпольщик, выполнявший волю организации, или советский патриот, действовавший на свой страх и риск? И как этот человек должен был ненавидеть его! Но сознание меркнет, и Крайнев снова погружается в забытье.
Очнувшись, он пробует пошевелиться. Действуют руки и одна нога. Другая – неподвижна. Неподвижна и голова, будто вся тяжесть тела сосредоточилась в ней.
Сегодня его кормят. Он с удовольствием глотает мясной бульон.
В середине дня та же молчаливая санитарка подает ему молоко с булкой. Он выпивает молоко, но не может разжевать булку: болит височная кость.
Входит врач. Сергей Петрович знает его. Это старейший врач в городе, он лечит от всех болезней. Его всегда приглашала Ирина к Вадимке, к нему обращались во всех случаях, включая и те, которые требовали хирургического вмешательства.
Врач не отвечает ни на один вопрос Крайнева, словно ничего не слышит. По-прежнему молчит и санитарка. За стеной врач разговаривает и по-русски и по-немецки, но, войдя к Крайневу, как будто теряет дар речи.
Так проходит много дней. Врач появляется несколько раз в сутки, пробует пульс, выслушивает сердце, сам делает перевязку, но по-прежнему не отвечает ни на какие вопросы. Крайнев начинает кричать и ругаться, стараясь вывести его из себя. Но во взгляде врача нельзя ничего прочесть, кроме холодного безразличия.
Однажды Крайнев посмотрел на рецепт – он был помечен двадцатым ноября.
Это был день рождения сына. Вадимке шесть лет! К этому дню он обещал подарить ему детский педальный автомобиль. Сергей Петрович представил себе комнату сына, полную игрушек, и вспомнил свое детство. А какими игрушками играл он, когда ему было шесть лет? Пустые спичечные коробки, тряпичный мяч, бабки… Единственной настоящей игрушкой был деревянный, нелепо раскрашенный конь с выеденным молью хвостом и непомерно большой головой. Прошло уже много лет, но Сергей Петрович хорошо помнил, какой восторг обуял его, когда он почувствовал себя обладателем этого сокровища.
Своему сыну Крайнев старался предоставить все то, о чем сам мечтал в детстве и чего был лишен. Каждый выходной день, забрав с собой Вадимку, он отправлялся в детский магазин и разрешал сыну выбрать любую игрушку. При этом Сергею Петровичу каждый раз вспоминался тот день, когда жандармы схватили дядю Григория и он пристал к отцу с расспросами, за что арестовали дядю. Отец, погладив его по голове, сказал:
«Твой дядя хотел добиться такой жизни, чтобы я мог каждое воскресенье покупать тебе игрушку».
Отец так и не дождался этой жизни, позволившей осуществить все самые лучшие, самые сокровенные мечты. Активный участник забастовок, Петр Крайнев был вынужден скрываться от белых банд, свирепствовавших в городе. Засунув за пазуху каравай хлеба, Сережа каждый вечер уходил из поселка на отдаленную шахту. Он долго шел степью, добирался до штольни, зажигал свечу и двигался до первого разветвления. Здесь нужно было остановиться и долго свистеть. Эхо бесчисленное количество раз повторяло звук, и, когда, наконец, умолкало, Сережа слышал ответный свист. Потом издали доносились тяжелые шаги, показывался свет шахтерской лампочки и появлялся отец. Мальчик передавал ему хлеб и рассказывал все, что знал о событиях в городе. В тринадцать лет он уже многое понимал.
Чаще всего Сережа тотчас же возвращался домой, но иногда отец разрешал ему остаться в шахте на ночь.
В отдаленном забое, на соломе, принесенной из подземной конюшни, они располагались на ночлег и подолгу разговаривали в темноте.
Никогда они так много не беседовали, никогда Сережа не испытывал такой глубокой привязанности к отцу, как в эти суровые и опасные дни. Мать его умерла, когда ему было восемь лет. Отец обычно приходил с шахты вечером такой усталый, что ему было не до разговоров, и мальчик привык ценить каждую минуту, которую они проводили вместе.
Однажды, спустившись в шахту, Сережа не услышал ответного сигнала. Он свистнул еще несколько раз. Эхо повторило звук и затихло вдали. Мальчик пошел вперед, он уже научился ориентироваться в шахте, по каким длинным показался ему этот путь!
Миновав пустую подземную конюшню, Сережа свистнул еще несколько раз, но ответа не было.
«Заснул батя», – решил он и ускорил шаги, чтобы успеть дойти до забоя раньше, чем догорит огарок свечи. Расплавленный стеарин стекал ему на пальцы, обжигая их.
Отец спал. Сережа бросил огарок на землю и уселся на солому.
«Разбудить или нет?» – подумал он и решил не будить, надеясь на то, что отец проснется поздно, оставит его у себя и они снова будут разговаривать всю ночь.
Мальчик улегся на соломе и размечтался о том счастливом времени, когда они покинут землянку на Собачевке и перейдут в один из светлых городских домов и отец будет работать в шахте не с утра до вечера, а только половину дня, а вечером они станут вместе читать книги и ходить в кинематограф.
«Крепко спит батя», – подумал Сережа. Его начинала угнетать тишина, и он окликнул отца. Тот не шевелился. Мальчик тронул его за руку. Она была холодна как лед. Такая холодная рука была у матери, когда ее привезли из мертвецкой.
– Батя! – крикнул Сережа и дрожащими пальцами зажег спичку.
Лицо отца было залито кровью, над бровью зияла пулевая рана. Сережа как подкошенный свалился на солому и зарыдал. Устав от слез, он так и остался лежать на соломе.
Временами он начинал думать, что все это ему просто померещилось, что стоит окликнуть отца – и он глубоко вздохнет, приподнимется, погладит Сережу по голове своей шершавой, сильной ладонью.
– Батя! – окликнул мальчик и, затаив дыхание, ждал ответа.
Сколько времени прошло, Сережа не знал. В конце концов решив уйти, он в последний раз прижался мокрой от слез щекой к холодной руке отца и побрел к выходу.
Долго бродил он по подземным ходам, пока не потерял всякую надежду выбраться из шахты и, обессиленный, опустился на землю с твердым решением умереть.
Он и в самом деле был близок к смерти, когда его нашел один из товарищей отца, встревоженный долгим отсутствием Петра Крайнева и пришедший сообщить ему о том, что город очищен от белых.
Обессилевшего мальчика он унес с собой и принял его в свою семью.
Вернувшись из ссылки, дядя взял племянника к себе, и с тех пор жизнь Сережи Крайнева пошла по прямой линии: школа, завод, армия, снова завод и учеба. И вдруг эта линия повернула неизвестно куда…
…Крайнев поправляется медленно, сил еще мало, но он напряженно думает о том, что делать дальше. Если он поступит на службу к фашистам, найдутся люди, которые расправятся с ним раньше, чем ему удастся нанести врагу хоть какой-нибудь ущерб. Но разве он может не поступить на службу?
И Крайневу становится окончательно ясно – ему надо добиться, чтобы фашисты послали его на завод, и немедленно искать связи с подпольем.
Приняв это решение, Крайнев начинает чувствовать себя бодрее. Он перестает отказываться от пищи, просит добавки.
Как-то под вечер к нему входит Пфауль. У него рука на перевязи. Сергей Петрович довольно улыбается: «Ага, попало и тебе, жаль, что мало!» Комендант отвечает ему улыбкой, закуривает, угощает сигаретой.
– Врач говорит, что больной уже здоровый, скоро может работать, – произносит Пфауль, выпуская кольцо дыма и следя, как оно медленно расплывается в воздухе.
Сергей Петрович утвердительно кивает головой.
– Я думаю, ви не будете испугаться помогать Германии и будете хорошо работать в полицайуправление.
– Буду помогать, – решительно отвечает Крайнев, – но только на заводе.
– У вас твердая рука, такой, как ви, должен работать в полицайуправление, продолжать ловить партизан. Там меньше опасно. Вас будут охранять. В заводе вас будут опять убивать.
– Нет, только на заводе. Я же инженер! – возражает Крайнев и даже приподнимается на локте.
Комендант выпускает кольцо дыма, но уже не следит за ним.
– Вам нужно подумать, – многозначительно говорит он, – вас больше не любят, чем нас. У комендатур стоял я и начальник гестапо фон Штаммер. (Сергей Петрович вспоминает узкоротого, стриженного ежиком.) Партизан стреляет первый вас, второй – нас. Доктор не хотел вас лечить. Я грозил доктору, много грозил, показывал пистолет, говорил: «Или вы живой, или он мертвый». Я назначил фельдшер. – Пфауль кивнул в сторону санитарки, стоявшей у окна. – Она следила за доктор, потому ви живой. В заводе вас сделают мертвый.
– В полицию я не пойду, – упрямо повторяет Крайнев, – я инженер и буду работать на заводе.
Комендант молчит. Он недоволен. Русский жив – выполнен приказ Штаммера, который опасался, что его смерть отпугнет местных людей, работающих во вспомогательном аппарате. Городская власть доказала, что она умеет заботиться о тех, кто помогает Германии. Это хорошо.
Плохо то, что этот русский не идет в полицию. Но на заводе тоже нужна твердая рука, – вспоминая листовки, успокаивает себя Пфауль и встает.
– Хорошо, – произносит он, – я буду вас рекомендовать владельцу завода барону фон Вехтер.