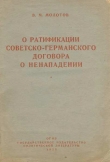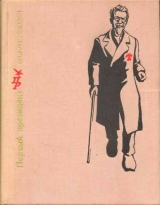
Текст книги "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
3
– Пошли, – сказал Сила Семенович Штырев своим товарищам. – Хватит, погостевали на чужом подворье. Все равно здесь толку не будет.
– Подожди, – остановил его подошедший Калинин. – Давай с делегатами потолкуем.
– Что с ними толковать, с эсерами да националистами?!
– Эсеры ведь разные, – улыбнулся Михаил Иванович. – Есть правые, есть левые, а есть и просто случайные, сами еще не знают, к какому берегу надежней прибиться.
– Голосование-то уже кончилось.
– А революция продолжается.
– Убедил, Калиныч. Только не с буржуями, с ними беседовать бесполезно.
– С мужичками поговорим.
Они подошли к крестьянам, курившим возле парадной лестницы.
Один из крестьян, пожилой, остриженный в скобку, глянул недружелюбно, другой – помоложе – с любопытством.
– Здравствуй, земляк, – обратился Калинин.
– Кому земляк, а кому и так! – хмуро ответил пожилой. Михаил Иванович увидел: нет у него левой кисти, торчит из рукава морщинистая розовая культя.
– Я-то тверской буду.
Мужик с культей промолчал, а молодой пояснил охотно:
– Издалека мы. Почти что от теплого моря ехали.
– Поделили землицу-то?
– Это мы сразу, – смягчился тот, что с культей.
– Нынче на своей сеять будем, – подтвердил молодой.
– На своей? – переспросил Калинин. – Которую Советская власть дала?
– На этой самой.
– Да вы же небось против декларации сейчас голосовали?
– Ну и что? – опять насторожился сердитый.
– Декларацию вы не одобрили, декреты Советской власти не подтвердили? Значит, и декрет о земле фактически отвергли, и раздел ваш не действительный.
– Но-но! – забеспокоился пожилой.
– Я не шучу. Я – большевик, все декреты Советской власти своими считаю, а вот вы, получается, сами против себя голосовали вместе с эсерами.
– Как же так, дядя Гриш? – в глазах молодого появилась растерянность.
– Погоди, дай скумекаю, – нахмурился тот. Глубоко затянулся несколько раз самосадом. – А ить верно, против ветра мы с тобою плевали-то... Декларация да хренация – путают мужиков басурманским речением! Нет того, чтобы прямо сказать!
– Как же теперь! Неужто назад землю-то?
– Не знаю, – пожал плечами Калинин. – Вы решали, не мы. Эсеры сейчас свой закон о земле обсуждать хотят.
– – Пускай, – твердо сказал пожилой мужик. – Пускай обсуждают, рассуждают, а землю мы не отдадим, земля наша.
– Ишь ты! – удивился Сила Семенович. – Не отдашь?
– А ты не ахай, не ахай! – набросился на него культяпистый. – Мы так порешили: создать у себя свою республику со своими законами. Народ у нас работящий, грамотные тоже есть, без посторонних нахлебников управимся.
– Ну, а насчет одежды, насчет обуви или там платочков для баб – у вас тоже своя фабрика?
– Зачем фабрика? Будем пшеницу продавать, арбузы, мясо. А на деньги все купишь.
– За границей, значит, покупать будете? – не удержался от улыбки Михаил Иванович. – В Полтаве? Или в Царицыне? А если каждый уезд или каждая губерния себя независимой республикой объявит, это через сколько же границ товар-то везти придется, сколько пошлин платить?
– Уж как-нибудь договоримся промеж собой, – надменно поджал губы крестьянин. – Когда товара много – обменять, продать можно. Бывал на ярмарках, знаю.
– А с машинами как же? – очень заинтересовался Сила Семенович. – С молотилками, сеялками, плугами? Или вы сохой пахать будете да цепом молотить?
– С цепом далеко не уйдешь, – сказал молодой. А старший оценивающе глянул на Штырева, спросил:
– Ты, вижу, мастеровой?
– Верно.
– Поедем с нами из твоего голодного города. Забирай семью и едем. Хату тебе миром построим, сало, хлеб и весь прочий харч – во – по горло! А ты у нас большую кузню открой!
– В кузне, мил человек, много не наработаешь. Лемех наварить можно, подков наготовить, а трактор, к примеру, в кузне не сделаешь, для трактора завод требуется.
– А вообще-то можешь? – уважительно спросил крестьянин.
– Что?
– Да трактор. Видел я у помещика такую машину. Как в сказке, за двадцать лошадей прет. Но машина-то не нашенская, за золото ее где-то купили...
– На паровозе ты ездил? – спросил Сила Семенович.
– Или я сюда пехом тащился?
– А ты не обижайся, может, это мне за твое недоверие обидеться надо. Думаешь, паровоз проще трактора?
– Наверно, не проще.
– А мы его уже сорок лет на Брянском и на Путиловском делаем. И было бы тебе известно – самые хорошие паровозы выпускаем. У нас их разные страны покупают. Вся Америка на наших паровозах до войны ездила. И самую длинную дорогу у нас проложили нашими же рельсами. От Питера до Владивостока, на десять тысяч верст, во как махнули! Нигде и похожего ничего нет. А ты говоришь – трактор! Наши рабочие что хочешь сделают, только делать не из чего, да и от голода брюхо сводит.
– Пошел бы у нас трактор, ох как пошел бы! – одобрительно качнул головой мужик. – А дорогу твою длинную знаю. Туда и обратно по ней проехал. Пальцы свои, видишь, в Маньчжурии посеял...
– А прибыль от того посева другие в свой карман загребли? – сочувственно спросил Михаил Иванович.
– Да уж не я с той войны богател. Карман набить всегда охотников много.
– Это верно. Вот и вы пшеницу в своей уездной республике вырастите, а кто защищать вас будет? Если все по уездам, по губерниям разбредемся, нас любой враг, хоть немец, хоть японец, голой рукой возьмет, пшеничку выгребет и спасибо не скажет.
– Договоримся с ними, – неуверенно ответил крестьянин.
– Вряд ли. А про помещика своего забыл? Он, думаешь, смирился, что землю его поделили? Не надейся на это. Соберет он армию и к вам! Даже и армия ему не потребуется. Одним казачьим полком покорит ваш уезд, сядет, как царь на трон, и все на старый лад повернет.
– Может, верно, дядя Гриш, а?
– Покумекать надо.
– Вот именно, – сказал Михаил Иванович. – Сейчас эсеры свой закон о земле обсуждать начнут так вы крепко подумайте, что к чему.
4
После того как большевики покинули зал, правые: эсеры дорвались наконец до трибуны. Быстро заняли места в президиуме. Их лидер Чернов начал свое выступление перечислением обид и оскорблений, которые претерпела от большевиков демократия. Но матросы не слушали эту речь. Гремя винтовками и громко переговариваясь, направились к выходу.
– Быстрей! – торопил Железняков. – Каждый взвод занимает свой сектор. Живей, братишки!
Примыкающие ко дворцу улицы были заполнены людьми. На перекрестке какой-то оратор размахивал зажатой в руке шапкой.
Особенно густая толпа двигалась по Литейному. Здесь много было студенческих и чиновничьих шинелей, деловито сновали какие-то типы в полувоенной одежде, с офицерской выправкой, Ветер трепал белые и зелено-розовые знамена, лозунги, призывы. И, пожалуй, каждый второй лозунг или призыв требовал: «Вся власть Учредительному собранию!»
Медленно накатывалась толпа на дворец, грозя затопить все подступы, смять караул, стереть тех, кто попытается остановить ее. Эсеровские делегаты в зале ожидали этой поддержки.
Матросов было человек сто. Они цепочкой стояли за решеткой, окружавшей дворец. Стояли молча, держа винтовки «к ноге».
На высокую тумбу вскочил Железняков:
– Внимание! Прошу освободить улицу! Из толпы раздались крики:
– Не имеете права!
– Да здравствует Чернов!
– Даешь новое правительство!
Выбежал вперед кто-то высокий, в расстегнутом полушубке, обратился к матросам:
– Братья, мы мирная демонстрация! Весь город с нами. Вся страна с Учредительным собранием. Бросьте оружие, братья!
У Железнякова окаменело лицо. Кивнул Ховри-ну, и тот подал команду:
– Товсь!
Матросы вскинули винтовки. Толпа продолжала двигаться. Передние пытались остановиться, по на них напирали сзади.
– Граждане! Еще раз требую разойтись! В ответ – яростно:
– Тягай его вниз! Топчи!
– Не бойтесь! Они не посмеют!
Совсем близко видели моряки направленные на них трости и зонтики, поднятые кулаки и множество лиц: злых, растерянных, радостных. Григорий Орехов был внешне спокоен: пошумят и уйдут. Проверка – у кого нервы крепче!
Колька-колосник, скрывая испуг, переводил мушку с одной головы на другую, пока не попалась какая-то фуражка с кокардой. Ее он и решил взять на прицел.
В толпе раздалось несколько револьверных выстрелов. Это уже настоящая провокация!
Голос Ховрина неузнаваемо высок:
– По врагам революции! Пли!
Услышав команду, Колька нажал спусковой крючок, и в ту же секунду винтовка вылетела из его рук, выбитая сильным ударом Орехова.
– Куда стреляешь, гад? Сказано было поверх голов, в воздух!
– Это я-то гад? – прохрипел Колька. Бросился на Григория, но Федор сзади крепко схватил его. Колька дернулся несколько раз, пытаясь освободиться.
Орехов смотрел на быстро пустевшую улицу. С криками бежали люди по Литейному, сворачивали во дворы, в переулки. На мостовой валялись шапки, трости, калоши, даже шубы и полушубки. Пытался подняться человек, сбитый толпой. Железняков послал матроса помочь ему. Заметив понурого, безоружного Кольку, спросил:
– Ты чего?
– В людей целил, – объяснил Орехов.
– Предупреждения не слышал? – сразу помрачнел Железняков. – Революционной дисциплины не знаешь?
Колька промолчал.
– Оружие не давать. Доложите комиссару, – распорядился Железняков.
– Есть! – ответил Григорий.
Демонстранты больше не появлялись. Стало вроде бы еще холоднее, чем утром. Наверно, к ночи окреп мороз. Оставив внешние караулы, Железняков снова повел матросов во дворец, в тепло.
Правые эсеры продолжали заседание, и конца ему не было видно. Бранили с трибуны Советскую власть, обсуждали свой земельный закон. А моряки между тем не спали вторые сутки и были голодны. Ближе к полуночи наиболее нетерпеливые начали поговаривать о том, что пора прикрыть эту лавочку.
Кто-то сообщил о настроении моряков в Смольный. Оттуда поступило указание:
«Предписывается товарищам солдатам и матросам, несущим караульную службу в стенах Таврического дворца, не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного собрания и, свободно выпуская всех из Таврического дворца, никого не впускать в него без особых приказов.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».
Железняков прочитал записку матросам.
– Понятно, товарищи?
Он обошел весь дворец, проверил посты, осмотрел пустующие комнаты. Везде спокойствие и тишина. Только в огромном зале витийствовали ораторы. Щурясь от яркого света, торжественно восседал в председательском кресле Чернов.
На хорах, утомленные бесконечными речами, подремывали гости.
В третьем часу ночи прибыл на автомашине народный комиссар по военно-морским делам Дыбенко. Он только что объехал весь город. Повсюду в столице восстановлен порядок. Демонстранты разошлись по домам. Эсеровские «боевики» открыли было стрельбу в нескольких местах, но красногвардейские отряды быстро разогнали провокаторов.
Дыбенко привез известие о том, что на заседании Совнаркома в эти минуты решается вопрос о роспуске Учредительного собрания.
– И нам пора действовать, – сказал Железняков. – Матросов сдержать трудно.
– Потерпите немного, Анатолий, дайте им выговориться. А потом разгоняйте эту контру! Но чтобы одними словами.
– Постараюсь.
Моряки ждали еще полтора часа.
В половине пятого Железняков решительно сдвинул на затылок бескозырку и распахнул дверь. Неторопливо прошел через зал, поднялся по ступенькам, остановился возле Чернова. Очередной оратор поперхнулся и смолк.
Положив руку на плечо Чернова, матрос сказал громко, с плохо скрытой усмешкой:
– Прошу прекратить заседание. Караул устал, караул хочет спать.
Онемевший от такой дерзости Чернов ответил не сразу. Вскочил с кресла, крикнул:
– Как вы смеете? Кто дал право?
– Караул хочет спать, а ваша болтовня никому не нужна.
В зале нарастал шум.
– Опять насилие!
– Обойдемся без караула!
Чернов повернулся к Железнякову:
– Мы тоже утомлены, но нельзя же из-за этого прерывать оглашение нового земельного акта. Я протестую против вашего вмешательства!
Рука Железнякова медленно опустилась на коробку маузера, и шум мгновенно смолк – как обрезало.
– Повторяю последний раз: караул устал прошу очистить помещение!
И к Чернову:
– Вы меня поняли? Подчиняйтесь законной власти.
– Подчиняюсь вооруженной силе. Протестую, но подчиняюсь. Перерыв до пяти вечера, – срывающимся голосом крикнул Чернов. – В пять часов мы опять соберемся здесь!
Увидел насмешливую улыбку Железнякова, и сам не поверил в такую возможность.
Таврический дворец быстро опустел. Матросы закрыли все двери. У главного подъезда выставили усиленную охрану. Теперь можно было и отдохнуть. Григорий Орехов прислонил к стене две винтовки, свою и Колькину, спохватился:
– А этот... колосник, где он?
– Не знаю, давно не видел, – пожал плечами Федор. – Может, дрыхнет где-нибудь или на тральщик ушел...
Миновали сутки, вторые. Колька в отряде не появлялся. О фасонистом кочегаре вспомнили раз-другой, а потом начали забывать.
5
На прием к городскому голове пришло пятеро бывших сотрудников управы: четверо рядовых служащих и тучный, лысый, с нездоровым отечным лицом начальник отдела. Они подали коллективное прошение о восстановлении на работе.
Михаила Ивановича новость обрадовала. Это было косвенным признанием того, что городская дума справляется со своими многотрудными обязанностями. Убедились, значит, чиновники, что Советская власть может и без них обойтись, решили явиться с повинной. Пусть не пятьсот человек, а пять, но это только первые ласточки. Вся столичная чиновничья армия следит сейчас за этой пятеркой, ждет результатов беседы.
Городской голова встретил посетителей с холодной вежливостью, предложил сесть и, без промедления, приступил к делу.
– Суть вам известна, – тяжело дыша заговорил начальник отдела. – Мы готовы вернуться на свои места...
– Это конечно же большая честь для нас! – Михаил Иванович имел право иронизировать. – Но где вы раньше были, в самые трудные дни?
– Поддались общему настроению.
– Будем откровенны – Советская власть не пришлась по вкусу?
– В нашей среде сильны кастовые связи, кастовые интересы, – старый чиновник был осторожен. – Мы не могли плыть против течения.
– А теперь разве это течение ослабло? Или вы вдруг воспылали любовью к новой власти?
– Мы осознали свой долг.
– Приятно слышать, конечно, да что-то много времени вам на это потребовалось. Мне кажется, все проще. Надеялись, что большевики долго не продержатся, делали ставку на Учредительное собрание. Лопнули эти надежды. Тут и деньги кончились, которые прежняя управа вам вперед выдала. Вот вы и призадумались: а вдруг вообще ваши услуги не потребуются.
– В какой-то степени так, – кивнул начальник отдела, избегая смотреть в глаза Калинину. – Но поверьте в наши добрые намерения. Если мы заблуждались, то вполне искренне.
– А что бы вы сами, как руководитель, сделали с теми, кто покинул работу в особо напряженный момент, с дезертирами и саботажниками?
– Между саботажем и политической забастовкой большая разница.
– Вы называете себя забастовщиками?
– Конечно. И, насколько я знаю, ваша партия всегда считала законной и правильной такую форму выражения неудовольствия.
– Не согласен! – решительно возразил Калинин. – Стачка, забастовка – это волеизъявление какой-то группы населения, это протест трудящихся, вызванный какой-то несправедливостью. А саботаж – это злостный акт, дезорганизующий народное хозяйство и бьющий по интересам трудящихся. Этот акт направлен против рабочих и крестьян, против революции.
Тучный чиновник продолжал дышать тяжело, с присвистом. Спросил тихо:
– Ваши слова следует считать отказом?
– Почему же? Кто действительно хочет сотрудничать в советских учреждениях, для тех всегда окажется место. Ваш бывший отдел укомплектован, но нам требуются люди в других отделах, в других учреждениях, в районных управах. Имейте в виду и передайте тем, кто намерен вернуться на службу: возрождать старую корпорацию привилегированных служащих, восстанавливать затхлые кастовые связи мы не будем. Это не приносит пользы, в чем вы убедились на собственном опыте, – улыбнулся Калинин.
– Воля ваша.
– Хотелось бы мне знать, на что еще надеются чиновники, которые продолжают саботаж?
– Люди разные. Одни полностью не приемлют вас, другие колеблются, оглядываются на соседей.
– Немцев ждут, – сердито бросил моложавый чиновник, сидевший у самой двери.
– Есть и такие, которые на кайзера теперь молятся, – подтвердил начальник отдела. И добавил вдруг совсем другим тоном, не сумев скрыть горечи: – А у меня вот два сына... Один в Польше погиб, а младший в Галиции...
– Сочувствую, – сказал Михаил Иванович, борясь с нахлынувшим смущением, с жалостью к этому очень больному человеку, – сердечно сочувствую и понимаю, как вам тяжело... А тем, кто кайзеру свечки ставит, можете сказать: рано в чужую веру подались. О переговорах в Бресте слышали?
– Немцы, вероятно, только до тепла медлят, до проезжих дорог. Такие вот слухи идут.
– На чужой роток не накинешь платок. Но Питер мы германцам не отдадим, для нас это вопрос жизни.
Чиновники ушли успокоенные. А Михаил Иванович, оставшись один, задумался. Самое больное место ковырнули посетители. Действительно, затишье на фронте не могло продолжаться бесконечно. Угроза вражеского нашествия висела над республикой. Надо было кончать с неопределенностью. Ленин требовал подписать договор с немцами. Условия очень тяжелые, это бесспорно, однако они не посягают на главное, на Советскую власть. Будет выиграно время, чтобы окрепнуть, создать новую армию. Но большинство членов Центрального Комитета не поддержало в этом вопросе Владимира Ильича. У Троцкого своя особая позиция: объявить о прекращении войны, но мира не подписывать. Группа «левых коммунистов» во главе с Бухариным, наоборот, выдвинула лозунг «революционной войны». Бухаринцы кричат о своей готовности с высоко поднятыми знаменами погибнуть за революцию.
Красивые фразы – вот это что. Умереть – дело не хитрое. Но для чего тогда надо было десятилетиями вести борьбу за власть, свергать Временное правительство? Чтобы через несколько месяцев загубить молодую республику?
Сражаться с немцами сейчас некому. Старая армия развалилась. Отряды красногвардейцев и революционных солдат, редкой цепочкой растянувшиеся вдоль фронта, не способны оказать серьезного сопротивления. Не считаться с этим могут только безответственные фразеры или недальновидные люди, политические авантюристы.
Калинин подошел к карте, висевшей возле шкафа. На карту черным карандашом была нанесена линия фронта. Она не менялась с лета, каждый изгиб ее стал привычным для глаз. Неужели эта линия дрогнет, поползет на восток и северо-восток, на Москву и Петроград?
Вспомнился офицер, приходивший в Лесновскую управу незадолго до вооруженного восстания. Затянутый ремнями подполковник – военная косточка. Яропольцев, кажется? Как он тогда говорил: стране прежде всего нужна победа над немцами, за которую заплачено миллионами жизней. Ради этой победы он оставил семью, отправился в действующую армию.
«Где он сейчас, этот офицер?» – подумал Михаил Иванович, всматриваясь в изгибы черной линии, пересекавшей карту.
6
В середине февраля рано утром пулеметчики, продрогшие за ночь в боевом охранении, сунулись было по привычке к «камрадам», погреться в землянке. Однако немцы встретили их винтовочным огнем. Палили, правда, поверх голов, но заставили солдат полежать в сугробах, а потом перебежками добираться до своих траншей.
Узнав об этом, Яропольцев отправился на высотку и весь день наблюдал в бинокль за германцами. Сразу обратил внимание – их стало значительно больше на передовой линии. Тут уже не по взводу прикрытия на километр фронта, а по целой роте. В траншеях врага то и дело мелькали каски. Небольшие группы солдат двигались по ходам сообщений, переносили какие-то грузы: скорее всего, боеприпасы. В мелколесье дымило несколько полевых кухонь; раньше их не было, «местные» немцы готовили пищу в землянках.
Все это обеспокоило Яропольцева. Со слов комиссара Нодиева он знал, что мирные переговоры в Бресте затягиваются и осложняются. Об этом писалось и в газетах, которые приносили от немцев бойцы его отряда: бумага для самокруток была подходящая.
Кайзера в общем-то ничто не связывало. На Восточном фронте перед его хорошо оснащенными войсками почти не было русских подразделений. Самое время германским генералам двинуть свои дивизии вперед, обстановка для этого благоприятная. Вот ответственный участок с шоссейной дорогой на север. Справа, километров на тридцать, русских солдат вообще нет. Там леса, болотистая глухомань. Слева неприкрытая полоса простирается километров на двадцать до уездного города. И лишь в районе шоссе держит оборону полк Яропольцева. Бывший полк, так как теперь он переименован на общем собрании в «Отдельный сознательный революционный отряд имени рабочего и крестьянского пролетариата». Яропольцев не возражал против этого: пусть тешатся словесными нагромождениями, пусть радуется большевик Тенгиз Нодиев. Лишь бы не мешали ему.
Отряд представлял собой неполный батальон из двух пехотных рот и пулеметной команды, имевшей шесть «максимов». И еще – гаубичный дивизион из восьми орудий. Яропольцев вместе с Кузьмой Голоперовым и отделением разведчиков съездил на тыловую армейскую базу, привез продовольствие, зимнее обмундирование. Люди сыты, тепло одеты, обеспечены куревом. Но и порядки установлены строгие. Подъем, отбой, дежурство, караульная служба – все точно и в срок. И никаких жалоб.
Тенгиз Нодиев, как и условились, полностью поддерживал действия подполковника, прекрасно понимая, что на восемьдесят километров вокруг их отряд – единственная воинская часть, способная противостоять врагу...
Яропольцев оторвался от бинокля, посмотрел на своего ординарца. Хотел послать его к начальнику пулеметной команды, но тут, за лесом, за немецкими позициями, громыхнули два орудийных выстрела. Гул прокатился над заснеженными полями и угас вдали, а возле высотки взметнулись с треском два черно-багровых конуса.
Яропольцев быстро опустился на дно траншеи. Еще два снаряда разорвались почти на гребне высотки. И опять наступила тишина.
Теперь исчезла всякая надежда на то, что наступления не будет, что немцы просто производят перегруппировку. Враг начал артиллерийскую пристрелку, и как раз на важнейшем участке, возле шоссе.
Яропольцев сказал громко, чтобы слышали солдаты в траншее:
– Какие наглецы, а? Ни в грош нас не ставят! Готовятся без маскировки, будто на полигоне... Тем хуже будет для них, верно я говорю?! – Так точно! – рявкнул Голоперов.
Солдаты загомонили: – Гляди фрукт какой, снаряды кидает!
– Вот тебе и брат-сват Фридрих Гансович, три месяца обнимались!
– Будя, поиграли! Теперь он тебе свата покажет!
– А пошто наши-то пушки молчат?
– Тю, голова! Чего ж раньше сроку позицию раскрывать?
Яропольцев последний раз осмотрел в бинокль вражеские позиции. Темнело. Каски в ходах сообщения больше не мелькали, зато в мелколесье горело десятка два костров. «Это хорошо, хорошо», – подумал он, спускаясь с высотки. Самоуверенность и наглость немцев были ему на руку.
Он отдал распоряжение с наступлением темноты, незаметно для противника, оставить пристрелянные врагом окопы и переместиться в низину, в старые траншеи, покинутые осенью из-за сырости.
В деревне, в крайней пятистенной избе, занятой штабом отряда, Яропольцева ожидал Тенгиз Нодиев, только что вернувшийся из Молодечно. Комиссар был там на заседании, которое, по его словам, прошло очень успешно: большевики наголову разгромили эсеров.
Сообщение Яропольцева встревожило комиссара, однако видно было, что в возможность вражеского наступления он не очень-то верит.
– Зачем волнуетесь, командир? – Нодиев порылся в полевой сумке. – Вот распоряжение из Минска, сам главнокомандующий Мясников подписал. Тут прямо сказано: «Расходятся неблагонадежные слухи о возможном наступлении немцев. Предупреждаю, что впредь буду привлекать к строжайшей ответственности, вплоть до предания военному суду лиц, распространяющих эти слухи».
Яропольцев даже растерялся от неожиданности – настолько слова главкома шли вразрез с тем, что он видел своими глазами. Наверно, в Ставке еще ничего не знали.
– Можете предать меня суду, но я остаюсь при своем мнении, – сухо отчеканил он и отправился в свою комнату.
...События развивались почти так, как предполагал Яропольцев. Огневой шквал немецкой артиллерии обрушился на пустые траншеи. А когда вражеская пехота пошла в атаку, ее встретили губительные залпы со старых позиций. Враг откатился в полном беспорядке, бросив раненых.
Часа через два другой немецкий батальон появился на том проселке, где Яропольцев подготовил засаду. И опять враги стали жертвой собственной самоуверенности. Они не потрудились даже принять боевой порядок, шли по дороге в ротных колоннах, выслав вперед дозор. Его пропустили без выстрелов, а потом засада резанула по колонне из трех пулеметов.
Лишь получив такую взбучку, немецкие офицеры поняли, что война идет всерьез, и взялись за дело с присущей им дотошностью и мастерством. Вероятно, приказ торопил их. Они быстро развернули цепи на широком пространстве и повели наступление сразу на двух направлениях: вдоль шоссе и вдоль проселка. Они несли потери от снарядов, от пулеметного и винтовочного огня, но упорно продвигались вперед, обходя фланги. У Яропольцева не было резервов, чтобы задержать обходившие подразделения.
После полуночи отряд вынужден был покинуть деревню. И вот теперь Мстислав Захарович лежал в воронке на опушке леса, в котором исчезала, суживаясь, полоска шоссе.
Справа и слева от командира укрылись среди мерзлых глыб израненные, голодные, усталые солдаты.
Комиссар Нодиев, пригнувшись, подбежал к воронке, лег рядом с Яропольцевым.
– Живой?
– Как видите. А вы... Дозвонились до командующего? Поддержка будет?
– Сегодня нет. Но о нападении немцев сообщили в Минск, в Петроград и в Москву. Уже отправляются сюда наши отряды.
– Раньше надо было, – раздраженно произнес Яропольцев.