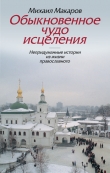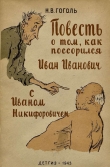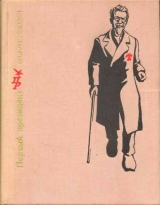
Текст книги "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
«Какой должна быть эта платформа?» – вот о чем спросил бы он сейчас Владимира Ильича. Но и Ленин, вероятно, не смог бы сразу, немедленно дать ответ. К тому же Ленин не знал о подготовительной работе, которая велась без его участия, не был известен ему план «автономизации».
Владимир Ильич словно бы угадал мысли своего гостя, произнес с легким вздохом:
– Я понимаю, Михаил Иванович, раз нельзя, так нельзя.
Он, пожалуй, впервые за все время их долгого знакомства обратился к Калинину по имени и отчеству.
Аллея между тем кончилась. Владимир Ильич взял Калинина за локоть:
– Нуте-с, батенька, полюбуйтесь, каков вид!
Они вышли к некрутому откосу. Широкий простор распахнулся впереди. Под белесо-голубым, словно выцветшим шатром осеннего неба дремали темные массивы хвойных лесов с оранжевыми свечками берез на опушках. Бездымным ровным огнем горели рощи и лиственные перелески. Холодной сталью поблескивало лезвие реки Пахры, а за ней, за исчезавшими, таявшими в лиловой дымке лесами, угадывались на самом краю горизонта какие-то постройки, очень далекие и манящие неизвестностью.
Ленин пристально смотрел в ту сторону, лицо его оживилось и подобрело.
– Это Подольск, представьте себе, – сказал он так, будто открыл собеседнику нечто радостное. – Я бывал там давным-давно, еще в девятисотом году. Моя мать, Мария Александровна, жила там некоторое время, и я был у нее две недели перед отъездом за границу. А с местными социал-демократами договорился о содействии нашей «Искре», которую тогда только еще создавали. Трудное было время, но все равно сколько шуток, сколько смеха...
Владимир Ильич умолк и молчал очень долго. Калинин не решался нарушить тишину. И хотя умиротворяющая чистота сентябрьского дня располагала к спокойствию, к добродушному созерцанию, тревога все сильнее охватывала Калинина. Да, правильно он поступил, не сказав Ленину о текущих заботах, не растревожив его. Пусть отдохнет, пока есть такая возможность.
...Однако Владимиру Ильичу пришлось все-таки вскоре прервать свой отпуск и взяться за работу по объединению советских республик. Участие его оказалось необходимым.
24 сентября 1922 года план «автономизации» обсуждался комиссией Оргбюро ЦК РКП (б) и был принят как основа для дальнейшей работы, приобрел значимость официального документа. В тот же день с планом и вообще с ходом подготовки к объединению республик познакомился наконец Владимир Ильич. И сразу же начался напряженный труд. Ленин просмотрел множество протоколов, резолюций, постановлений. Побеседовал с членами комиссии Центрального Комитета партии, с представителями республик. Через два дня он написал членам Политбюро ЦК письмо, в котором подверг идею «автономизации» резкой критике. Михаил Иванович прочитал письмо несколько раз, подчеркивая те места, которые казались ему самыми главными.
Ленин предупреждал: когда решается такой архиважный вопрос, как национальный, излишняя спешка и администрирование недопустимы. И выдвигал новую основу для создания общего государства: республики не вступают в Российскую Федерацию, а объединяются с ней, образуя Союз Советских Республик Европы и Азии. При этом все они сохраняют равноправие, а не подчиняются механически высшим органам власти РСФСР, как мыслилось раньше.
Строгое соблюдение добровольности и равноправия – вот что Владимир Ильич особенно выделял в своем письме. Надо образовать общий ЦИК, создать, общесоюзные наркоматы, то есть построить как бы новый этаж – общесоюзные органы, стоящие над РСФСР в такой же мере, как и над другими республиками. Это выбьет почву из-под ног тех, кто противится объединению и кричит о «независимости».
Ну что же: и принципиальные вопросы, и даже некоторые конкретные задачи были теперь ясны Михаилу Ивановичу. Можно приступать к организационной работе. Не за горами, пожалуй, то время, когда молодая Советская страна станет внушительным монолитом. Но что делать с Дальневосточной республикой? Создавалась она как временный буфер и почти полностью выполнила свою роль. Не пора ли ей вернуться в состав Российской Федерации, от которой она отпочковалась в силу необходимости?!
2
Белогвардейцы потеряли Урал, Сибирь, Забайкалье, в их руках осталось одно Приморье: южная его часть, и только потому, что за спиной немногочисленных белых полков находились японские интервенты. Это был последний вражеский плацдарм на территории Советского государства. Белые генералы и их зарубежные покровители стремились удержаться там, чтобы со временем, накопив силы и выбрав удобный момент, начать оттуда новый поход против Советов.
В сентябре 1922 года белогвардейцы попытались улучшить свое положение. Их приморская армия насчитывала к этому времени около девяти тысяч штыков и сабель при восьмидесяти пулеметах, двадцати четырех орудиях и четырех бронепоездах. Почти все эти силы были сосредоточены в узкой полосе возле железной дороги.
Красные отразили натиск, а потом сами начали наносить удар за ударом. Обогнав другие наступающие подразделения Народно-революционной армии, вперед вырвались курсанты школы младших, командиров 2-й Приамурской дивизии. Возле населенного пункта Монастырище они неожиданной атакой захватили позиции, которые господствовали над окружающей местностью, преградили врагу пути отхода. Белым оставалось либо выбить курсантов с этого рубежа, либо отступать без дорог, бросив обозы со всем имуществом.
Белое командование решило атаковать, тем более что, по данным разведки, главные силы красных были еще далеко. Сбить передовой отряд казалось делом не очень трудным.
Белогвардейцы имели более полутора тысяч штыков. Против них лежали в окопах всего двести сорок курсантов. Но это были не просто воины народной армии, а лучшие из лучших, отличившиеся при взятии Волочаевки и Хабаровска, почти все – комсомольцы.
Когда Иван Евсеевич Евсеев по приказанию начальника штаба дивизии приехал на передовую, чтобы выяснить обстановку, курсанты уже отбили несколько атак. Издали виден был дым, клубившийся над местом боя, докатывался оттуда непрерывный грохот. Чем ближе, тем грознее он становился, тем чаще сверкали там, в дыму, огненные вспышки разрывов.
Над железнодорожными путями, над крышами домов то в одном, то в другом месте появлялись грязно-бурые клочья шрапнельных разрывов.
Около кирпичного здания, похожего на склад, Евсеев увидел раненых. Человек десять или двенадцать лежали у стены на соломе. Пожилая женщина в темном монашеском одеянии бинтовала стонущего курсанта. Другого бойца, уже перевязанного, возчик и санитар несли на шинели к подводе. Боец был в бреду, рука его, свесившаяся до земли, конвульсивно дергалась. Он повторял хрипло:
– Бронепоезд лупцует... Командир, бронепоезд лупцует!
Еще в довоенные годы Иван Евсеевич читал, что люди, пострадавшие в бою, склонны преувеличивать опасность положения. Да и на своем опыте убедился, что у раненых лучше не спрашивать, какова обстановка – наверняка сгустят краски. Но поскольку, кроме них, узнать было не у кого, Евсеев обратился к курсанту, который выглядел бодрее других, хотя у него и рука была перевязана, и на груди, под расстегнутой гимнастеркой, белел бинт.
– Как там? – спросил комиссар.
– Беляка прорва, – ответил раненый, – только пулеметами и держим. А они по пулеметам из пушек...
– Потери какие?
– Кто их считал? У нас во взводе половину побило. Которые легко ранены, те в цепи остались. А у меня, видишь, сразу две дырки.
– Главное – перевязаться вовремя, – успокоил Иван Евсеевич.
– Да я ничего. Там плохо, – курсант повел подбородком в сторону, где гремел бой. – Подкрепление надо, не то прорвутся беляки на Гродеково, тогда ищи-свищи.
Иван Евсеевич составил для штаба короткую записку. Сообщил, что доносит со слов раненого курсанта, а сам отправляется в окопы. Велел одному из бойцов живее скакать к начальнику штаба.
Местность впереди была открытая. Правда, высотки, на которых закрепились курсанты, загораживали ее от глаз неприятеля, но если где-нибудь сидит наблюдатель...
– По канаве, – подсказал раненый, чуть приподнявшись. – По канаве иди прямо в окопы. Да осторожней, он шрапнелью кидается.
Канава была старая, заросшая бурьяном, теперь истоптанным и поломанным. Попадались лужицы грязной воды, она неприятно хлюпала под ногами. Одолев примерно половину пути, Иван Евсеевич увидел двух курсантов. Один, с черными пятнами крови на гимнастерке, лежал в бурьяне навзничь, лицо у него было не восковое, как у мертвеца, а мучнисто-белое, глаза закрыты. Второй боец, вероятно тащивший его, отдыхал рядом. И этот тоже был ранен: голова обмотана бинтом.
– Жив? – склонился Евсеев над неподвижным курсантом.
– Вроде дышит, – сказал его напарник и добавил, будто извиняясь: – Никак не дотяну, силов мало.
– Помочь?
– Не надо, не надо, – курсант замахал рукой. – Ребятам помоги, а я как-нибудь.
Сопровождавший Евсеева боец вопросительно смотрел на него. Комиссар секунду колебался, потом сказал решительно:
– Главное там... Пошли быстрее.
Низина кончилась, канава стала мельче и суше. Стрельба раздавалась совсем близко. Высоко над головой посвистывали пули. Потом оглушительно загремели взрывы, взметнулись вывернутые снарядами черные глыбы. Евсеев ткнулся в бурьян и лежал долго, чувствуя, как содрогается под ним земля.
Тяжело плюхали вокруг комья, сыпалась мелкая крошка, падали ветки деревьев. Воздушные волны хлестали по краю канавы, сметая бурьян. Пахло горелой взрывчаткой.
Дождавшись конца артиллерийской канонады, Евсеев бегом бросился на гребень, где резко усилилась винтовочная и пулеметная трескотня.
Вот и мелкая, на скорую руку вырытая траншея, развороченная воронками. Людей не видно. Из груды черной, еще дымившейся земли торчали ноги в обмотках. Валялся «максим», опрокинутый вверх колесами.
Евсеев поискал глазами, увидел жестяные коробки с патронами:
– А ну, берем!
Боец помог установить пулемет на земляной площадке, откуда его сбросило взрывом. Иван Евсеевич заправил ленту, нажал на гашетку. Пулемет дробно затрясся в руках.
– Работает! – обрадовался он.
– Гляди, перебегают! – показал боец.
– Сейчас мы их угостим, безусловно, – прищурился Евсеев, ловя в прорезь прицела мельтешившие фигурки. Плавно повел пулемет, давая длинную очередь. – Бот так! Залегли, стервецы, не понравилось!
– За камнями спрятались!
– Самокрутку изобрази мне, – попросил Иван Евсеевич, неотрывно следя за тем местом, где укрылись белые.
Справа, согнувшись, грузно подбежал по траншее человек в портупее, упал рядом, заговорил отрывисто:
– Патроны не жги... Они для броска накапливаются... Скоро пойдут...
Осекся, удивленно разглядывая Евсеева.
– Простите, вы кто?
Комиссар назвал себя. Незнакомец обрадовался:
– В штабе знают? Ну, слава богу... Начальник школы, – представился он.
– Вас-то я и разыскиваю.
– Разве так разыскивают? – усмехнулся тот и, согнав улыбку, спросил: – На что можно надеяться?
Евсеев испытующе всматривался в потное лицо начальника школы. Знал, что он – офицер царской армии, с первых дней революции перешедший на сторону большевиков. Угадывалась в нем выдержка много видавшего и пережившего человека. Не случайно доверили ему подготовку красных командиров. Такого не нужно ни убеждать, ни вдохновлять, такому нужны только факты, только истина.
– Головной отряд подойдет часа через три.В лучшем случае – через два, – сказал Иван Евсеевич. – Я послал нарочного, поторопил. Больше ничего не могу сделать.
– Спасибо. Патроны у нас еще есть, не все бы только люди сгорели...
Вздохнув, начальник школы вытащил из кармана мятый платок, хотел обтереть лысину, но сконфузился оттого, что платок грязный, и сунул его обратно.
Пояснил:
– Два раза землей меня засыпало. И в уши набилось, и на зубах скрипит.
– Океан близко, скоро отмоемся!
– Возможно, – согласился начальник, – вполне возможно. Только, пожалуй, вода теперь холодная. Осень. А вы, простите, пеший или на лошади?
– У перевязочного пункта лошадь оставил.
– Вы все-таки поторопите наших еще раз. Людей жалко. Выпускники у меня, без пяти минут командиры.
– Пошлю бойца.
Пока Евсеев писал донесение, начальник школы смотрел в бинокль. Сказал не оборачиваясь:
– До чего молодцы, сукины дети! У них же там клад, а не кадры. Как на учениях действуют. Взгляните: перебежал, откатился, замер – и нет его.
– Наши не хуже.
– При чем тут наши? – удивился начальник. – Я о противнике говорю. Бьем мы не дураков, не новобранцев, а превосходных вояк. Тем больше чести. Вам это доступно? – В голосе начальника звучало раздражение, и весь он стал каким-то напряженно-колючим.
– Непривычно это – врага хвалить.
– Если он достоин – почему не воздать должное? Во всяком случае, это и полезнее и приличнее, чем хвалить самого себя. Враг умен, а ты будь умнее, тогда и слава.
– Почти по Суворову.
– Суворов врага не принижал, – начальник школы поднялся. – Ну, скоро встать должны. Я пойду по цепи.
Начальник скрылся за поворотом траншеи, и почти тотчас со стороны белых грянул винтовочный залп. Пули пронеслись роем, взметнув землю бруствера, несколько штук цокнули в щиток «максима». Белогвардейцы дружно, по команде, расходовали обойму. После четвертого залпа Евсеев почувствовал острое жжение под левой лопаткой. Тронул рукой – одежда на спине будто рассечена финкой, лезвие которой полоснуло и по телу.
Рана неглубокая, почти царапина, но кровь из нее сочилась, жжение усиливалось, а перевязать некому. И некогда: по полю уже бежали вражеские солдаты.
Берясь за рукоятки «максима», Иван Евсеевич успел подумать, что противник действительно воюет мастерски. В ложбине, где и укрыться-то трудно, скопилось сотни три беляков. Да еще столько же, наверно, шло во второй цепи. Если их подпустить близко, они захлестнут рубеж курсантов.
Застучали два пулемета. К ним присоединился третий, потом где-то слева поспешно забарабанил четвертый. Белые солдаты падали, переползали, делали короткие перебежки. Только перед Евсеевым они торопливо шагали в полный рост.
Медлить больше нельзя. Иван Евсеевич нажал гашетку и вскрикнул от радости: первый ряд беляков лег под свинцовым ливнем, как ложится под острой косой луговая трава.
3
– Ваше высокоблагородие, к вам какой-то японец.
– Военный?
– Вроде бы штатский.
– Впусти.
Моложавый невысокий мужчина вошел, заученно улыбаясь, будто специально показывал свои крепкие белые зубы. Именно по этим ровным красивым зубам, редкостным для японцев, Яропольцев с первого взгляда узнал незваного гостя: лейтенанта флота Минодзуму.
Их познакомили месяца два назад на приеме, который устроил для офицеров японский главнокомандующий генерал Тачибана. Лейтенант Минодзума держался тогда очень скромно, помалкивал, наблюдал, улыбался. Яропольцев отметил его аристократические манеры и быструю реакцию в разговоре.
Лицо у Минодзумы смугло-желтое, холеное. Глаза узкие, почти невозможно заглянуть в них, понять, что они выражают. И все-таки Яропольцев присмотрелся: взгляд у самурая цепкий, ничего не пропускающий. Холодные глаза его оставались напряженно-внимательными, оценивающими даже тогда, когда Минодзума улыбался особенно приветливо.
Лейтенант числился помощником командира броненосного крейсера «Ниссин», который серым утюгом застыл на рейде бухты Золотой Рог.
– Прошу извинить такой неожиданный визит, но я искренне рад вас видеть, – японец говорил по-русски почти без акцента. – Мне надо беседовать с вами по важному делу.
– Садитесь, пожалуйста, – указал Яропольцев на кресло.
– По очень важному делу, – повторил японец, оглянувшись на Голоперова, стоявшего возле двери.
– У меня нет секретов от подпоручика.
– Тем лучше, – Минодзума улыбнулся так ослепительно, будто слова Яропольцева осчастливили его. – Я приехал к вам с поручением генерала Тачибана, господин полковник. Генерал просит уведомить вас, что красные войска подошли к станции Океанская, где остановлены нашими постами. Океанская, как вы знаете, совсем близко.
Японец, смотрел на Яропольцева, желая понять, какое впечатление произвели его слова. Яропольцев молчал.
– Между нашими войсками и войсками красных, – продолжал японец, – больше нет никаких сил. Красные предлагают нам уйти из Владивостока. Чтобы избежать кровопролития, как они утверждают. Мы начали переговоры.
– Переговоры можно затянуть надолго, – заметил Яропольцев.
– К сожалению, нет, – улыбка японца стала печальной. – Мы получили протест министра иностранных дел Дальневосточной республики. И такой же протест правительства РСФСР. Как видите, красного командира Уборевича поддерживают внушительные силы. А нас, японцев, здесь слишком мало. Мы сделали все, чтобы помочь русским друзьям, но эта помощь оказалась напрасной. Теперь мы уходим. Завтра начнется погрузка на корабли.
– Уносите ноги, – в голосе Яропольцева звучала ирония.
– Мы уходим сами, как говорят у вас, подобру-поздорову... Я понимаю, что это вам неприятно, – сочувственно склонил голову Минодзума. – Но вы не должны огорчаться. Мы будем рады видеть вас у себя на островах. Ваши деньги, ваши связи в Швеции...
– И о них вам известно!
– Японцы всегда знают о других больше, чем те думают. Разве не об этом говорят события девятьсот четвертого года? – Минодзума выжидающе улыбался.
Стараясь не глядеть на него, чтобы не выдать свое раздражение, Яропольцев быстро прошел по комнате, остановился возле окна.
– Передайте генералу Тачибана: я остаюсь во Владивостоке.
– С красными? – уточнил Минодзума.
– Повторяю, во Владивостоке.
Мстислав Захарович ожидал, что японец начнет уговаривать его, но лейтенант, погасив улыбку, поднялся с кресла.
– Я тоже остаюсь во Владивостоке, господин полковник.
– С красными? – Яропольцев не смог отказать себе в удовольствии отплатить японцу его же монетой.
– Служба, господин полковник, – официально ответил Минодзума. – Надеюсь скоро увидеть вас.
Японец откланялся.
В прихожей громко щелкнула дверная задвижка. В комнату вернулся Голоперов. Лицо его было бледным, багровой полосой выделялся шрам.
– Ваше высокоблагородие, Мстислав Захарович, как же теперь?..
– Война продолжается, Кузьма. Мы проиграли сражение, но это не значит, что все кончено. Впереди новые битвы, к ним надо готовиться.
– Что же мы будем делать?
– Обстоятельства покажут. А сейчас иди. Раздобудь мне штатский костюм и пальто. Этакое, – поморщился Яропольцев, – чтобы попроще. Ну и себе тоже.
– До чего жаль погоны сымать! – вздохнул Голоперов.
– Ничего. Время придет – снова наденем, – успокоил его полковник.
4
Жители Владивостока вышли на центральные улицы: Светланскую, Алеутскую и Китайскую. День был прохладный, сырой, но люди терпеливо ждали на тротуарах, возле домов.
Яропольцев чувствовал себя одиноким в разномастной толпе, среди подростков, чиновников, рабочих, крикливых баб. Стоял у стены, подняв воротник серого пальто, затенив глаза широкополой шляпой. На него не обращали внимания. Люди подшучивали над высоким узколицым мужчиной приличного вида: в черном цилиндре, при галстуке и с тростью в руке. Многие обращались к нему по имени и отчеству:
– Матвей Матвеевич, ты-то чего пришел? Нешто большевики тебе в радость? Наложат они лапу на твой магазин!
– Наложат – так хоть свои, православные, а не косоглазы плюгавые.
– Дык большевики против церкви.
– Все одно – русские. Твердую власть поставят, иностранцев попрут. Осточертело: то одни, то другие на шее сидят.
– А большевики не сядут?
– Свои легше.
На перекрестке развернул гармонь моряк – инвалид с деревянной ногой. Ему принесли табуретку, моряк сел, заиграл плясовую. Образовался круг, выскочила молодуха, дробно застучала каблуками по брусчатке.
Яронольцев изрядно продрог и хотел уже пойти домой, согреться коньяком, когда со стороны Дальзавода донесся вдруг низкий могучий гудок. Набирая силу, он поплыл над бухтой, над сопками, заставив людей умолкнуть и поворотиться на звук.
Откуда-то из пролива Босфор Восточный долетел ответный сигнал, загудел какой-то пароход, но тотчас поперхнулся и смолк.
– Братцы! – ошалело заорал моряк с гармошкой. – Братцы, энтот адиет подумал, что ему прощальный салют дают. Во дурак, братцы!
Мстислав Захарович посмотрел на бухту. Она была пуста. Японцы и белогвардейцы увели с собой все суда. Только два крейсера с расчехленными орудиями выжидающе замерли на рейде: американский «Сакраменто» и японский «Ниссин».
Заводской гудок не смолкал. Был он настолько силен, что казалось, от него, а не от порывистого ветра лопнули и разошлись тучи над Золотым Рогом, открыв полосу голубого неба.
– Видать, войска в город вступили, – предположил тот, кого звали Матвеем Матвеевичем.
– Забастовке конец, – уверенно пояснил пожилой человек в сапогах и в солдатской шапке. – Японцев нет, значит, отбой забастовке.
Появились какие-то энергичные расторопные люди, начали устанавливать деревянный ящик фотоаппарата на высоком штативе. Покрикивали весело:
– Расступитесь, граждане, мы из газеты! Из «Красного знамени». Бабоньки, в сторону, в сторону!
Далеко за Покровской церковью послышался неясный гул. Он постепенно приближался к Светланской улице. Отчетливее слышались приветственные крики, доносились обрывки песен.
Со стороны Первой Речки в город вступила разведка.
Яропольцев не замечал, как радуются вокруг него люди, не чувствовал толчков в тесной толпе. Он видел только красных бойцов и, как это ни странно, совсем не думал, что с их появлением отсечено его прошлое и начинается какая-то неведомая жизнь. Он с профессиональным любопытством оценивал их действия.
Конно-пешие разведывательные отряды шли быстро, не отвлекаясь, почти не отвечая на приветствия. Первый отряд занял центр города, вокзал и почту, выставил пост на пристани. Второй свернул на мыс Эгершельда. Третий и четвертый проследовали в сторону Луговой улицы, в дальний конец бухты. Сразу угадывался продуманный план, умелое руководство. Еще бы! Красный главком Уборевич и многие его помощники – бывшие офицеры, имеют хорошую теоретическую подготовку, опыт двух войн.
С острой тоской подумал вдруг Яропольцев, что он мог быть среди тех, кто ведет эти отряды, очищая от японцев последние метры родной земли. И как же это случилось: потомственный русский офицер бежал под натиском русских солдат через всю Сибирь к океану вместе с белочехами, японцами, американцами?! Это он носил форму, присланную из Англии, ел французские консервы, принимал вагоны с патронами и снарядами, на которых стояло зарубежное клеймо!
Впрочем, все правильно. Он видит перед собой не просто русских солдат, а красных солдат. Они защищают власть, которую он не может признать. Власть в корне враждебную, пытавшуюся низвергнуть его до уровня простолюдина. У него одна цель: всеми средствами бороться с этой властью, вернуть свое имущество, свои привилегии. И не важно, кто будет рядом с ним в этой борьбе: японцы, англичане, французы. Важно, чтобы они помогали ему...
Со стороны Первой Речки опять донесся приглушенный расстоянием шум, похожий на гул прибоя. Явственно прозвучало «ура!».
– Идут, идут! – загомонили в толпе. Одноногий моряк, длинный Матвей Матвеевич, бабы и подростки ринулись вперед, едва не сбив треногу с фотоаппаратом. Газетчики принялись наводить порядок:
– Граждане, сейчас курсанты появятся! Расступитесь, граждане, нам курсантов снять надо!
– Каких ишшо курсантов? – крикнул моряк. – Красных героев сымай для предбудущего потомства!
– Граждане, нам сообщили из редакции, что первыми в колонне идут курсанты, – надрывался газетчик. – Им такая честь за бой под Монастырищем. Они там сдержали белых, которых было в десять раз больше. К концу боя из двухсот сорока курсантов в цепи осталось только шестьдесят семь! Все они, вместе со своим командиром, награждены орденами Красного Знамени!
– А ну, бабы, давай назад! – скомандовал моряк. И он, и Матвей Матвеевич, и мужчина в сапогах стали перед фотоаппаратом, не допуская любопытных загораживать улицу.
«Ура!» вспыхнуло совсем близко, и Яропольцев увидел голову колонны. Курсанты приближались широкой шеренгой – по восемь человек в ряд. Все в длинных шинелях, с подсумками на ремнях, в ботинках с обмотками. Шли спокойно, соблюдая равнение и ступая в ногу привычно, без всяких усилий. Уже одно то, что курсанты, оставив сегодня за спиной десятки верст, все же легко, естественно держали четкий строй, говорило о том, что солдаты они бывалые, привычные к службе. Это большое счастье – иметь под своим началом таких бойцов.
Впереди и чуть правее строя, задавая темп, шагал пожилой человек в бекеше, в фуражке с красной звездой – их командир.
Яропольцев пошел следом.
Колонна двигалась, никуда не сворачивая, и вскоре достигла берега. Впереди была бухта, ветер гнал небольшие волны.
Прозвучала команда. Курсанты составили винтовки в козлы, расположились на отдых. Садились на бревна и ящики, с удовольствием закуривали, вытянув усталые ноги.
Командир, грузно переваливаясь, подошел к краю причала, снял фуражку. Смотрел вдаль, на серую воду, на вершины сопок.
Прискакал на коне еще один начальник: в кожаной кепке, с ярким бантом на потертой кожаной куртке. Изрытое оспой лицо сияло от радости.
– Комиссар приехал! – крикнул кто-то. Комиссар спрыгнул с коня, обнял командира, повернулся к бойцам:
– Товарищи! Дорогие! Дошли! До самого океана, безусловно, дошли! Вот она, последняя пядь земли нашей!