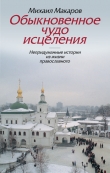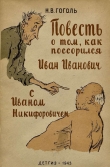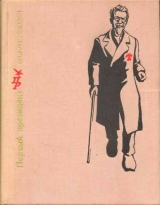
Текст книги "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
4
Следующее утро – 31 декабря – началось не совсем обычно. Михаил Иванович заправил кровать, умылся и, забрав почту, вернулся в свою спальню-кабинет – небольшую комнату, где кроме койки, стола и ширмы были книжные полки. В свободные дни сразу после завтрака Калинин обычно принимался за книги, но сегодня день особенный, Михаил Иванович взялся сперва за газеты.
Центральная пресса подробно информировала читателей о закончившемся недавно Десятом Всероссийском съезде Советов и особенно о Первом Объединительным. В «Известиях» была напечатана анкета под общим заголовком: «Итоги, перспективы и пожелания на 1923 год». Два десятка государственных деятелей и ученых ответили на вопросы анкеты. Ответ Калинина – в самом начале. И все о том же, о главном, о создании единого союза братских республик.
В первые дни революции преобладало стремление к освобождению от государственности, – это он видел своими глазами. Каждый уезд сам хотел быть государством. А сейчас, наоборот, все сознают необходимость более тесного, общего объединения социалистических советских частей. Отсюда и задача союзных органов: умелым управлением удовлетворить объединительное настроение масс.
Ну ладно, нечего перечитывать самого себя. Кто еще отвечает на вопросы анкеты?
Председатель Совета Закавказской Федерации Александр Мясников: «...союз дает возможность укрепить хозяйство и военные силы, нужные народам Востока для борьбы с мировым капиталом».
Председатель ЦИК и Совнаркома Белоруссии Александр Червяков: «...выпуск книг, учебников на белорусском языке, субсидирование белорусского театра и проч. окончательно рассеяло агитацию шовинистических элементов, усматривающих в Союзе ССР опасность для белорусской культуры».
Конечно, эти меры выбивают почву из-под ног националистов и «независимцев». Но говорить, что все противники объединения закрыли свои рты, еще рано. Вопрос этот сложный, и решаться он, видимо, будет постепенно, годами.
Анатолий Васильевич Луначарский пишет, конечно, о советском искусстве: «...левое искусство, которое забивало себе путь голым формализмом и беспредметностью, устами Маяковского заявляет, что оно намерено перейти от формального футуризма к остро выраженному коммунизму, эстетическому выражению образов и мыслей революции и насыщению искусством быта».
К остро выраженному коммунизму – это хорошо. Только очень уж сложно закручено... Для широкого читателя можно бы и попроще.
В комнату стремительно вошла Екатерина Ивановна и, вероятно, продолжая разговор, начатый с кем-то за дверью, спросила:
– А ты? Чего бы хотел ты?
Михаил Иванович ответил недоумевающе:
– Я? Ну, положим, в городки хотел бы сыграть. – Он оживился. – Чтобы лежачую фигуру бац – и долой!
– О господи, я не о том совсем. Праздничный обед хочу приготовить, чтобы всем угодить.
– Засиделся я, Катя. Жаль, что зимой сыграть негде, – он прищурился, целясь, резко махнул рукой.
– Хватит, вижу, – засмеялась Екатерина Ивановна. – Городошник ты отменный. А насчет обеда-то как?
– Что хочешь, то и готовь.
– А особенное, новогоднее?
– Грибков бы. Соленых.
– Есть грибы. Мария Васильевна позаботилась, прислала из деревни.
– Наверно, те засолила, которые я последний раз принес. Полная корзина была. Превосходные грибы!
– Ну да, – возразила, посмеиваясь, Екатерина Ивановна, – твои она почти все выбросила. Червивые.
– Не может быть. Она ведь хвалила меня!
– Огорчать не хотела. А когда ты на рыбалку ушел, повеселились мы с ней вволю.
– Вот те на! Я же в очках собирал.
– Удовольствие получил?
– Еще какое.
– Значит, не зря время провел. А грибов маминых поедим, у нее они чистенькие, – Екатерина Ивановна взяла газеты, положила на подоконник. – Пойдем завтракать.
В столовой дети уже дожидались за столом. Поздоровавшись с отцом, Юля спросила:
– Пап, разве можно считать математику самой главной наукой?
Пять пар глаз ожидающе уставились на него. Подумав, он ответил:
– Математика – это гимнастика ума. И практическая польза от нее очень большая.
– Но разве она самая главная?
– Все науки важны и нужны, и нельзя делить их на главные и неглавные. Лучше изучать их как следует, – улыбнулся Михаил Иванович.
– А что изучать в первую очередь?
– Если бы меня спросили, чего мне недостает, я бы ответил: мне недостает знания иностранных языков и своего родного русского языка. Крайне необходимо лучше знать русский язык. Если ты хочешь влиять на окружающих, то этого можно достигнуть только тогда, когда будешь уметь облекать свои мысли в яркие, точные и общедоступные формы. Вот почему знание родного языка крайне необходимо каждому культурному человеку.
– Каша стынет, – негромко напомнила Екатерина Ивановна.
За столом стало тихо, лишь ложки постукивали о тарелки. Семь ложек. У детей стук был чаще – торопились покончить с гречкой, отправиться по. своим делам. Большие они уже, рассуждают о серьезных вещах, самостоятельность проявляют. Не барчуками растут, не белоручками. Валерьян электричеством увлекается, Александр техникой. Это они, наверно, спорили с Юлькой насчет математики. Решительная, несколько замкнутая Лида мечтает стать врачом. Анна пока не заглядывает так далеко, она только еще обжилась в семье, только привыкла.
Разбойница Юлька недавно заставила отца с матерью сильно поволноваться. Не явилась после школы домой. Это случалось и раньше, оставалась у подруги часов до семи, возвращалась к тому времени, когда приходила с работы мать. А тут девять, десять часов – Юльки нет.
Екатерина Ивановна сама не своя, да и ему черные мысли в голову лезли.
В полночь решил отправиться на поиски. Только рделся – и вот она, явилась девица! Румяная, довольная, короткие волосы – на косой пробор – растрепались. Оказывается, вместе с подругой и ее родителями ходила в консерваторию, на концерт.
Михаил Иванович не стал бранить ее. Сказал только, чтобы в другой раз обязательно предупреждала заранее. Ведь не пустой болтовней занималась, в хорошем месте была...
Управившись с кашей, Юля машинально взяла кусок хлеба, откусила, положила рядом с тарелкой.
– Спасибо, – поднялась она.
– А хлеб? – нахмурился Михаил Иванович, – Если не хочешь, зачем было брать?
У Юли округлились глаза:
– Ведь сейчас не голод, папа...
– Я думаю, люди будут беречь хлеб даже тогда, когда настанет полное изобилие. А до этого пока еще далеко. Ты знаешь, каким трудом он достается крестьянину? Очень тяжелым трудом!
Аккуратно придвинул к столу свой стул и ушел в комнату. Повторять одно и то же несколько раз, уговаривать, вдалбливать он не любил. Кто хочет, тот услышит и поймет. А кто не хочет, тот не уразумеет, сколько ни повторяй.
Глава тринадцатая
1
Десять суток почти непрерывно стучали и стучали на стыках колеса, отсчитывая километры. Остановки были короткие. Отцеплялся паровоз, устало шипя, уходил в депо, и сразу же молодецки подкатывал другой, заправленный углем и водой. Пробегали осмотрщики, испытывая своими звонкими молоточками надежность колес. Звучал станционный колокол, и поезд плавно трогался с места.
Михаил Иванович уже привык к покачиванию вагона, к непрерывному подрагиванию пола под ногами.
Остались позади Волга и Урал, Иртыш и Енисей, озеро Байкал и станция с необычным названием – Ерофей Павлович, а конца пути не было видно. Впереди раскинулось обширное Приамурье, и лишь за ним начинался Уссурийский край – Приморская область.
В Москве некоторые товарищи отговаривали Калинина от такой продолжительной поездки. Но Михайл Иванович не согласился. Представитель центральной власти обязательно должен побывать в самых далеких районах страны, недавно освобожденных от белогвардейцев.
На больших станциях Калинин встречался с руководителями местных советских и партийных органов, беседовал с ними, решал те вопросы, которые не требовали дальнейшего изучения и обсуждения. В пути готовился к предстоящим выступлениям. И неторопливо, тщательно обдумывал речь, с которой намеревался выступить на открытии первой международной крестьянской конференции. Намечалась она на октябрь, до нее оставалось еще больше двух месяцев, но Михаил Иванович придавал ей особое значение и уже теперь, в дороге, набрасывал тезисы.
Перед собранием тружеников, перешагнувших национальные рамки, он будет говорить прежде всего о союзе крестьян и рабочих. Надо не только констатировать факт, а исследовать историю взаимоотношений этих классов, проанализировать Опыт последних лет, наметить перспективу. Среди крестьян-делегатов будут люди не очень грамотные, поэтому речь должна быть доступной для каждого и в то же время не упрощающей сложного дела. Лучше всего построить ее из маленьких главок, в каждой из которых осветить одну определенную грань. И переводить такие главки для зарубежных делегатов будет легче...
Вагонные колеса стремительно и гулко прогромыхали по железному мосту, а потом опять застучали размеренно, однообразно. Михаил Иванович прикоснулся лбом к прохладному стеклу. Поезд шел по краю крутого обрыва над быстрой пенистой речкой, пробившей себе извилистый путь среди сопок. Она резко виляла то вправо, то влево, и поезд послушно следовал ее изгибам, поворачивая порой так круто, что Михаил Иванович видел последние вагоны состава.
Сопки вокруг покрыты густой тайгой: на вершинах, озаренная солнцем, тайга зеленая, веселая; по склонам зелень постепенно голубела, переходила в синеву, а в глубоких распадках, куда солнечные лучи попадали разве что в полдень, лес казался черным, дремучим, угрюмым. Легкий, едва приметный туман стлался там.
За грядой сопок вздымались более крутые горы, каменистые вершины которых совсем не имели растительности и от этого выглядели дико и неприступно.
Речка свернула вправо и убежала, сверкая, в просторную светлую долину. Появились деревянные дома, среди которых выделялось кирпичное здание под железной крышей. Лохматая собака понеслась рядом с вагоном, отставая. Стреноженные лошади лениво подняли головы, проводили взглядами поезд. Вот мужики с топорами возле нового сруба. Бабы в белых платочках около телеги.
Все промелькнуло, скрылось, и вновь надвинулась лохматая стена тайги, снова встали обочь дороги крутобокие сопки с каменистыми осыпями. Михаил Иванович думал о том, как трудно было прокладывать здесь первые тропы тем отважным россиянам, которые три века назад шли на восток.
Это ведь поездом десять суток пути, а сколько требовалось времени, чтобы добраться сюда на подводе, да не в одиночку, а с женой, с детьми, с коровой, со всем скарбом. От Архангельска, от Пензы, от , Вологды, с родного Верхневолжья двигались сюда вслед за казаками-землепроходцами упорные, смелые мужики. По нескольку лет проводили в пути. Наконец ,приглядев удобное место, ставили сперва прочный крест из тяжелой лиственницы, возле него начинали рубить избы, возводить пристройки. Боролись со зверьем, с гнусом, раскорчевывали тайгу, отвоевывая у нее пашни и покосы. Страдали от морозов, от голода. Год за годом корнями врастали в эту неуютную, но щедрую землю, обихаживали ее, обстраивали. Охотники да рудознатцы проникали в самые труднодоступные уголки. И так – до самого Тихого океана. Недаром еще Ломоносов сказал в свое время, что могущество России будет прирастать Сибирью.
На здешних просторах каждый может проявить свою сметку, молодецкую удаль, способность работать. Взять хотя бы вот эту дорогу. Транссибирская магистраль – самая длинная линия в мире. Славно потрудились тут русские люди. Жаль только, что фамилий своих не оставили для потомства. Да всех-то ведь и не перечислишь, не назовешь. В народной памяти остались только самые выдающиеся. Триста лет минуло, как Ерофей Павлович Хабаров с землепроходцами пробился на Амур, а слава его не потускнела. Наиболее крупный город на востоке носит его фамилию, большая железнодорожная станция – его имя и отчество...
Не пройтись ли по вагонам? Размяться, посмотреть, словцом перекинуться?
Осторожно перебрался из тамбура в соседний тамбур. Под ногами стремительно мелькали шпалы, синевато светился укатанный рельс. Дежурный боец вытянулся по уставу при виде Калинина, в глазах укоризна: разве можно ходить при такой скорости?
В коридоре Михаил Иванович остановился передохнуть. Из полуоткрытой двери предпоследнего купе слышался громкий разговор, судя по смеху – веселый:
– С летчиками у нас особые счеты! Их к нам словно магнитом тянет, – узнал Калинин голос представителя ГПУ, одного из ветеранов «Октябрьской революции». Этот представитель ездил, пожалуй, во все рейсы, занимался разбором судебно-карательных дел. Молчаливый товарищ, а сейчас пуще всех разошелся: – Первый раз нас возле Минска бомбили. Только подкатили к городу, только начали митинг, а уж он тут как тут! Но ничего, обошлось. А второй раз дело было весной двадцатого года...
– В мае, – уточнил кто-то.
– Да, в мае, когда Первая Конная на польский фронт перебрасывалась. Приехали мы в Тальное на нескольких пролетках, и начался смотр шестой кавалерийской дивизии. Буденный спешил своих конников, выстроил их плотными массами так, что в центре получился свободный четырехугольник. В нем тачанка, а на нее, как на трибуну, поднялся Михаил Иванович. А мы, соответственно, вокруг тачанки.
– Еще женщина с нами была. Стройная, красивая.
– Остроумова, стенографистка наша...
– Ладно, про самолеты давай.
– Не спеши, до Благовещенска еще далеко, все переговорим. Ну, значит, начал Михаил Иванович свою речь, и тут как раз слышим – гудит! Над самыми головами прошел, чуть-чуть кубанки с бойцов не посшибал.
– Звезда красная на крыльях была.
– В том-то и дело, замаскировался под нашу машину. Всем бы рассыпаться да стрелять, а от своего какая угроза? Никто и ухом не повел, а летчик этим воспользовался. Повернул – и давай из пулемета строчить! Как дождь сверху. Местные жители, которые вокруг строя толпились, такого деру дали – никакой самолет не догонит! А бойцы ни с места. Сразу команда, все вскинули винтовки и по врагу залпами...
– А Калинин? – перебил рассказчика молодой голос.
– Так на тачанке и остался. Пальба, дым, крики, а он хоть бы что. И мы рядом торчим...
«Вот как это выглядело тогда со стороны», – подумал Михаил Иванович. Вообще-то он чувствовал себя в тот раз очень неважно. Дурацкое было положение. Красноармейцы на коварство врага отвечали пулями, а он был лишним человеком, в кармане нет даже револьвера. Спрятаться, кроме как под тачанку, некуда, да и кто же позволит себе прятаться на глазах целой дивизии?! Так и стоял, ожидая: или пуля попадет, или самолет отгонят.
– Про быка, про быка расскажи...
– Не торопи ты меня! Дай чаю хлебнуть... С этим быком тоже история. Уже и войны никакой не было, приехали мы на Украину насчет помощи голодающим. Со станции отправились в большое село. Дорога долгая, день теплый, солнечный, как сегодня. Подремываю в автомобиле. Вдруг слышно – гудит. Я уж грешным делом подумал: не из-за границы ли на нас специально послали, но до границы-то далеко.
– Это он приветствовать нас прилетал. На бреющем несся.
– Да уж на таком бреющем – чуть в дорогу перед нами не врезался. А тут как раз стадо шло, коровы с перепугу врассыпную. А бык здоровенный кинулся в овраг и кувырком через голову – ногу сломал. Пастух возле нас слюни распустил. Бык-то породистый, производитель, всю жизнь за такого не рассчитаешься. А кто виноват? Михаил Иванович расспросил обо всем и тут же написал записку начальнику ближнего гарнизона: прошу, мол, использовать быка на мясо для воинской части, а владельцу возместить стоимость. Вот как нам от авиации всегда доставалось...
– Аховые ребята эти пилоты. Летать начал, от силы года два крылышками помахал – и каюк, земля ему пухом! В среднем, конечно, считается два года;
– Ну, это кому как повезет...
– И дело в общем-то бесполезное. На войне самолеты еще так-сяк: разведку произвести, народ попугать. А в мирное время какой от них прок?
– Не скажи! Срочный пакет доставить. Или заболел кто, лекарство потребуется, а пути нет, как у нас на севере...
Калинин согнутым пальцем постучал в дверь купе произнес весело:
– Здравствуйте, товарищи. Кто это здесь байки баит?
– Здравствуйте, Михаил Иванович, – представитель ГПУ привычным движением одернул гимнастерку, проверил, застегнуты ли пуговицы. – Не байки, чистую правду. Новичков просвещаем. Может, посидите с нами? Чайку?..
– Не откажусь.
– Вы бы сами чего рассказали...
– Да ведь не вспомнишь сразу, столько всего было, – Калинин задумался, хитровато прищурил глаза. – Знакомый у меня есть, примерно вашего возраста. В Октябре, когда Зимний брали, ему еще двадцати не стукнуло. Но парень с головой, уже тогда трактор в тяжелом дивизионе водил. Пахал на тракторе. Потом за автомобиль взялся, скорость прельстила. А теперь учится, летчиком хочет стать. Узнал, что я на Дальний Восток еду, поинтересовался: сколько же времени туда поезд идет?
– Полмесяца, – сказал представитель ГПУ.
– Наш-то еще больше, – возразил кто-то.
– Да, полмесяца вычеркивай, пока доедешь, – согласился Калинин. – Вот мой знакомый и говорит: погоди, дядя Миша, через несколько лет мы туда за неделю летать будем. Шесть-семь суток – и во Владивостоке.
– Так уж и неделя? – усомнился представитель ГПУ.
– Неделя, говорит, максимально. Еще быстрей можно.
В купе заспорили:
– Мечтательный товарищ!
– Какая там мечта, он свою технику знает, по ней скорость рассчитывает.
– Скорость, конечно, хорошая штука, но я еще и другому радуюсь, – продолжал Михаил Иванович. – Наш молодой пролетарий крылья расправил, вот что главное. Свои самолеты у нас теперь, свои летчики...
Колеса снова гулко простучали по мосту, и все головы разом повернулись к окну. Долгий летний день кончился, солнце скрылось. Однообразно темной стала тайга, монолитной массой, словно неисчислимое войско, подступившая к самой дороге.
2
Полуостров Муравьев-Амурский разделяет два залива, глубоко врезавшихся в сушу: Амурский и Уссурийский. Сам полуостров столь велик, что на нем поместились и горы с глухой тайгой, и несколько поселков, и железнодорожные станции, и большой город Владивосток.
Оконечность полуострова изрезана бухтами: самая красивая и самая большая среди них – Золотой Рог. Вход в нее охраняют высокие крутолобые мысы. Тот, который длиннее и гористее, носит имя одного из первооткрывателей этих мест – капитан-лейтенанта Эгершельда. Здесь, высоко над водой прилепилась среди каменных глыб избушка, в которой жил теперь Мстислав Захарович Яропольцев.
Приютил его бывший вахмистр Остапчук, вместе с Голоперовьтм вывозивший когда-то полковника из Омска. В бою под Читой вахмистр был ранен. Яропольцев устроил его в санитарный поезд. И вот через два года, в самое трудное для себя время, когда скрывался без документов, на случайных квартирах, встретил Остапчука во Владивостоке.
Бывший вахмистр очень изменился: щеки ввалились, резко выделялись скулы. Только рыжие усы оставались по-прежнему пышными.
– Жизнь у меня тоскливая, – пояснил он Яропольцеву. – Без всякой надежды. Сижу в норе, в город только за провиантом командируюсь.
– А нора надежная?
– Можете не сумлеваться. Яропольцев и Голоперов пошли с ним. Остапчук сторожил заброшенный портовый склад, в котором хранилось корабельное оборудование, никому не понадобившееся даже в трудное военное время. Что можно было приспособить к делу, давно уже вывезли, остались в деревянном бараке и в подземном каземате громоздкие якоря, ржавые тяжелые цепи, броневые листы с круглыми отверстиями для иллюминаторов, какие-то баки с кранами, трубы.
Никто в этот склад не заглядывал, неизвестно даже, кому Он принадлежит. Остапчук имел на руках удостоверение городского Совета о том, что является смотрителем склада и отвечает за сохранность имущества. С этим удостоверением он ходил раз в месяц то в порт, то к городским властям, выколачивал себе жалованье. А бывало, и не ходил: на те деньги, которые ему платили, только пачку махорки можно купить. И выгоднее и спокойнее было промышлять рыбой, благо волны Босфора Восточного плескались у самого подножия обрыва.
Избушка и барак обнесены колючей проволокой в три кола. Сам Остапчук соорудил это фронтовое заграждение. Если нагрянут опасные гости, через проволоку одним махом не перескочат. Дверь избушки обита изнутри железом, на окнах решетка. Пока ворвутся в дом, можно уйти через другую дверь в скалу, в каземат. А там попробуй поищи в темном подземелье, в длинных коридорах недостроенного форта. Яропольцев научился без труда ориентироваться в этом лабиринте, знал прямой путь к лазу, находившемуся поодаль от берега на забурьяненной свалке.
– Крепко укрылись! – радовался Голоперов. – Отсюда нас тяжелым снарядом не выковырнешь!
Яропольцев постепенно привык к новому своему положению, начал помогать Остапчуку на рыбалке, ходил за провиантом. Во Владивостоке жизнь при большевиках быстро наладилась, работали предприятия, нэпманы пооткрывали магазины, рестораны, кафе. Ешь, пей, веселись – были бы деньги! Серебро или золото. А если бумажки, то лучше американские. Впрочем, оборотистые дельцы брали и франки, и английские «стервинги», и даже иены.
В деньгах стеснения не было. Японец Минодзума, с которым Яропольцев не терял связи, предложил неограниченный кредит.
Почти всю зиму мыс обдували холодные ветры, сметали снег с каменных глыб. А потом поползли густые липкие туманы, долго и нудно сыпался мелкий дождь. Лишь в мае по-южному горячо засветило солнце.
У входа в Золотой Рог дымил какой-то пароход, стоявший на якоре. Дальше хорошо просматривались бухты Диамид и Улисс.
Прямо перед глазами высился массив Русского острова. Гористый, покрытый лесами, он принимал на свои утесы удары штормовых волн, загораживая Владивосток от опасностей, надвигавшихся с моря.
Яропольцеву запали в память прочитанные где-то строки местного стихотворца:
Неприступно встали кручи
Над водой, над морем синим,
Русским островом могучим
Начинается Россия.
Для кого начинается, а для кого и кончается. За островом – нейтральные воды, морская граница, а дальше – Япония. Остров был последней частичкой родной земли, которую видели белогвардейцы, уходившие в чужие края на чужих кораблях. Но для тех из них, которые надумают возвратиться, остров не преграда. Они ночью минуют его и высадятся прямо на материк, на Эгершельд, неподалеку от центра города. Для них подготовлен надежный опорный пункт.
Так рассуждал Яропольцев в жаркий августовский день, сидя на горячем камне и щурясь от солнечных бликов, которые плясали на волнах.
– Ваше высокоблагородие! – окликнул его Остапчук.
Яропольцев обернулся, удивленно приподняв брови. Бывший вахмистр давно звал его только по имени-отчеству.
– Суета в городе, ваше высокоблагородие. Светланскую улицу и вокзальную площадь наяривают, как перед парадом. Главный председатель из Москвы едет!
– Что за председатель?
– Калинин.
Яропольцев почувствовал вдруг какую-то слабость. Он еще не успел ни о чем подумать, не успел ничего взвесить, но подсознательно понял, что его ждут решительные перемены. Калинин здесь? Почему?..
– Вот газеты, на вокзале давали. Как раз при мне поезд пришел, тюки из вагона выгрузили. Тут все прописано, – почтительно произнес Остапчук.
Яропольцеву бросился в глаза незнакомый заголовок: «Амурская правда», г. Благовещенск, 4 августа 1923 года... Ниже набрано крупным шрифтом: «Речь товарища Калинина на общегородском митинге».
Начал читать, и показалось, что Калинин обращается прямо к нему:
«...И вот почти через шесть лет я делаю поездку, по счету, вероятно, не менее как двадцатую, в места, где белогвардейские власти держались наиболее долго, где они были наиболее сильны и упорны.
Сюда бежали недовольные, враждебные Советской власти элементы. Несомненно, здесь, в ваших местах, ложь, клевета и ненависть, распускаемые по отношению к Советской власти, по отношению к рабочим и крестьянам всей буржуазной сворой, осаждались особенно обильно в головах впавших в панику обывателей. И я считаю своим долгом и обязанностью перед этим большим собранием опровергнуть одну из самых распространенных клевет русских белогвардейцев. Это клевета относительно того, будто русские большевики, рабочий класс и крестьяне, идущие за ними, являются разрушителями государства, что они предают интересы русского народа и в своих узкопартийных целях приносят в жертву интересы России, топчут и продают общенациональные интересы государства. А вот-де они, белогвардейцы и вдохновляющая их буржуазная клика, являются главными защитниками русского населения. Я хочу опровергнуть эту ложь и бросить врагам рабочих и крестьян России, что это они за все эти шесть лет являлись предателями, изменниками, продающими русскую кровь, продающими русские земли, русский накопленный труд в виде кораблей, имущества, приобретенного за счет труда русского народа. Все они меняли и продавали. Нет ни одного белогвардейского вождя, который не запятнал бы себя продажей народного добра тому или другому буржуазному правительству...
Конечно, все эти колчаки, Деникины (все чисто русские фамилии), как и ваши сибирские Меркуловы, Семеновы, не буду перечислять их всех, были патриотами до тех пор, пока рабочие и крестьяне служили им дойной коровой, пока они снимали сливки с трудового народа и жирели на патриотизме. А когда русский рабочий класс отказался быть дойной коровой для этих паразитов, тогда их патриотизм стал проявляться в удушении Родины, тогда опи немедленно перекинулись на сторону злейших противников рабоче-крестьянской страны. Те, кто еще думает, что правительство, которое сменило бы Советскую власть, поведет национальную русскую политику, те жестоко ошибаются. Нет, не может быть такого правительства в России, кроме рабоче-крестьянского, которое бы действительно повело российскую национальную политику».
Яркая вспышка полоснула Яропольцева по глазам. Он удивленно поглядел вокруг. Было пустынно и тихо. Над камнями, нагретыми солнцем, зыбился горячий воздух, размывая очертания скал, построек. Далеко внизу работали грузчики, носили мешки с парохода, приткнувшегося к деревянному причалу. Белые барашки пестрели на воде. Но откуда свет?
Вспышка повторилась. Вот оно что: пароход покачивается, солнечные лучи отражаются от иллюминаторов, от стекол капитанской рубки.
Яропольцев глянул на Остапчука. Бывший вахмистр склонился над газетой, водил желтым от махры ногтем по строчкам, морщил лоб, силясь понять написанное. Рядом с ним – Кузьма Голоперов.
Мстислав Захарович принялся читать дальше:
«...И вот в то время, как в буржуазных странах происходит упорная и жестокая борьба между различными национальностями, как, например, в Англии между англичанами и ирландцами, у нас, в Советской России, существует ряд суверенных, независимых республик, которые объединяются в Советской федерации, и объединяются добровольно. Это что-нибудь да значит. Ведь и Англия, разве она не могла бы дать удовлетворение Ирландии? Почему ирландцы ведут жестокую борьбу, вплоть до настоящих сражений с англичанами, а мы с Украиной, Грузией и другими независимыми республиками заключаем единый союз, создаем единое государство? Только потому, что здесь объединяются рабочие и крестьяне различных национальностей, а рабочие и крестьяне свое объединение используют не для целей эксплуатации одного народа другим. Наше объединение есть братское объединение, сплочение сил Советского Союза против общих врагов, а не завоевание сильным народом более слабых. И поэтому когда мы говорим, что защищаем русские интересы, то это не значит, что мы думаем об эксплуатации русскими других национальностей, но вместе с тем мы решительно заявляем, что не хотим, чтобы русский народ был кем-нибудь эксплуатируем...
Этот путь, по которому идет Советское правительство, резко отличается от пути наших белогвардейцев. Если бы они, паче всякого чаяния, оказались у власти – возьмите любого претендента на власть, возьмите самого сильного, располагавшего наибольшими материальными средствами, Колчака или Врангеля, – так вот, если бы они оказались у власти, что бы произошло в теперешней Советской республике? Произошло бы то, что влияние английского и французского капиталов сказалось бы в огромных, еще небывалых размерах...
В этом, товарищи, нет ни малейшего сомнения. И поэтому для честного гражданина нет другого выхода, как работать с Советской властью. Может быть, она топорна, груба, неотесана, еще малокультурна, ибо рабочий и мужик у власти находятся еще недавно и нельзя в год рабочего или крестьянина превратить в человека, привыкшего управлять. Но, товарищи, если мы хотим сохранить русское государство от произвола и эксплуатации со стороны иностранных капиталистов, то это возможно только под советским стягом, под руководством рабоче-крестьянской власти. Все остальные классы, которые управляли этим великим, сильным государством, эти классы ослабели, развратились, их творческая энергия истощилась, история предназначила им сойти со сцены...»
«Надгробная эпитафия, – усмехнулся Мстислав Захарович. – Не рано ли крест ставите?!»
Голоперов вопросительно посмотрел на барина, ожидая его слов. Остапчук в глубокой задумчивости тер кулаком подбородок. Произнес со вздохом:
– Вернуться бы мне... Жена у меня, детишков трое.
– Забыл, как большевикам кровь пускал?! – жестко спросил Голоперов.
– На то война. А теперь покаюсь – может быть, и простят. Калинин-то с Советской властью работать зовет...
«Прямое попадание, – подумал Яропольцев. – Не взрывчаткой, словом ударил». И вслух:
– Пока я и Кузьма здесь – от нас ни шагу! Потом отправляйся на все четыре стороны.