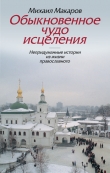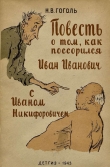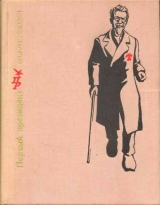
Текст книги "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
3
Сыпной тиф выкашивал колчаковскую армию, беженцев, жителей прифронтовых городов и железнодорожных станций. В Омске были переполнены больными все лечебницы, лазареты, общественные здания, школы. За больными некому было ухаживать, они сотнями замерзали в нетопленных помещениях, на лестничных клетках и в коридорах. Трупы валялись на улице, их оттаскивали с проезжей части к заборам. На вокзале, где скопилось множество эшелонов и было особенно людно, мертвецов собирали с путей и платформ, укладывали штабелями.
В семье Яропольцевых тиф не миновал никого.В лазарет Кузьма больных не повез. Бесполезно. Там быстрей, чем дома, богу душу отдашь. И хозяйка-купчиха отсоветовала. Сами, мол, позаботимся.
Врача удалось привезти только один раз, поэтому купчиха и Кузьма лечили Яропольцевых, как могли: и святой водой, и наговором, и настоем целебных трав. Толк в этом купчиха знала. Утром и вечером пила густо-коричневый от какой-то травы самогон, и Голоперову выдавала в день пять стаканов этой отравы. А на закуску – лук и чеснок.
– Пей! Через силу, но пей, – говорила хозяйка, сама не протрезвлявшаяся ни на час, переставшая готовить обед, нечесаная и грязная, похожая на косматую ведьму. Только и делала, что возилась со своей настойкой.
Может, помогло зелье купчихи или так уж на роду было написано, только ни она, ни Кузьма тифом не заболели, хотя заразная вошь кусала их не меньше других. И Яропольцев перемог хворобу. А Галина Георгиевна и оба сына, как слегли вместе, так и померли в один день 13 ноября.
– Успокоились, – перекрестила их купчиха. Кузьма разыскал в сарае доски, взял инструмент.
Намерился гроб сколотить. Работа непривычная, да кого же попросишь? Только успел пилой провести – прибежал из штаба рыжеусый вахмистр Остапчук:
– Приказано господина полковника вакуировать.
– А что так приспичило?
– Красная разведка в десяти верстах.
– Чеши язык-то!
– Стрельбу слышишь? Это рабочие на заводе бунтуют. Наши бегут все. Арестантов постреляли, а сами за чемоданами. Дежурный к вам послал. Ежели до вечера не вакуируем – каюк!
– На чем ехать-то?
– Как смогем. Шевелись веселей!
С горя хватил Кузьма еще стакан коричневого хозяйкиного зелья. Угостил вахмистра и начал соображать, что делать. Гробы сколачивать некогда.
Распахнул ворота, встал у столба. Брели по улице женщины с узлами. Прошел взвод офицеров-каппелевцев, вооруженных винтовками. Над крышами розовато светилось небо, широким пологом наплывал дым с пожарищ.
Появилась зеленая двуконная повозка. Голоперов, ни слова не говоря, взял коня под уздцы, повел во двор. Пожилой солдат-возчик в грязной мятой шинели нехотя слез на землю.
– Господин прапорщик, не дозволено.
– Что здесь у тебя?
– Энти... Боеприпасы.
– Сваливай к чертовой матери! Бери сено в сарае, стели, – распорядился Голоперов.
Сам – бегом на второй этаж.
Мстислав Захарович Яропольцев был настолько обессилен болезнью, что почти не стонал, когда Голоперов и вахмистр одевали его, натягивали сапоги, китель и полушубок. Кузьма порадовался: лоб у Яропольцева не горячий, на спад хворь пошла...
– Голову ему забинтуй али шею, – посоветовал вахмистр. – Скажешь, что раненый. С тифом в вагон не возьмут.
Голоперов достал марлю, закрутил ее вместо шарфа, опластал голову. Сверху насунул ушанку.
До вокзала доехали без помех, но на железной дороге творилось такое, что Кузьма растерялся. Тысячи людей пытались пролезть, протолкаться, пробиться к вагонам. Перрон был оцеплен плотным строем солдат. Возле вагонов мельтешили белочехи, еще какие-то чужаки и почти не было русских.
– Эти смоются, а нас шашками посекут, – уныло сказал вахмистр. Слова его будто подхлестнули Кузьму. Не пропадать же, действительно, здесь вместе с барином!
– Жди! – велел он, а сам отправился разыскивать кого-нибудь из начальства.
В дальнем конце станции ему удалось незаметно нырнуть под вагон и миновать оцепление. Приглядывался, к кому обратиться, чтобы наверняка. Наконец увидел двух офицеров. Один иностранец – высокий и тощий. У второго на рукаве бекеши выделялась нашивка: красное поле и скрещенные пистолеты. Отличительный знак боевой Ижевской дивизии.
– Господин капитан, я от полковника Яропольцева.
– Отстань! – махнул рукой ижевец.
– Полковника нельзя бросить...
Ижевец шагал, не слушая. Высокий иностранец повернулся к прапорщику.
– Господин Яропольцев? Мстислав э-э-э...
– Мстислав Захарович, так точно! – заторопился Кузьма. – • В повозке он. Вакуировать надо.
– Что с ним?
– Ранен. В шею и в голову. Но уже поправляется, – самозабвенно врал Голоперов.
– Полковника оставить не можно, – четко произнес иностранец. Капитан неохотно козырнул ему.
Два солдата-ижевца растолкали толпу, помогли перенести Яропольцева к эшелону.
В пассажирском вагоне было не холодно и не очень тесно. Здесь лежали раненые офицеры, приходили греться те, кто озяб в оцеплении. Для полковника нашлось место на нижней полке. Голоперов и вахмистр, обрадованные удачей, устроились возле него на полу. Когда поезд тронулся, Яропольцев приоткрыл глаза:
– Где я?
– Все в порядке, ваше высокоблагородие, – успокоил Кузьма. – Вот водички испейте.
Яропольцев сделал несколько глотков и вновь погрузился в глубокий сон.
Поезд с ижевцами за ночь отмахал километров сто. Это был один из последних эшелонов, ушедших из Омска. На рассвете город заняли передовые подразделения 5-й армии, которую вел молодой командарм Михаил Тухачевский.
4
Два года молодая республика вела непрерывную борьбу с внутренней контрреволюцией и зарубежными интервентами. Два года истощались экономические ресурсы, и без того подорванные мировой войной. Самые преданные революции рабочие и крестьяне, самые сознательные, закаленные в политических схватках, уходили на фронт и многие не возвращались оттуда. На заводах и фабриках почти не осталось старых кадров, в деревнях – сельских большевиков, активистов. Их места занимала молодежь, не имевшая опыта, а иногда люди случайные, карьеристы и даже противники новой власти. В некоторых городах и уездах вновь подняли головы эсеры и меньшевики, вели свою пропаганду, спекулируя на трудностях, которые переживала страна.
Особенно остро почувствовал это Калинин, когда приехал в Иваново-Вознесенск. Казалось бы: пролетарский город, пролетарская губерния, так много сделавшая для революции! Месяц за месяцем одевали ивановские ткачи Красную Армию. Отправили на фронт многие тысячи добровольцев. В самые трудные моменты по партийной мобилизации посылали в бой своих коммунистов. И вот, наверное, все это, вместе взятое: и голод, и длительное перенапряжение, и отсутствие испытанных кадров – все сказалось теперь, в феврале двадцатого года.
Знакомясь с постановкой советской работы, Михаил Иванович почувствовал у руководящих товарищей на местах какую-то вялость, усталость. И выступление на собрании трудящихся не принесло Ка-липину удовлетворения. Выслушали его без особого интереса, похлопали и разошлись.
Михаил Иванович насторожился: почему не оказалось контакта с людьми? Уже не допустил ли какую-нибудь промашку? На следующий день он должен был выступить на губернской конференции беспартийных крестьян. Решил подготовиться особенно тщательно. Совсем недавно, на Первом Всероссийском совещании по партийной работе в деревне, Владимир Ильич Ленин отметил деятельность Михаила Ивановича по укреплению союза рабочего класса и крестьянства. Он так и сказал: «Выбор товарища Калинина Председателем ВЦИК исходил из того расчета, что мы должны непосредственно сблизить Советскую власть с крестьянством. И благодаря товарищу Калинину работа в деревне получила значительный толчок. Крестьянин, несомненно, получил возможность более непосредственного сношения с Советской властью, обращаясь к товарищу Калинину, который представляет в своем лице высшую власть Советской республики».
Приятно было Михаилу Ивановичу узнать о такой оценке, она окрылила его. Хотелось работать еще лучше, еще энергичнее.
На этот раз Калинин пришел в зал до открытия заседания, когда появились: лишь самые первые делегаты. Послушал, о чем толкуют крестьяне. Сразу уловил эсеровские настроения. Вот, дескать, в Советах одни большевики позасели, всех мужиков хотят в коммунию согнать. Душат крестьян продразверсткой, чтобы рабочих кормить, а мужику-то от этого какая выгода?!
Свернул самокрутку, чиркнул спичкой. Рядом остановился крестьянин с курчавой черной бородой. Хитроватые глаза глубоко запрятаны под густыми бровями.
– Эй, земляк, не пожалей серника. – И, прикуривая у Калинина, добавил: – Богато живешь. У нас в деревне этого чуда с самой революции нет. Как в старину, кресалом огонь добываем. Вот какая жизнь в Совдепии. Без спичек, без соли, без керосина теперь сидим.
– Трудно, – сказал Михаил Иванович. – Война. . – А на кой ляд она, война эта?
– А ты что, ждешь, чтобы белые воротились?
– По мне, хоть белые, хоть красные, хоть зеленые – один черт. Ярмо нам на шею.
– Так какая же тебе власть требуется? Ты сам-то инаешь?
– Почему не знаю, – обиделся бородатый. – Справедливая власть нужна, чтобы без всякого грабежа. Земля крестьянская? Крестьянская. Нашей кровью и нашим потом политая. Мы на ней будем хлеб растить, леи, овощ всякую. Мы свой товар в город, а город нам ткани, машины. И электричеству можно. Баш на баш, без обиды. А бездельников, которые на мужицкой шее сидят, нам не надобно. И чтобы никто порядок этот не нарушал, в хозяйство крестьянское не лез. Сами управимся. Умные люди пущай наукой интересуются, учителя наших детей учат, фельдшера от болезней лечат, милиция воров за решеткой держит. Вот и пойдет равная жизнь у всех мужиков.
– Да ведь мужик мужику рознь.
– Слыхали мы эту песню. Есть мужик работящий, а есть лодырь. Вот и весь сказ. Лодырь пущай в город подается, в городе бесталанным всегда дело есть. Дороги мести, ящики таскать, мусор выгребать. А хочет в деревне остаться, пущай справному мужику помогает.
– Батрачит? На кулака шею гнет? Какая уж тут равная жизнь! Нет, Советская власть с этим не согласится.
– Ишь ты, – сердито блеснули глубоко посаженные глаза. – Тогда на кой ляд хозяйственному мужику такая власть?
– Верно. Кулаку наша власть поперек горла. Он ведь как хотел? До революции помещик и кулак среднего мужика грабили, а теперь кулак за двоих грабить нацелился. И за себя, и за помещика. А Советская власть ему говорит: стой, эксплуатировать не позволим!
– Советская власть сперва бы о спичках позаботилась, о керосине.
– Спички рабочий делает. Его накормить надо, потом и спрашивать...
Разговор этот заставил Михаила Ивановича несколько перестроить свой доклад. О международном положении можно и поменьше, это сейчас не первостепенное. Основной упор на обстановку в стране. Главный удар нанести по эсерам, по эсеровским настроениям.
Открыл конференцию председатель Ивановского горсовета. Человек уважаемый, старый рабочий. Но сразу после него поднялся на трибуну тот самый крестьянин, с которым спорил Калинин, бойко зачитал список кандидатов в президиум. Ни председателя горсовета, ни Калинина в списке не оказалось. Это был явный выпад против Советской власти. И только после того как президиум был избран и занял свое место за столом, в первом ряду поднялся кто-то и начал говорить, что в зале сидит Председатель ВЦИК, что избрать его надо было первым, а так получается непорядок и безобразие.
Делегаты зашумели, оглядываясь, поднимались с мест.
– Калинина просим!
– На сцену его!
– Чего сразу-то не объявили!
Дружно взметнулись руки: Председателя ВЦИК единогласно выбрали в президиум.
Михаил Иванович остановился возле трибуны, поправил очки, спросил, обращаясь к делегатам:
– Как же это получается так? Ваш съезд происходит в губернии, где по крайней мере семьдесят процентов населения составляют рабочие и крестьяне, работающие на фабриках. Да и собрались-то вы в помещении, которое вам гостеприимно предоставили рабочие организации. А вы не избрали представителя ивановских рабочих в свой президиум.
Из зала донеслось:
-Мы сами по себе!
– На кой ляд!
– А ты чего учишь?! Чего учишь?! – орал кто-то, размахивая руками.
Михаил Иванович чувствовал: конференция эта готовилась тщательно и отнюдь не сторонниками Советской власти. Но все же основную массу делегатов составляют середняки, такие же, как в его родной деревне, – неужели он не найдет с ними общегоязыка?!
– Крестьянин и рабочий – два родных брата, – продолжал Калинин. – Я сам являюсь крестьянином, но я не боюсь никаких «ужасов» коммунизма, о которых нашептывают вам враги народа. А мое хозяйство, пожалуй, не хуже, чем хозяйство многих из вас. И все-таки я за коммунизм, за прочный и нерушимый союз крестьян с рабочими. А вы вдруг чего-то испугались и выразили черную неблагодарность, грубое неуважение к одному из лучших отрядов российского пролетариата... Я думаю, товарищи, вы пересмотрите свое глубоко ошибочное решение!
Что оставалось делать эсеру, который вел заседание? Только одно – поставить внесенное предложение на голосование. Он и поставил, хоть и с явным нежеланием, заметно нервничая.
Значительное большинство делегатов поддержало Калинина. Представители рабочих заняли места за столом президиума рядом с крестьянами. Первая цель была достигнута. Но Михаил Иванович видел: перелом в настроении делегатов еще не наступил. Длинными речами их не переубедишь, надо сказать что-то простое, понятное всем. Он искал эту емкую фразу, отвечая на многочисленные записки, на острые, иногда провокационные вопросы. Отвечал спокойно и вроде бы убедительно. И все же это было еще не то.
Новая записка: «А кто дороже для Советской власти – рабочий или крестьянин?»
Сразу вспомнился вечерний разговор на бревнах с мужиками в Верхней Троице... И с Анной Алексеевной Бобровой.
Михаил Иванович улыбнулся впервые за все заседание. Люди смолкли, насторожились, удивленные этой улыбкой, столь необычной в напряженной атмосфере, среди резких споров и злобных выкриков.
– Вот тут задают вопрос, кто дороже Советской власти – рабочий или крестьянин? Это очень важно, товарищи, И вот я в свою очередь хочу спросить: а что дороже для человека, для каждого из нас – правая нога или левая?
Сказал и умолк выжидающе. Секунду, другую в зале было тихо. Потом раздались одобрительные возгласы. Кто-то громко и неумело захлопал в ладоши...
Впереди была еще большая работа, требовалось убедить сомневающихся, опрокинуть доводы врагов, рассказать людям о планах Советской власти. Труда предстояло еще приложить много, однако главное, пожалуй, было уже сделано: взаимное понимание достигнуто.
Глава девятая
1
Узнав, что Михаил Иванович отправляется в Петроград, жена сказала:
– Поеду с тобой. Давно там не была. Родню навестить надо.
– Может, в другой раз?
– Почему?
– Время неудачное выбрала. В Питере на заводах неспокойно, В Кронштадте тоже.
– Конечно, – повела плечами Екатерина Ивановна, – сейчас ты начнешь объяснять мне, что в эти дни перед самым съездом Троцкий и Шляпников навязали партии дискуссию. Силы и нервы на это тратятся. Троцкий даже требует военные методы на производстве ввести...
– Зачем же объяснять, сама все знаешь. И должна понять: поездка предстоит трудная.
– Тем более, глядишь, и помогу в чем.
– Ладно! – улыбнулся Михаил Иванович.
Все естественно: соскучилась Екатерина Ивановна по родственникам и знакомым. Собиралась в дорогу, словно на праздник. И первые дни в Петрограде так была занята, что Михаил Иванович почти не видел ее, тем более что и у самого время было распределено но минутам.
26 февраля он выступил с речью на расширенном пленуме Петроградского Совета. На следующий день сделал доклад о текущем моменте в Петроградской морской базе. Затем – выступление перед рабочими завода «Новый Лесснер». И каждый раз Михаил Иванович не только говорил сам, но и внимательно слушал других ораторов, беседовал с рабочими, с партийными руководителями, с военморами. Эти беседы еще и еще раз убеждали его в том, что республика переживает переломный момент.
Гражданская война закончилась почти всюду. Настало время заняться экономикой, которая пришла в полный упадок. Специалисты подсчитали, что промышленность в 1920 году дала продукции почти в семь раз меньше, чем в довоенные годы. Наполовину снизилось поступление сельскохозяйственных продуктов.
Один рабочий на заводе Лесснера сказал Калинину: «Может быть, лучше жить по-старому, старое было вовсе не так плохо – в царское время я все-таки мог получить белую булку, а теперь мы и этого не получаем...» Понятно, люди устали в долгой и трудной борьбе, настолько устали, что иные начали терять веру в свои силы. Это в городе. А в деревне до крайности обострилось недовольство продразверсткой.
Надо искать выход из трудного положения, прокладывать новые пути развития экономики. Этим озабочен сейчас Владимир Ильич. А «рабочая оппозиция» и «левые коммунисты» осложняют выработку новой экономической линии, накаляют и без того напряженную обстановку.
Из Кронштадта пришло сообщение, что 28 февраля общее собрание команды линкора «Петропавловск» приняло резолюцию, призывающую переизбрать Советы. И не только переизбрать, но не допустить в них коммунистов. Кроме того, разрешить свободную торговлю.
Хитро было задумано. Против Советов народ не поднимешь, так давай выхолостим их суть, вынем, так сказать, сердцевину и наполним своей начинкой. Тут действовали не столько матросы, сколько опытные политиканы, стоявшие за их спинами.
Михаил Иванович велел сообщить в Кронштадтский Совет, что 1 марта он приедет в крепость на митинг. Чтобы лучше познакомиться с положением дел, пригласил к себе вечером Ивана Евсеевича Евсеева и Федора Демидочкина.
Последний раз видел их Калинин давно, в день взрыва на Заречной водопроводной станции, однако Евсеич за минувшее время нисколько не изменился: та же неторопливость, основательность. Даже одежда прежняя: длинная кожаная тужурка, кепка, хорошо начищенные сапоги.
А вот Федора трудно было узнать. Калинин помнил его долговязым, сутулым, с короткими волосами. А теперь – высокий военный моряк с хорошей выправкой, с уверенными движениями.
– Ишь, молодежь-то растет, – улыбнулся Михаил Иванович. – Помощники нам. Ну, садись, рассказывай, где был, что делал?
– Служил, – скупо ответил Федор. – С Юденичем воевал.
– А сейчас?
– Сдал в машинной школе экзамен.
– Учиться успеваешь – это похвально. А в Кронштадт часто наведываешься?
– Нет. С рождества не ездил. Не тянет туда. Дружки мои по всей стране разлетелись, на фронтах полегли. В крепости одни новички последних лет, которые ни моря, ни революции по-настоящему не видели. Жоржики там, клешники, шантрапа всякая.
– Откуда такие?
– Раньше, Михаил Иванович, на флот либо грамотных брали, либо со специальностью. К тому же еще обучали целый год. Народ был сообразительный, с содержанием, поэтому и революцию сразу понял. А с восемнадцатого года на корабли добровольцы пошли, кто хочет, тот и лезет. Лишь бы формой покрасоваться. Вот и заполнилась крепость шелухой. И неграмотных много, которые из деревни. Разные агитаторы их обрабатывают, каждый в своем духе.
– Неужто все такие?
– Хорошие моряки есть в минном отряде. И на некоторых кораблях. Только верховодят не они. «Бывшие» там пригрелись, генерал Козловский, полковник Соловьянов, их помощнички: эсеры, меньшевики, анархисты. Но эта явная контра тихой сапой действует. В глубине скрывается, а на поверхности разный сброд по ее наущению воду мутит. Задушили, дескать, коммунисты мужика, продразверсткой страну разорили, Советскую власть губят...
– О Советах пекутся, значит, – усмехнулся Михаил Иванович. – А партийная организация в Кронштадте куда смотрит?
Федор пожал плечами: этого, мол, я не знаю. Вместо него ответил Евсеев:
– Там Лазарь Брегман секретарь комитета. Вы, безусловно, знакомы с ним, он давно в крепости. Один остался из старого руководства. Влиянием пользуется, но коммунистов мало. И комсомольская организация за год дважды в полном составе уходила на фронт, потом создавалась заново.
– Брегмана помню. А начальник политотдела Кронштадтской базы?
– Громов теперь. Боевой товарищ, бывший подпольщик. Однако людей еще не знает. Вчера в Ораниенбауме я разговаривал с ним. Они там в Кронштадте не очень встревожены. Пошумят, дескать, военморы и успокоятся.
– А резолюция переизбрать Советы?
– По форме она вроде бы ничего, Михаил Иванович. За Советы, против капиталистов. За равенство, братство...
– Вот именно, что по форме, – заволновался Калинин. – А по содержанию она мало сказать контрреволюционная, она подкапывается под самую основу революции, она против нашей партии направлена. Советы без коммунистов им нужны, понимаете? Значит, Советы с эсерами и меньшевиками. Такая резолюция всем нашим врагам лучший подарок. По существу, это открытое наступление против партии.
– Наши товарищи в Петрограде так не считают, – возразил Евсеев.
– Вот и скверно. Фронтов вокруг нет, бдительность притупилась. А ведь Кронштадт – ключ к Петрограду, капиталисты ничего не пожалеют, чтобы этим ключом овладеть.
– Руки у них коротки, – сказал Федор,
– Руки у них очень даже длинные. Лед растает, пришлют в залив свои военные корабли, а кронштадтцы по этим кораблям стрелять не станут, тогда как?
– Плохо получится.
– То-то и оно! Ладно, дорогие мои, завтра вместе в крепость поедем, там и посмотрим...
Едва простился с гостями – вернулась из города Екатерина Ивановна.
– Миша, по всему Питеру слухи ползут: в Кронштадте коммунистов бить собираются.
– Это мне известно.
– Может, не поедешь?
– То есть как это не поеду?! Непременно поеду!
– Тогда и я с тобой, – решительно сказала она.
– А слухи-то?
– Тем более. Разве я тебя одного на такую страсть отпущу? Ты только Советскую власть защищать умеешь, а для себя пальцем не шелохнешь!
– Гляди, какая воительница!
– Да уж, в обиду не дам! – Она произнесла это столь грозно, что Михаил Иванович засмеялся и подумал: а почему бы и не взять? Меньше официальности, побольше простоты – хуже не будет.
На следующий день поезд доставил их в Ораниенбаум. Возле вокзала ожидали двое саней, присланных из Кронштадта. У возчиков под теплыми романовскими полушубками виднелась флотская форма.
Выехали на обдутый ветрами лед Финского залива. Лошади шли осторожно. Погода последние дни держалась безморозная, лед сверху начал подтаивать. Кое-где виднелись трещины, поверх которых лежали доски или специальные щиты.
Кронштадт грозной темной громадой высился впереди, за белесой ледовой равниной.
Михаилу Ивановичу надоело в санях, он вылез и пошел рядом с лошадью. К нему присоединились Евсеев и Федор Демидочкин. Поснимали тулупы, прикрыли ими Екатерину Ивановну – она подремывала в тепле.
– А помните, Михаил Иванович, как мы с вами четыре года назад встретились? – спросил Иван Евсеевич. – До этого долго не виделись. Безусловно, с самого Ревеля.
– Да, с Ревеля, – подтвердил Калинин. – А ведь в одних и тех же тюрьмах сидели, только в разное время или на разных этажах.
– Я вас тогда на вокзале даже не признал сперва...
– Да и я тоже. Помнил тебя матросом, а тут солидный гражданин в кожанке, на обер-мастера смахивает, – Михаил Иванович прикурил на ходу. – Я в начале семнадцатого года на нелегальном положении был. Под фамилией Лорберг скрывался – это Екатерины Ивановны девичья фамилия. Товарищи помогли устроиться в инструментальную мастерскую около Финляндского вокзала. Двадцать седьмого февраля, хорошо помню, пришел в мастерскую, а там страсти кипят! Никто не работает, кое у кого оружие появилось... Айда, мол, вокзал захватывать. Двинулись все, и я с ними, конечно. И радостно мне, и тревожно очень. На вокзале-то охрана, перебить могут, но остановить нельзя, порыв большой... Тут как раз Волынский полк подошел. Смешались солдаты с рабочими. Охрану вокзала разоружили в два счета. А дальше что делать? Солдаты кричат: «Где вожаки? Ведите нас!» А я сам в нерешительности, еще не знаю, куда может направиться эта сила и что сейчас, вот здесь, поблизости, можно сделать? Несомненно одно: надо, не теряя ни минуты, направить людей на борьбу, ибо вся масса ждет действия. И тут меня словно осенило. Поднялся я повыше, крикнул: «Если хотите иметь вождей, то вон рядом «Кресты». Вождей надо сначала освободить...»
– Тут я вас и увидел, – вставил свое слово Иван Евсеевич. – Вернее, услышал. Голос показался знакомым.
-Да, – кивнул Калинин. – Сами стареем, но голоса-то прежние остаются.
– Через толпу к вам пробился. А тут уж начали на отряды делиться. Только парой фраз перемолвились, и сразу я с отрядом к военной тюрьме побежал.
– А я в «Кресты». По старой памяти потянуло.
– Четыре года всего прошло, а кажется – век миновал!
– Это потому, Евсеич, что событий много было. Иной человек и за сто лет не переживет, не изведает столько мук и столько радостей, сколько выпало нам за короткий срок.
– Я тем не завидую, безусловно, которые потихоньку да помаленьку...
– Я тоже, – сказал Михаил Иванович.
Сани со скрипом въехали на обледеневший деревянный настил, под которым парила черная вода. Калинин увидел трещину, извилисто рассекавшую ледяное поле. Сказал с тревогой:
– Скоро залив очистится. Иван Евсеевич понял его:
– Месяц еще, может с гаком, а потом к крепости не подступиться. Быстрее матросскую бузу кончать надо.
– Пожар легко в самом начале тушить, пока пламя слабое.
До Кронштадта оставалось не больше километра. Лошади, почувствовав близкий отдых, пошли веселее. Михаил Иванович боком повалился в сани.
Возле Петроградских ворот их остановил караул – не меньше десятка матросов с пулеметом. Смуглый, цыгановатый военмор внимательно прочитал мандат Председателя ВЦИК, бросил резко:
– Ждать!
И скрылся в деревянной караульной будке. Матросы топтались возле саней, с любопытством разглядывали приезжих. Ребята все были молодые, мордастые, неподогнанная форма сидела на них мешковато.
– Слыш-ка, – сказал один, показывая глазами на Екатерину Ивановну, – со своим самоваром приехал...
– А чо? Коммунист – барин, ему все дозволено. Цыгановатый моряк хлопнул дверью будки, распорядился:
– Валяй дальше. Матросы нехотя расступились.
– Видели? – наклонился к Калинину Евсеев. – Парни вчера только из деревни, податливый материал. У них, безусловно, одни обиды на уме: коммунисты мужика грабят, торговать нельзя, керосина нет...
Михаил Иванович не ответил, только поморщился: до чего же наболели эти вопросы! Решать их надо без всякой задержки. Сама жизнь требует ввести новую экономическую политику.
– Тпру, залетная! Прикатили! – Возница осадил лошадь возле длинного трехэтажного здания, где размещался Кронштадтский Совет.