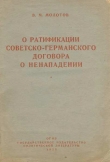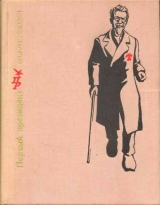
Текст книги "Первый президент. Повесть о Михаиле Калинине"
Автор книги: Владимир Успенский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Разглядывала долго, внимательно, улыбаясь и смахивая набегавшие слезы.
– Очень изменился? – спросил Калинин.
– Нет, нет, все такой же!
– Как в первом классе?
– Ну, не как в первом... Как в выпускном! – засмеялась она.
– Сколько с той поры воды утекло!
– Много, Мишенька, много! По всей округе – везде теперь бывшие мои босоногие. И помню их всех. Почти всех, – уточнила она. – Иногда прихворну осенью: холод, распутица, одиночество. Тоска подступает – зачем жизнь прошла? А как подумаю о вас, о детишках своих... Ой, да что же это я тебя баснями-то кормлю!
Накрыла стол старенькой чистой скатертью, ветхой на сгибах. Задумалась на секунду, шевеля губами. Лицо, как прежде, красивое, гордое, только морщин стало много, да белые пряди светятся в густых, гладко причесанных волосах. Кивнула Михаилу, вышла в сени. Калинин оглядел маленькую комнату. Кровать, полка с книгами, ученические тетради на этажерке. Потрескавшийся глобус...
– Вот, Миша, – смущенно улыбнулась Анна Алексеевна, стирая пыль с большой черной бутылки. – Сливянка у меня, давно берегу для особого случая.
– Спасибо, только ведь я капли в рот не беру.
– Да уж причина-то больно веская: за новое назначение твое, за государственные успехи. По одной рюмке можно.
– Куда денешься, если учительница велит, – развел руками Калинин.
– Не сваливай, не сваливай, сам виноват. А к нам-то случайно или по делу?
– Да как сказать... Не укоренился я еще в новом звании. Сам порой удивляюсь. Вот и захотелось к своим, в деревню. Посмотреть: наши-то мужики одобряют или сомневаются во мне?
– Люди довольны. Знают ведь тебя, Миша.
– Странно даже. Встретили, будто ничего из ряда вон выходящего не произошло.
– Всей жизнью своей ты подготовлен к такой работе. Поэтому люди, знающие тебя, воспринимают твое назначение как должное.
– Спасибо, – негромко произнес он.
– Миша, я хочу спросить тебя. Говорят по деревням, что Советская власть рабочими создана и для рабочих служит. А крестьяне для новой власти вроде бы пасынки или даже крепостные, чтобы хлебом кормить. Ко мне люди обращаются: кто, дескать, для коммунистов важнее?
– Как раз вчера наши мужики в Верхней Троице об этом со мной толковали.
– И до чего же вы дотолковались? У Калинина весело блеснули глаза.
– Какая нога человеку дороже, Анна Алексеевна? Правая или левая?
– Обе одинаково дороги, о чем тут говорить.
– Вот так и крестьяне с рабочими для Советской власти.
– Хорошо, Миша. Теперь я знаю, что отвечать.
– Главное просто – каждый поймет.
– А простое – это и есть самое трудное, самое крепкое и самое вечное, – заключила Анна Алексеевна.
5
В короткие ночи некогда спать соловьям. От вечерней до утренней зари без устали пели соловушки на краю затихшего леса, по берегам Медведицы, в густой непролетной чащобе, спасавшей от любопытного глаза, от крупных птиц-хищников.
Выманили соловьи Михаила Ивановича из дома задолго до рассвета. Взял он палочку и пошел не спеша знакомыми тропками по туманному лугу, по темному таинственному лесу. Прислонившись к березе, слушал сонный лепет молодой листвы. Ухо улавливало тихий, но непрестанный шорох – это сквозь прошлогоднюю сухую листву пробивались повсюду острые травинки.
Возле ног, сердито пофыркивая, пробежал ежик. Высоко на соседнем дереве забормотала спросонок птица – наверно, сорока. А соловьи перед рассветом возликовали с новой силой, будто хотели перещеголять друг друга. Особенно старался один в кустах над ручьем. С короткого зачина сразу рассыпался хрустальным горошком с нежными переливами, с едва приметными переходами, а кончал трель перезвоном маленького серебряного колокольчика.
Михаил Иванович поднялся на холм. Чуть-чуть ,,, посветлело, незаметно исчез, истаял туман над рекой.
К соловьям присоединилась варакушка, завела звонкую замысловатую песню на разные голоса, подражая то скворцу, то малиновке. Четкой, веселой руладой ответил ей с вырубки зяблик. В глухом овраге подала голос зорянка.
Темные сосны на гребне холма вдруг посветлели все в одно мгновение, обрели краски. Кроны стали розовато-зелеными, сквозь хвою зажелтели стволы. Лучи солнца ослепительным потоком хлынули из-за горизонта, и сразу широко открылась взору родная земля: просторная, многоцветная, радостная, знакомая до каждого бугорка.
Сколько страданий и бед видели эти милые сердцу края! Сколько преждевременных могил оставалось здесь каждый раз после отражения вражеских нашествий! Сколько было пожаров, руин! Смертоносными волнами прокатывались голодовки и эпидемии, сметая целые деревни. Надев солдатскую форму, уходили отсюда на дальние рубежи государства хлеборобы-крестьяне, которые ласкали и лелеяли эту землю и которых одаряла она своими плодами. Уходили большие тысячи, а возвращались немногие. Вместо погибших поднималась и крепла новая поросль, вскормленная неизбывными соками благословенной земли.
Много мужиков унесла мировая война, много их гибло сейчас на войне гражданской, а жизнь шла дальше своим чередом, обновляясь вновь и вновь с неотвратимой последовательностью, спокойно, без злобы восполняя урон, залечивая раны, но не забывая о них, извлекая уроки из прошлого. И тем, кто не ощущал себя частицей этой непрерывной цепочки свершений, частицей природы, кто не имел глубоких корней, не воспринимал горе и радость своей деревни, своего города, своей страны как личное горе и личную радость, кто не был слугой и хозяином этой земли, тому трудно было обрести ясную цель, тому негде было черпать уверенность, силу и доброту, необходимые в борьбе за лучшее будущее.
Взволнованный своими мыслями, Михаил Иванович долго еще ходил по лесу и полям. Возвращаясь домой, неподалеку от деревни, прилег отдохнуть на прогретой солнцем опушке и незаметно задремал под ровное, убаюкивающее гудение шмелей.
Проснулся от какой-то неожиданной, неосознанной радости. Сердце забилось сильнее. Услышав шорох, открыл глаза и прямо над собой увидел глубокую удивительную синеву и только потом – улыбающееся юное лицо, а затем небо, такое же глубокое и синее, как очи склонившейся над ним девушки. От нее пахло хлебом, цветами и свежестью.
Он боялся шевельнуться: вдруг это лишь продолжение сна и чудо исчезнет! Но девушка произнесла негромко, почти шепотом:
– Марь Василька тревожится, я и пошла... Да рази вас сразу найдешь?! – От быстрой ходьбы или от волнения она дышала часто, прерывисто, на шее пульсировала голубая жилка. – Марь Васильна молока послала. И хлеба. А может, воды вам? Я мигом!
Она вскочила и унеслась. Михаил Иванович едва успел приподняться на локте, как девушка снова была рядом. Осторожно опустилась возле него на примятую траву, подала полную кружку:
– Вот... Из родника...
Счастливый и благодарный, он до самого дна выпил чистую холодную воду.
6
Две пары сапог имел Василий Васильевич Голоперов. Одни – добротные, яловые – хранил для себя, надевал лишь по праздникам. Другие же – тонкие, хромовые, с блестящими новыми калошами к ним – выменял в позапрошлом году за сало у голодных беженцев и берег для Кузьмы, чтобы щегольнул сын на свадьбе.
О сапогах подумал Василий Васильевич после разговора с мужиками. Пришли они к бывшему старосте с просьбой: в Кощинскую волость, дескать, что в соседнем уезде, приедет на днях из Москвы главный хозяин Советской власти, будет толковать насчет дезертиров и крестьянских жалоб. Желательно, чтобы и Василий Васильевич при том присутствовал, а после в деревне всех просветил. Поэтому всем селом просят его отправиться туда ходоком.
Честь была приятна, да и самому любопытно поглядеть на главного председателя.
Однако Василий Васильевич заартачился: трава подошла, косить пора, а он пробегает по чужим волостям золотое время. Мужики заверили: сами уберут его делянку.
Тут бы и отправиться на важнейший разговор в хорошем пиджаке, в новом картузе да в крепких сапогах. Но жизнь настала какая-то непутевая: чем лучше одет человек, тем подозрительнее на него смотрят. Поэтому надобно держаться незаметно, в тени. Василий Васильевич надел ситцевую рубаху, выбеленную солнцем и соленым потом, а на ноги – легкие лапти, хоть и поношенные, но еще вполне аккуратные.
По перволетью, по сухой погодке дорога показалась недлинной. В Кощинскую волость пришел он под вечер, переночевал у знакомого мужика, а утром поспешил в волостное правление, чтобы занять местечко хоть и не на виду, да получше.
Народу в просторную избу набилось столько, что, того гляди стены не выдержат. Вдвое или втрое больше стояло на улице под открытыми окнами и возле двери.
Калинин прибыл на тарантасе. С ним прикатили еще человек пять начальников из уезда и из Смоленска. Осмотревшись, Калинин первым вошел в избу, поздоровался с мужиками. Голос его звучал сухо. Под стеклами очков – строгие, неулыбчивые глаза. Заговорил сразу, но медленно и вроде бы без охоты:
– Товарищи! Я приехал услышать от вас, как вы живете. Сейчас вы каждую просьбу можете сразу довести до самого центра, а когда я уеду, то сделать это будет уже труднее. Я просил бы заявлять все претензии: что, с вашей точки зрения, есть плохого в Советской власти. Я со своей стороны должен заявить вам претензию: я считаю, что крестьяне Кощинской волости ведут в высшей степени противную другим крестьянам политику. Я уже объехал много губерний, но нигде я не видел столько дезертиров, как у вас. Бывают губернии с десятью процентами, двадцатью процентами, а у вас, судя по тем сведениям, которыми я располагаю, дезертирство доходит до девяноста процентов. Я заявляю, что это – прямое издевательство над другими крестьянами. Почему-то тверское крестьянство должно жертвовать, чтобы биться с Колчаком, а вы как будто другим миром мазаны или на другой земле живете. Если вам тяжело, то и другим тоже не легче. Сохранять свою шкуру, прятаться в кустах в то время, когда другое крестьянство умирает, – это самая большая подлость, какая только может быть, и я заявляю, что центральная власть церемониться не будет. Насколько мы идем вам на помощь во всем, что только в силах сделать, настолько мы будем жестоко расправляться с теми, кто хочет прятать свою шкуру. Вот ваш помещик Оболенский, он не сидит здесь, а участвует в войне на стороне Деникина, чтобы отвоевать опять свои земли...
(«И наш Мстислав Захарович где-то сейчас страждается, и Кузьма с ним, – подумал Василий Васильевич и вздохнул: – Ох, грехи наши тяжкие...»)
– Возьмите Деникина: у него много денег, и он мог бы спокойно сидеть в Париже и не рисковать ничем. И другие помещики тоже не прячутся в кустах; а вы не понимаете, что если возвратятся помещики, придет Деникин, то он вытащит вас из всякого темного угла... – Калинин сделал паузу. – Я спрашиваю: какие причины заставляют вас выступать против крестьян и рабочих России? Может быть, у вас негодные люди в исполкомах, вы об этом заявите, – это можно исправить. Но ваша обязанность – притянуть каждого человека к работе. Вы помните басню, в которой лошадь не хотела помогать везти ослу, а когда осел пал, то всю кладь пришлось переложить на лошадь. И я боюсь, когда люди сейчас прячутся от работы, как бы им потом не пришлось перенести на себе всю кладь...
Тощий, небритый крестьянин с узким лицом сказал уныло:
– Есть нечего совсем. А если где купишь, то привезти нельзя. И земля не вся засеяна...
Едва он умолк, выступил вперед один из тех людей, которые стояли возле Калинина. По избе пронесся одобрительный шум: «Белокопытов! Из волостного Совета... Он им выложит!»
Белокопытов начал, заметно волнуясь:
– Нам Председатель ВЦИК сказал, что позорный факт, что дезертирство огромное. Но ищутся ли причины, обусловливающие этот позорный факт? К нам являются представители местной власти и центральной власти в виде следствия, а причины этого факта никто не ищет. Месяц назад был представитель губернии и задавал вопросы: какие порядки, какие недочеты? Крестьянство объясняло уже не раз, почему происходит дезертирство. Люди ушли на войну, боролись и, возвратившись, увидели, что на месте все без изменения. А когда Кощинская волость написала резолюцию и эта резолюция должна была пойти в губернский земельный отдел, то эта резолюция была признана контрреволюционной. И когда приехал представитель высших сфер, то он заявил, что это резолюция дурацкая и что на ней будет поставлен крест. Бывают и такие случаи, что землю отчуждают, несмотря на то что есть постановление Совнаркома. Местная власть отчуждает землю, и тот, кто хотел работать, остается без земли. И вот дезертирство обусловливается массой причин и глубокой подкладкой. А молчание объясняется тем, что раньше люди говорили, а теперь, когда их начали арестовывать, они боятся.
Калинин, внимательно выслушав оратора, спросил:
– Я хотел бы, чтобы товарищ Белокопытов перечислил те имения, земли которых он находит нужным отдать крестьянам.
– Кощино и Карчевское.
– Потом вы говорили насчет неправильности отчуждения. Скажите определенно: у кого это было?
Белокопытов принялся перечислять обиды. Едва он кончил, сразу же раздался голос местного крестьянина Горохова:
– Я заявляю свою нужду, что у меня нет ни клочка земли, а семья – восемь человек.
Калинин обвел глазами собравшихся: не хочет ли еще кто-нибудь выступить? Желающих не оказалось. Заговорил сам:
– Я был в таких губерниях, где крестьянство живет в ужасном положении: достаточно сказать, что есть места, где совершенно не осталось ржаной соломы, где теснота невероятная. И в таких деревнях, несмотря на все ужасное положение, дезертирства не было.
(«Жрать им нечего, вот и подались в армию», – рассудил по-своему Василий Васильевич.)
– Один из ваших представителей, – продолжал Калинин, – заявил претензию, что нужна земля. Я выяснил, что у вас два национализированных имения, а остальное – коммуны. Но ведь в коммунах живут ваши же люди, – мы не с луны брали рабочих, а из вашей или соседней волости. Коммуны в ваших же руках: разница только та, что там живет не Иван, а Петр. А Петр разве не крестьянин? И замаскировывать, говорить, что земля не у крестьян, – это недопустимо. Я сам тоже крестьянин, и у нас в деревне есть коммуна. Конечно, в коммунах иногда живут самые неспособные крестьяне, нищие, убогие. Но куда же их деть, по-вашему? Без земли оставить? Мы всех неспособных и самых бедных должны кормить.
В избе раздались одобрительные возгласы крестьян.
– Но вместе с тем вы знаете, что если в коммунах земля не будет обрабатываться, то она берется. Если коммуна будет безобразничать, то ее распустят. У меня рядом с моей родиной была коммуна, и там есть башмачники и другие мастера. И вот крестьяне наши кричали: пропало дело! А они в нынешнем году и кузницу открыли, и землю всю запахали. Вот вам яркий пример, и я, как представитель власти, не могу не принимать всего этого во внимание. Иначе я не буду настоящим представителем трудящихся, которым дороги интересы как мелкого башмачника, так и других. Кроме того, я должен сказать, что земля коммунарам будет по норме так же, как и всем.
– Хорошо бы, чтобы и совхозы, и коммуна были по норме, – со вздохом произнес худой, небритый крестьянин. Калинин повернулся в его сторону:
– Про коммуны я уже сказал, что земля будет одинаково со всеми крестьянами по норме. Относительно советских имений – я тут вижу или просто глупость, или злонамеренное извращение крестьянских мозгов. Ведь сказать, чтобы в волости не было двух имений, может только тот крестьянин, который не задумывается о своем потомстве. В конце концов, наша бедность происходила не только от того, что нас Николай угнетал политически, а и от того, что нам негде было взять хороших семян, негде было взять хорошей племенной коровы, лошади, нам негде было сделать культурного опыта, из которого мы смогли бы научиться правильно обрабатывать землю и собирать хорошие урожаи. Говорят, что рабочие получили фабрики...
– Совершенно верно!
– Рабочие все получили! – загомонил сход. Калинин поднял руку, призывая к тишине.
– А разве рабочий может взять хотя бы кусок стали, который он обрабатывает на фабрике? Фабрика является государственной собственностью, так же как и железные дороги и другие предприятия. Вот рабочие заявили, например, что они желают продавать ситец по спекулятивной цене, так же, как продается хлеб. А хлеб – сто рублей пуд. А я, как представитель власти, заявляю: «Извините, пожалуйста, фабрики не ваши, а принадлежат всему трудящемуся народу, вы – только исполнители его воли!» И ни один рабочий не заявил претензии против такого рассуждения. И как мы говорили рабочим, что Путиловский завод не ваш, вы не имеете права растащить его по частям, так мы говорим и вам про имения: коммуны – это ваше местное, а советские имения принадлежат трудящимся всего государства... Если мы разделим все советские имения, тогда рабочие прямо нам бросят упрек, что вот, мол, крестьяне кусочка земли не оставили в волости для общего пользования. А вы не забывайте, что рабочие больше вас голодают...
Тут Василию Васильевичу очень захотелось задать вопрос, который он давно держал на уме. Вот ведь рабочие, как и крестьяне, бывают всякие. И хорошие, с золотыми руками. И так себе. И плохих хватает, которые с ленцой. Новая власть хороших рабочих ценит, о средних заботится, а плохих подхлестывает или гонит в три шеи. По-другому нельзя. Дай несамостоятельному да ленивому дорогой станок – он его в момент испортит. Здесь дело ясное, сразу видно, что к чему. А в деревне новая власть хорошего хозяина притесняет. Среднего тоже в тиски взяла и лишь в последнее время отпустила. Зато голь перекатную власть едва не за ручку водит. Мужик со своим хозяйством не справился, на чужом дворе батраком спину гнул, а его в начальство двигают, волостью или уездом управлять. Какое ему уважение от крестьян?
Василий Васильевич даже вперед подался, но осторожность взяла верх. Ладно, если улестишь начальству своими словами. А если они поперек придутся? Нет уж, береженого бог бережет. Так решил он и попятился на свое место. Потеснил соседа, но тот даже не заметил, настолько увлечен был словами Калинина:
– Вот я получил записку, в которой спрашивают,почему мы в начале власти говорили «Долой войну», а теперь сами ее продолжаем?.. Мы всегда говорили и будем говорить, что являемся противниками войны крестьян с крестьянами и рабочих с рабочими. Раньше наши рабочие и крестьяне защищали интересы русского капитализма, а рабочие Германии – интересы немецкого капитализма. И от этой войны ни рабочий, ни крестьянин не получали ничего, кроме разорения. А теперь идет война из-за того, что рабочие и крестьяне захватили фабрики и имения... И разве мы объявляем войну Колчаку? Колчак с помещиками идет против нас, потому что мы выгнали его из имений, лишили его привилегий...
(«Всяк за свое дерется», – рассудил Василий Васильевич.)
– Вы думаете, что спрячетесь в кусты, когда придет Колчак? Буржуазия везде найдет вас. Когда белогвардейцы захватили власть в Финляндии, то они целые тысячи рабочих и крестьян повесили. И сейчас, если возвратятся в Смоленск Оболенский и другие помещики, то вы думаете, что они будут искать и преследовать только большевиков? У вас в Смоленске большевиков-то всего-навсего сто человек, из них пятьдесят перед приходом Колчака скроются. А вы думаете, что эти колчаковцы-помещики успокоятся пятьюдесятью большевиками? Не успокоятся! Помимо того, что они возвратят себе имения и земли, они взыщут с вас и те убытки за два года, которые потерпели, и тогда уже наверное двадцать процентов вас будет убито, а кто сейчас дезертировал, тот тоже будет расстрелян, его вовсе не пощадят. И нам нет другого выхода, как задушить их, а когда задушим, то и война сама собой кончится. Если вы объясняете дезертирство тем, что тяжело крестьянам живется, то ведь нужно помнить, что мы и власть взяли, и боремся за то, чтобы лучше жилось. Нужно помнить, что Россию мы взяли голодную, разоренную. Мы напрягаем все силы, чтобы наладить жизнь...
Сходка закончилась. Крестьяне, теснясь, повалили из душной прокуренной избы. Василий Васильевич вышел среди последних и сразу увидел Калинина, стоявшего возле изгороди в кольце мужиков. Кто-то спросил его:
– Товарищ Калинин, тут люди брешут, что сам ты из рабочих, а крестьянином только прикидываешься.
Калинин усмехнулся, посмотрел вправо, влево. Увидел бабу с косой на плече.
– Эй, молодка, дай махну разок!
Та охнула от удивления, но косу протянула. Калинин взял, примерился, замахнулся пошире. Негустая придорожная трава легла ровным рядком.
Калинин потрогал пальцем жало косы, сказал недовольно:
– Какой мастер отбивал-то?! Ему бы руки отбить. Брусок есть?
Подали брусок. Михаил Иванович быстро и ловко провел по косе. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! Снова широко размахнулся: беззвучно и легко легла перед ним трава.
Пройдя шагов десять, остановился, вернул бабе косу.
«Крестьянин, по ухватке видать, что крестьянин, – определил Василий Васильевич. – Вроде бы щуплый, а стержень в ем прочный. Черти его принесли на нашу голову. Теперь мужики крепко задумаются...»