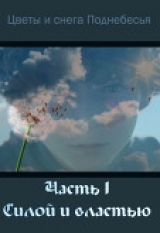
Текст книги "Силой и властью (СИ)"
Автор книги: Влад Ларионов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Магистр-хранитель посмотрел сначала на детей, которые все еще держались за руки, потом на торговцев, заглянул в глаза Нарайну и чуть заметно склонил голову:
– Мир этому дому, удачи честным торговцам. Я – хааши Рахун из клана Волка. – Негромкий голос даахи ветром пронесся по залу. – Это, – магистр указал подбородком на малыша-невольника, – твой ребенок?
– Я – Нарайн Орс из Орбина, а это – мой раб, – все так же усмехаясь ответил Нарайн. – Правда, уже не мой, я его продал и сполна получил расчет.
Хранитель не удостоил его ответом. Он позвал своего ребенка, сказал что-то, попытался увести. Но тот замотал головой и руку нового приятеля не выпустил. Старший попытался уйти один, надеясь, что мальчишка последует за ним, – не вышло, упрямец только ближе подошел к маленькому орбиниту и насупился. Пришлось магистру вернуться и присесть рядом с детьми. Он долго, терпеливо что-то объяснял, указывал на купцов, повторял, уговаривал – все без толку. Чувства оборотней можно было читать по лицам, как по открытой книге: магистр был не на шутку взволнован и, похоже, готов на все, лишь бы поскорее забрать отсюда своего мальчишку.
Вот и правильно, подумал Нарайн. Мьярна – не Тирон, и уж подавно не Поднебесье, здесь свои законы.
Но мальчишка не был послушным ребенком. Он лишь фыркнул, топнул ногой и уселся на скамейку.
4
Осень года 628 от потрясения тверди (пятнадцатый год Конфедерации), Мьярна.
– Я никуда не пойду без него! Он им не нужен – значит, он не их, ты сам говорил! Ему плохо, страшно, больно... он звал меня!
Ягодка топнул ногой и уселся на скамейку.
Магистр Ордена Согласия хааши Рахун из клана Волка, прозванный Белокрылым, впервые за двадцать пять лет чувствовал себя настолько растерянным. Когда сын вырвал руку из его ладони и, метнувшись в сторону, исчез в толпе, он еще надеялся, что все обойдется. Он, как и маленький Ягодка, уже давно почувствовал близость чего-то огромного, неизвестной силы, но не стремился к ней – он знал, что сила всегда опасна. Почему только до сих пор не научил этому сына?! Пока он, взрослый и мудрый, надеялся, что сила его не заметит, не позовет, мальчишка только и ждал зова. И вот, дождался... Дитя старшей расы, больной, опоенный опасным дурманом, товар на продажу – маг, способный зажечь солнце.
Рахун снова обратился к сыну:
– Да, малыш боится, но, посмотри, здесь столько чужих – любой испугается. Сейчас его заберут домой, и все будет хорошо. Он звал не тебя – тебя он не знает. Идем?
– Он... он... – Ягодка явно не находил слов. – Да какая разница, кого он звал? Я услышал! А ты? Разве не слышишь? Как ты можешь не слышать?! Если не хочешь забрать его, оставь меня.
Слышал. И рад бы был соврать, что не слышит, но не мог: маленький маг отчаянно звал на помощь, и хранитель нашел его. То, что Ягодке было всего семь, ничего не меняло – он принял свое служение. Теперь – все, их не разлучить. Эта связь будет только крепнуть, что бы ни случилось.
Рахун кивнул сыну:
– Ты прав, этот мальчик звал, и ты услышал. Но, Ягодка, пойми: его никто не любил, он просто не знает, как это бывает, он может не понять, не научиться...
Теперь настало время спросить, готов ли Ягодка стать хаа-сар этого малыша – убить ради него, умереть вместо него. Или убить его самого, если он станет угрозой. Долг хранителя нерушим и жесток... а его сын еще так мал. Рахун не смог произнести ритуальной формулы. Он лишь заглянул в распахнутые детские глаза и спросил:
– Ты уверен, что справишься?
Но сын и без слов все понял.
– Я буду любить его! Он поймет, обязательно поймет, он всему-всему научится. Он хороший, я знаю!
Люди вокруг замерли в ожидании. Люди боятся даахи. Боятся навлечь гнев великой Хаа. И эти тоже боялись. Если хааши захочет забрать раба – они не посмеют спорить. Но Рахун знал и другое: страх – плохой советчик и опасный спутник. Когда он уйдет, страх сильных может вылиться злобой на головы слабых, прокатиться волной боли далеко от этого места. Надо решать дело миром, а не угрозами.
Рахун кивнул сыну, поднялся и снова обратился к златокудрому торговцу:
– Так значит этот ребенок – не твой?
– Я же сказал: продано.
Златокудрый страха не показывал, только улыбался с презрением и скукой. Если бы хранителя так легко было обмануть. За улыбкой Рахун видел не только страх, но и боль, страдание покалеченной любви, превратившейся в ненависть. Пожалеть тебя? Избавить от всего этого: от любви, от ненависти, от страданий, от жизни? Избавить мир от тебя?
Но нет, ты сильный, Нарайн Орс из Орбина, рано тебе умирать. Живи, мучайся, быть может, ты еще отыщешь путь к покою.
– Во что ты оценил малыша? Я хочу его выкупить.
– В тринадцать талари, магистр. Но, как я и сказал, деньги уплачены, и мальчик больше мне не принадлежит. А какую цену назовет его новый хозяин – я не знаю. Может, вообще не продаст.
Другой торговец, по виду фарис, с готовностью поддержал орбинита:
– Да, правда, я уже заплатил и продавать мальчика не буду. Сам посуди, магистр: тринадцать полновесных талари золотом – за такого кроху цена грабительская. Стал бы я платить, если бы малыш не был мне нужен? Иметь у себя такого я всю жизнь мечтал... О боги. – Он всплеснул руками, словно дурной актер-кривляка в пестрых тряпках, что выступает перед простодушными зеваками. Растрогать, что ли, собрался? – Да зачем мне тебя обманывать! Слаб человек, вот и у меня есть свои, с позволения сказать, слабости: вкусно покушать люблю, вина дорогого испить, куцитру в охотку... И мальчик этот. Но ты зря за него волнуешься: у меня будет жить так, как не всякий принц живет, все самое лучшее получит. Нет, не продается.
Ягодка зло глянул на фариса, оскалился и даже рыкнул. Потом еще ближе придвинулся к невольнику, накрыл его руку второй ладонью. Мальчик совсем притих, затаился. Близость хранителя радовала его, но и пугала тоже – он боялся поверить и обмануться: смотрел, слушал, улыбался, но не верил.
– Не бойся, я не уйду. Я тебя никогда не брошу. И отец. Ты не смотри, что он такой суровый. Он тоже будет тебя любить. И мама... как тебя зовут? Меня – Ягодкой, а тебя?
Мальчик, конечно, ничего не понял, тогда Ягодка тихонько потянул на себя сцепленные руки и прижал ладошку малыша тыльной стороной к своей груди.
– Я – Ягодка, – выговорил он на ломаном орбинском. Потом точно так же прижал свою руку к груди мальчика. – Ты?
– Адалан... – чуть слышно выдохнул малыш.
– Аада-лаан... Лаан, – медленно повторил Ягодка, словно перекатывая на языке, стараясь распробовать, понять. – Лаан-ши... – и снова перешел на шелестяще-воркующий даахири, орбинский был для него еще очень трудным. – Я буду звать тебя Лаан-ши, это цветок такой, в месяц журавля цветет. У тебя волосы золотые, мягкие, как цветы Лаан-ши.
Маленький раб протянул своему хаа-сар вторую руку.
Фарисанский купец глаз не сводил с мальчиков – зарождающаяся дружба этих двоих так глубоко трогала его, что Рахун сначала даже не поверил в столь чистые чувства у этого любителя роскоши и распутства. Все же люди – удивительные, невероятные существа.
– Этот ребенок – настоящее сокровище. – Торговец-фарис чуть не слезы утирал. – Я его не продам.
Добрый, значит... ну а раз добрый, так слушай о своем приобретении всю правду, подумал Рахун.
– Был сокровищем, пока не сломали. – Он в упор посмотрел на торговца. – Орбинит старшей крови... всегда хотел такого, говоришь? Но ты его не получишь: жизнь для таких как он, – ничто, если уязвлена гордость, если нет свободы, достоинства, если в ноздре серьга. Мне не веришь – приятеля своего спроси. Пусть скажет, почему он на самом деле здесь и зачем привез тебе ребенка.
Фарис оглянулся на приятеля, но тот лишь хохотнул и плечами пожал, все, мол, рассказал уже, не знаю, что еще добавить, и отвернулся. Красиво держался, нечего сказать, только сердце колотилось так, что, казалось, грудь разорвет, да пальцы в лавку вцепились до белизны костяшек. Сбежать бы ему отсюда... да кто же позволит? Рахун тоже усмехнулся, не весело – горько, безнадежно – и опять заговорил с хозяином раба.
– Ты не сможешь насладиться им, не успеешь – мальчик умрет раньше, он уже умирает. Золотая красота его – только хрупкая скорлупка, а под ней бушует пламя, неугасимое пламя бездны беззакония, дар Маари. Это пламя сожрет мгновенно и его, и тебя, если только попробуешь взять силой. Не губи зря, уступи. Любовь моего сына – последняя надежда этого ребенка. Только Ягодка способен помочь ему выжить, вырасти, вернуть себя утраченного.
Фарис явно ожидал долгого и упорного торга. Наверное, решил не поддаваться никаким искушениям – не продавать, стоять насмерть. Он никак не думал, что Рахун сразу выложит всю правду, не умалчивая ни о своих опасениях, ни о его пороках. Привыкший хитрить, лгать и выгадывать, он не мог понять, что даахи ложь неведома, чувствующие малейшее колебание души хранители просто не видят в ней смысла. Однако он и тут быстро нашелся:
– Ну, умрет он или нет – этого ты, хоть и магистр, наверняка знать не можешь. Маг? Что ж, пусть так, магам я его тоже не продам, а в Тироне законы блюдут. И, потом, кто тебе сказал, что я мальчишку непременно в постель потащу? Не захочет – неволить не стану, но, поверь мне, любить я тоже умею, и понимать, и дарить счастье – еще никто не называл меня жестоким или грубым. Да если и не любить, если просто смотреть на него – это тоже дорогого стоит. Мне, знаешь ли, нравится на красоту смотреть.
– Смотреть, говоришь...
Рахун в сомнении опустил глаза. Та вещь, о которой он подумал, была дорога ему – брачный дар Хафисы, матери Ягодки, сделанный по ее собственной задумке: "Может, ты в жены и не меня выберешь, но этой ночи я тебе забыть не позволю, и ребенка от тебя все равно рожу". С той ночи Рахун и не снимал его, вот уже более восьми лет... ну да ничего. Жена поймет – сын дороже украшения. И это человеческое дитя – тоже.
– Тогда на вот, посмотри. – Он расстегнул один из своих браслетов и протянул купцу. – Такого ты точно нигде не увидишь. Тринадцать талари ему – не цена.
Фарис разложил браслет на ладони, присмотрелся, да так и рот раскрыл. Конечно, в Мьярне, где трудятся лучшие мастера и торгуют купцы со всего мира, украшением никого не удивишь. Но брачные украшения даахи – совсем другое дело. Хранители не ценят богатства, только мастерство и красоту, только вложенную в изделие душу. Браслет был очень дорогим. Золото, серебро, россыпь мелких бриллиантов и изумрудов, и мастерство ювелира просто поражало, но не это заставило купца дрогнуть: по всей длине были изображены лесные травы и маленькие, но детально-точные рельефные фигурки крылатых юношей и девушек. Боги милостивые! Да по этому браслету можно было таинства плотской любви изучать! Кто бы мог подумать, что эти оборотни – такие затейники! Вздохнув пару раз, фарис все-таки нашел в себе силы вернуться к деловому тону.
– Сколько стоит твой браслет? – спросил он, но Рахун покачал головой:
– Торга не будет. Мне – мальчик, тебе – браслет.
Фарис еще раз посмотрел на маленького орбинита. Отдать крошку – проститься с мечтой... но кто знает, может, этот оборотень прав, и он умрет? Ведь понадобилось же Нарайну зачем-то от мальчика избавиться... А с даахи куда дешевле не ссориться, рабство они и так не жалуют.
– Эх, магистр, разбил ты мое сердце, – тяжело вздохнул он. – Ладно, забирай малыша. Что я могу, раз они с твоим сынишкой, как сизарь с горлицей, не разлучать же?
Рахун удовлетворенно кивнул, первым делом вынул сережку из носа маленького раба и потянулся за его рубашкой, но Ягодка перехватил руку:
– Нет, не так. Освободи его по-настоящему, – сказал он.
– Ты уверен? – Рахун с сомнением посмотрел на сына. – Сейчас? Здесь?
– Здесь и сейчас! – В глазах Ягодки была мольба. – Ты же хааши, ты умеешь. Люди – создания Маари. Он – человек, он не может так жить!
Выпустить на волю дар малыша прямо в зале постоялого двора, среди толпы людей, которые сейчас еще и под руку от любопытства полезут, было сложно и опасно – Рахун боялся не справиться, не удержать. Но если этого требовал хаа-сар, значит, и в самом деле по-другому нельзя, оставалось только подчиниться. Хаа-сар, даже если ему семь, знает лучше, а он, как отец и как хааши, должен верить и помогать.
Рахун неохотно согласился и отодвинул сына в сторону.
– Ладно. Отдай его мне. А ты, – резко приказал подавальщице, – вели воду нести, ведрами, сколько найдется, огонь тушить.
Потом постарался отвлечься, забыть обо всем, кроме дела, поднял малыша на ноги, поставил на стол. Мальчик сам стоять не смог, зашатался, хватаясь ручонками за что попало. Подернутые пьяным туманом глаза округлились от страха и недоумения.
– Смотри на меня, Лаан-ши, не бойся. Лаан-ши – Одуванчик... хорошее имя.
Рахун погладил золотистые локоны ребенка, потом ухватил лицо за подбородок, заглянул в глаза и запел. Песня струилась мелодией в уши, сияла и переливалась радугой перед глазами, трепетом стекала с кончиков пальцев. Пел он тихо, почти беззвучно, только для себя и малыша-Одуванчика, пел и уводил за собой. Опоенный ночной невестой ребенок подчинился сразу, безвольно влился в песню, растворился, раскрылся, отдался на волю хааши, будто и вовсе не хотел сохранить себя, не хотел жить.
Темнота зала отступила. Рахун все увидел в истинном свете: синее, как весенние небеса... синее и золотое... нет, синее – только тут, на поверхности, а там, за препоной воли, в глубине – белое пламя, жадное, пожирающее... еще предел – знание, опыт, представление о себе, и за ним – чернота, бездна, ни веры, ни надежды. И где-то там, в бездне – скованная душа...
Двадцатипятилетний хааши, муж и отец, Рахун задрожал от страха: темные глубины души крошки Адалана не хранили ни единой искры полноценного счастья, только животный ужас и ледяное одиночество. И эта тьма теперь навсегда связана со светлой душой его Ягодки... Хватит ли у сына сил, хватит ли любви, чтобы вытащить мальчишку?!
И все равно маленький орбинит был прекрасен! Живой огонь, на который хочется смотреть и смотреть, от которого невозможно оторваться: пламя беззакония, первичная сила всетворения, посмей только принять и шагнуть вперед... Рахун готов был сам, как хаа-сар мальчика, убивать и умирать за него, но теперь – поздно. Это уже не его дело.
Его дело – освободить и удержать. Хорошо, что малыш так слаб – силы быстро иссякнут; и еще лучше, что у него такие богатые косы – есть чем откупиться от огня...
Песня летела к высшей точке, препоны падали одна за другой, осталось только освободить малыша от страха, отпустить, дать осознать себя. А потом – подхватить и успокоить. Рахун собрал в горсть золотистые локоны, в другую руку взял кинжал и оглянулся на сына. Ягодка восторженно посмотрел на отца и кивнул.
Песня взмыла ввысь и оборвалась – кинжал свистнул над головой мальчика, и охапка локонов осталась в руке Рахуна.
Мальчик вскинул голову и весь засиял. Лицо его, напротив, потемнело, стало на несколько лет старше и на века жестче: казалось, пламя – то светлое, то темное до черноты, струится под тонкой кожей, искажая черты, превращая нежное дитя в чудовище. Трактирные зеваки с перепуга шарахнулись в стороны, но мальчишке до них дела не было, он с ненавистью глянул на завитки в руке хааши – и они вспыхнули, раскидывая искры. Следом полыхнула рабская рубашка, оставленная на скамье, сама скамья, стол, на котором стоял мальчик. От стола огонь пробежал по половице, лизнул стену и пополз вверх.
– Воды! Быстро...
Рахун отбросил горящие локоны, схватил подсунутое кем-то ведро с водой и окатил мальчишку. Малыш вздрогнул, замер и сразу погас – глаза его закатились, он весь побледнел, обмяк, повалился и рухнул бы на пол, если бы Ягодка, уже заскочивший на скамью, не поймал его в объятия.
Трактирные подавальщики, охрана и перепуганные гости кинулись тушить пожар. Рахун развернул свой плащ, укутал маленького орбинита, прижал к себе, тихо напевая о покое.
– Что с ним? – Сын все лез под руку, обеспокоенно заглядывал то в глаза отцу, то в лицо мальчика. – Все хорошо?
– Все хорошо, он просто ослаб. Пусть поспит.
Даахи забрал детей и направился к выходу. У стойки остановился, выложил увесистый кошель – мол, возмещение за пожар. Трактирщик расплылся услужливой улыбкой, а Рауф усмехнулся: уже сегодня к ночи вся Мьярна будет рассказывать об инициации истинного мага, привирая вдвое, а то и втрое против правды. Любопытные горожане сбегутся в "Златорог" посмотреть на следы огня бездны беззакония, а этот самый трактирщик возблагодарит Творящих и даже не помыслит о том, чтобы привести зал в порядок.
У самого порога даахи снова остановился, оглянулся на торговцев и поймал взгляд златокудрого. Сказал, как приговорил:
– Боги слепы, Нарайн Орс из Орбина, ты не заслужил этого ребенка.
И бросил под ноги золотую невольничью серьгу мальчика.
Нарайн ничего не ответил, только зубы сжал.
– Что такое, друг мой? – участливо спросил Рауф. – Я сплю, или этот колдун-оборотень назвал малыша твоим сыном?
– Какая чушь, Рауф. – Орбинит даже рассмеялся. – У меня не может быть сына-раба. Мальчишка – сын одной моей пленницы еще с войны, только и всего.
Но почтенного Камади это объяснение не убедило.
5
Осень года 632 от потрясения тверди (девятнадцатый год Конфедерации), Гнезда даахи на склоне Стража, Поднебесье.
Осеннее небо манило синевой и солнцем – в дни а-хааи-саэ, праздника соединения, над Поднебесьем никогда не было облаков. Фасхил упруго повел хвостом, поймал восходящий поток, широким кругом ушел вверх и дальше, на юго-восток. Кудрявые леса предгорий, сочно-зеленые с яркими пятнами винно-красного, рыжего и золотого, сменились щетиной пихт и сосен, а потом земля отдалилась, подернулась голубой дымкой, и в ушах зазвенела пустота. Пустота была привычна, но о том, как сосет под грудиной предвкушение долгожданной встречи, как тянут нити родства, он успел забыть. А о боли напрасных надежд даже и вспоминать не хотел.
Впервые за последние двенадцать лет Фасхил возвращался домой.
Вот среди синевы неба он разглядел серые клубы, кутающие голову Стража, потом – его самого, высокого и крепкого, покрытого колючей зеленью, среди белизны сестер и братьев. И наконец – большое селение на правом плече огнедышащей горы: ущелье, серо-стальную, блестящую на солнце ленту реки в глубине, водопад в радужных брызгах и чашу купальни под пеленой пара, пестрые лоскуты садов. Белые стены и крыши... о, Хаа! Как давно он здесь не был, даже не думал, как, оказывается, соскучился! Друзья детства, брат и отец, мама! И Хафиса... услышать их всех, принять, самому быть принятым, раствориться и соединиться. Фасхил распахнул чувства навстречу Гнездам... и тут же накрыло жаром, ослепило светом, заволокло тьмой – и швырнуло в нисходящий поток, камнем на скалы.
Проклятое дитя Маари, тварь бездны беззакония! А ведь не ради родителей и брата, не ради Хафисы он здесь, и уж точно не ради призрачной надежды на счастье с какой-нибудь пятнадцатилетней девчонкой в ночь а-хааи-саэ – ради этого самого мальчишки. Золотце, Одуванчик...
Фасхил, как мог, закрылся и отстранился, с трудом выровнял полет и опустился на скальный выступ выше по склону. С непривычки в такую бурю чувств лучше пешком.
Солнце еще светило, но на Слётной скале уже горел костер, закипал в котле а-хааэ, разнося по осеннему лесу запах цветов горного первотала – запах восторга, молодой плотской силы и любви. Все племя уже собралось там. Фасхил сложил крылья, перекинулся, но на праздник не пошел – было как-то не по себе от присутствия этого мальчишки, да и желать соединения он давно зарекся. Вот и сейчас все медлил, мялся, а решиться не мог.
– Фасхил? Мир тебе, т'хаа-сар.
От звука голоса даже вздрогнул. Неужели он так задумался о своем, что не услышал Белокрылого?
– Это не твоя ошибка, друг. Я давно жду тебя, тут кругом моя песня, оттого и не услышал.
Еще и теряется так, что хааши – да не какой-нибудь обычный хааши, а этот самодовольный белый Волк – слышит. Едва вернулся и уже, как мальчишка, расслюнявился. Фасхил нахмурился, еще крепче запирая чувства.
– Мир и тебе, но другом не назову.
Рахун только плечами пожал и улыбнулся в ответ:
– Ну, не назовешь – и не надо. Идем, ночь соединения уже близко.
– Я не ради соединения прилетел, а ради Одуванчика твоего. Человек, орбинит... он мне не нравится. Мальчишка опасен, очень опасен, чудовище, а не дитя.
Хотелось сказать много хуже, но Рахун и сам давно все знал. Оттого и встречать вышел, оттого и сейчас зовет другом, а на загривке шерсть дыбом – не отдаст приемыша. А сам Фасхил отдал бы? Да и вправе ли он судить? Он – т'хаа-сар Тирона, а в Гнездах правит брат. Если Рагмут мальчика принял, то уж, наверное, хорошо подумал, что делает.
От мыслей отвлекла рука Рахуна на плече.
– Идем. Я твоим обещал, что приведу. И на Одуванчика ближе посмотришь – может, не такой он и страшный, как сначала кажется? И Хафиса рада будет. Давай, не упрямься. Хаа-сар нельзя забывать, как пахнет а-хааэ.
– Я не забыл.
Но упираться дальше стало уже глупо. Не дитя же он, в самом деле... А может, и правда, забыл, каков аромат плотской любви, как бередит он душу, как гонит кровь? Девчонки молоденькие, они такие живые, красивые, сладкие. И будет у него жена. И дети, дом... ну, бывает же?
Порозовевшее в осенней дымке солнце плеснуло пурпуром на снежники, выкрасило стволы сосен у обрыва и покатилось вниз, за соседние вершины. Зажглись первые звезды. Даахи – все племя, от седых стариков до младенцев на руках матерей – притихло в ожидании: начиналось таинство соединения судеб и сотворения жизни. Хааши Шанара из клана Волков, древняя, как сами горы, отдала одной из помощниц-девчонок деревянный пест и взяла у другой золотой ковш в форме священного цветка первотала – дара матери Хаа своим детям. Т'хаа-сар Рагмут, младший брат Фасхила снял котел с огня, бережно опустил перед старухой. Она зачерпнула варево, подняв руку как можно выше, вылила первый ковш на угли. Пар зелья, тревожный и сладкий, потек над Слётной скалой, и вместе с ним заструилась песня хааши:
– Было это до начала времен, и были боги юны, как дети, и жаждали боги всетворения...
Дважды в год – в день наречения и в день соединения – даахи варили а-хааэ, и дважды в год старейшая из хааши пела эту Песнь. Племя всколыхнулось, подхватило, вливаясь, следуя за колдуньей в те далекие времена, когда и времени еще не было. Дети поднебесных гнезд верили Шанаре, привыкли за долгие годы. За ней шли, не задумываясь, особенно юные, чуткие и восторженные, лишь ожидающие своего истинного служения. Но мудрая хааши остановила и направила: не уходить в песню, не забывать о настоящем – только смотреть, запоминать и учиться.
Перед глазами поплыли видения:
– ... и создал старший из трех, нареченный Аасу, землю и небо, солнце и луну, и светила на небе во множестве, и весь наш мир, с горами и равнинами, морями и реками. И правил миром лишь единый закон. И понравился мир Аасу, и стал возлюбленным, среди других миров, сотворенных им. И показал Аасу возлюбленный мир свой брату и сестре. Но не понравился мир среднему, нареченному Маари. Маари сказал: скучно! Маари сказал: кому нужен мир, где вчера похоже на завтра, а завтра на десять лет спустя? Не будет так! И бросил Маари в мир камень, и породил тот камень великие беды: хлынул в мир огонь бездны беззакония. И взял Маари этот огонь в руки, и сделался он пламенем всетворения, и мир переменился: сдвинулся со своего места, прогнулся и сбился. И стала тишь сменяться ветрами, а зной холодом, И дожди сегодня падали, где сухо, а завтра – где мокро, и возникли в мире болота и пустыни. И не стало в мире равенства, но стала в мире свобода...
Шанара пела и разливала свое варево – а-хааэ, напиток любви и жизни. Старая Волчица одаривала женщин, каждую, кто попросит, а уж они сами выбирали, с кем поделиться, кому носить драгоценной наградой браслет на левом плече – знак мужа и отца. У пары, которая сегодня разделит кубок, в следующий месяц журавля родится дитя, остальным придется ждать своего часа до весны, до следующей осени, а может, и несколько лет.
Некоторые так и не дождутся.
Фасхил множество раз слышал Песнь Всетворения. Он мог продолжить ее на память: "Но не понравился мир младшей, нареченной Хаа. Хаа сказала: грустно! Хаа сказала: кому нужен мир, который от рождения мертв? Не будет так! И ранила Хаа плоть свою, и оросила мир кровью своей, и пошла от той крови жизнь..." Он ждал своего часа шесть долгих лет. А потом его избранница, единственная желанная во всем мире женщина поднесла кубок другому, как раз в ту весну, когда он так знатно подрал шкуру соперника...
В день наречения молодые хаа-сар, только что обретшие взрослое имя, тешились дружескими поединками. Сначала вчерашние мальчишки похвалялись силой и ловкостью друг перед другом, а потом, как водится, кто-то вызывал в круг старшего – и незаметно все даахи втягивались в забаву: болели, подбадривали криком, давали ненужные советы, смеялись и шутили. Бойцы красовались перед избранницами, а те шептались, смущенно краснели и бросали призывные взгляды.
Фасхил уже оттаскал за шиворот двоих именинников и хотел было покинуть круг – мол, что за доблесть взрослому наследнику вождя мериться силой со вчерашней малышней – когда увидел их рядом. Молоденький хааши тихонько напевал что-то, видно веселое, а его красавица-Хафиса заразительно хохотала. И все бы ничего, если бы только пару дней назад рядом с ним точно так же не заливалась смехом другая!..
– А теперь я зову в круг хааши Рахуна, – крикнул Фасхил и сам удивился, – ну что, Белокрылый, не забоишься честной драки?
Колдуны не воины – бои им не по чину. Но разве ж мальчишка признает, что боится? Белокрылый волчонок аж весь вспыхнул, выскочил в круг уже в шерсти: глаза горят, зубы щелкают, хвост чуть не по бокам хлещет...
Как дрались, Фасхил уж и не помнил; не помнил и как смог остановиться. Только последний миг навечно засел в памяти: вокруг – пух и шерсть клочьями, серая и белая вперемешку, по шкуре течет не то пот, не то кровь – не разберешь... зубы сжимаются на горле соперника, и тот уже перекинулся, совсем притих, даже хрипеть перестал, только глаза еще живые, ясные, а в них – такое детское недоумение: за что, мол, друг? Хааши – что с них взять? Никогда ничего не слышат, кроме собственных песен.
Он тогда отпустил, а потом тоже вернул человечий облик и сказал:
– В гнездах полно девчонок подрастает, дури головы им, а Хафису оставь в покое. Тебе – забава, а кому-то, может быть, ее запах слаще первотала.
Только зря все это. Шанара Песнь Всетворения допела, и поднесла Хафиса кубок Белокрылому. И браслет на руку надела. А он принял. Да не просто принял – тут же и женой назвал, и косы ее вороные расплел, соединил в одну, чтобы все видели. Вот с тех самых пор Фасхил перестал ждать – улетел в Тирон к магам и зарекся домой возвращаться. А сегодня снова стоит у костра, рядом с этим самым хааши Рахуном и смотрит на женщин: выбирает, надеется... Это в тридцать четыре года-то? Не поздно ли, хаа-сар бездомный? По-хорошему сказать, таким, как он, и живыми-то быть не положено, не то что влюбленными.
Между тем к старухе подошла девушка – три косицы тоненьких едва достают до лопаток. И не юна уже, а росточком да худобой – как двенадцатилетняя девчонка... не удивительно, что не приглянулась никому в жены. Сама-то кого выбрала? Фасхил прислушался, и тут же пожалел, что непрошенным лезет в душу: лучше бы ушел сразу и ничего не знал. Некрасивая девушка подошла к Белокрылому и подала а-хааэ ему, а он отпил – и вдруг ответил такой нежностью, словно когтями шерсть на брюхе причесал: "Принимаю твой дар, Сатиша и ты прими мою заботу и защиту. Тот, кто родится от нас, – желанный гость в моем доме отныне и навсегда".
Шерсть дыбом, зубы и когти! Да как он мог?! Да как! Он! Посмел! Фасхил опять был готов кинуться в драку.
Единение опустилось нежно, почти невесомо, окутало, обволокло и понесло: боль и тягучее счастье, счастье и острая щемящая боль. Хафиса.
Хафиса остановилась совсем близко – все такая же стройная, красивая, желанная до слез. Можно было обнять, не касаясь – и даже ее белокрылый певун ничего бы не почуял. Но Фасхил не посмел. Любимая обняла сама, обняла и заговорила:
– Разве ты забыл, т'хаа-сар Ордена Согласия, что мужчина не смеет отказать женщине, если ее замуж не берут?
– Не забыл, – ему вдруг стало стыдно в ее теплых чувственных объятиях, под ее ласковым, но испытующим взглядом. – Я помню, но тебе же больно.
– Мне больно. Но я уже родила своих детей, нам больше не делить ночей а-хааи-саэ, а Рахун все равно мой. Для того, чтобы все другие ночи любить друг друга, первотал не нужен. Сатише двадцать три, прикажешь еще ждать? Или, может быть, она тебе полюбилась? Так неправда – я ведь не хааши, дочь воинского рода, и слышу почти так же, как и ты. Ты рассматривал ее и жалел, а Рахун будет любить, пусть только раз, но по-настоящему – он умеет быть нежным, не унижая жалостью, он умеет напеть о счастье.
– Поэтому ты выбрала его? За сладкие песни?
Серебристый ее смех пробежал страстной волной по телу.
– Забавный ты, т'хаа-сар Фасхил из клана Ирбиса! Да кто же знает, за что любит? За песни, за белую шубу, мягкую и чистую, как снег, за то, что полез с тобой в драку, хотя точно знал, что не сможет победить. Мало ли за что еще? Люблю – и все.
– Ты права, Лисичка, – Фасхил кивнул и усмехнулся. – У Рахуна есть твоя любовь, и его зовут другие. Да он просто счастливчик!..
– А разве ты – нет? Помнишь Эфани из Рысей? Когда ты улетел, она ждала восемь лет! Но ты так и не вернулся, и Эфани забыла о замужестве, родила детей от Рагмута, чтобы хоть чем-то походили на тебя. И теперь, смотри: Ануша готова пойти с тобой, но ее день наречения только что минул, она хочет семью, а не одинокое материнство. Скажи, т'хаа-сар, ты готов почитать и защищать эту девочку до конца своих дней? Готов любить? Скажи ей – и она наполнит свой кубок.
Фасхил посмотрел на Анушу. Она тоже заглянула в его глаза без заискивания, без робости перед свирепым зверем, вожаком хранителей Тирона, привыкшим к вкусу крови на губах. Взгляд ее был прям и открыт. И тело – сильное, налитое, готовое к материнству, жаждущее любви...
Но черная Лисичка Хафиса рядом, и она по-прежнему во сто крат роднее и желаннее. Любая даахи такое услышит. Нет, никогда Фасхилу не забыть жену Белокрылого. Несчастный бездомный хаа-сар!..
– Я прилетел не в поисках семьи, Хафиса. Мне нужно увидеть мальчика.
– Что же, как хочешь, – Хафиса вздохнула и разомкнула объятия. – Дети уже убежали играть, но я знаю, куда. Идем, покажу.








