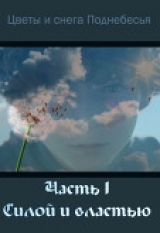
Текст книги "Силой и властью (СИ)"
Автор книги: Влад Ларионов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Отец и в самом деле никогда не был строг к белым магам, не требовал подчинения или соблюдения целого списка особых правил ордена – вроде ненавистной чистой одежды для учеников или запрета выходить за пределы жилого крыла после захода солнца. За всем этим неусыпно следила Майяла и наказывала нарушителей по всей строгости – тяжелой работы в замке хватало. Ученики платили ей той же монетой и звали ее не иначе, как Дуарской ведьмой. Но, ведьма или нет, Адалан и представить себе не мог, что она будет вот так бесцеремонно отчитывать Рахуна Белокрылого.
Однако Рахун на упрек старухи и бровью не повел.
– Я жду т’хаа-сар Фасхила, магистр Майяла, без него мое дело никак решиться не может. Так что придется и всем остальным тоже подождать.
– Ну да, а Фасхила где-то носит... уважения у молодых тоже никакого, – Дуарская ведьма отвернулась и снова поднесла к губам чашку.
– А по-моему, Фасхил умница, – улыбнулась Федра, – дал нам время спокойно чайку попить. Не стоит ворчать, лучше насладиться минутой отдыха и приятного разговора, – и повернулась к Датрису. – Ты в этом году выставляешь своих?
Датрис, как всегда сияющий красотой и превосходством, стоял у стола. Он долил напиток в опустевшую чашку и холодно улыбнулся.
– Парни не готовы, им еще нужно года два, не меньше. Девчонка – тем более. Но эта, пожалуй, молодая, да ранняя, если всех обгонит, я не удивлюсь.
При таких словах учителя Кайле вздрогнула, крепче прижалась к Адалану, шепча:
– Он все знает, наверное маяк...
Но Адалан не стал слушать – про маяк он подумал и сам – только осторожно зажал ей рот и приложил палец к губам, призывая молчать.
– Кстати, Рахун, – продолжал Датрис, – хотел тебя попросить посмотреть ее. Неплохо бы знать, что ты скажешь.
– Я и сейчас могу сказать, если интересно, – отозвался Рахун. – Но лучше с глазу на глаз.
Кайле испуганно завозилась, отодвигаясь глубже в тень, и опять зашептала:
– О чем это они, Лан?
– Чшш! Не знаю, – ответил Адалан.
Он и вправду не мог понять, что стоит за странными словами магистров? В самом ли деле их поймали или только предполагают. А может быть этот разговор вообще никак не связан с их проделкой? Ведь могут же учителя думать об учениках и тогда, когда тех нет рядом? Но он все же решил не рисковать и набросить защитный полог. Полог мешал: скрывал чужую магию, при малейшем движении портил видимость, и звук сквозь него казался глуше, но, как надеялся Адалан, хааши тоже будет сложнее их почувствовать.
– Прижмись ко мне, – шепнул он в самое ухо подруги, – и старайся не шевелиться.
Дрожащее марево накрыло их обоих.
И тут же Рахун дернулся, словно что-то услышал, следом повернули головы Шахул и Хасрат, а за ними и все магистры.
Адалан уже решил, что теперь точно попался, когда дверь открылась, и в зал вошел Фасхил.
4
Весна года 637 от потрясения тверди (двадцать пятый год Конфедерации), Серый замок ордена Согласия, Тирон.
Предводитель стражи обошелся без приветствий и извинений, будто бы и не знал, что именно его заждались на совете. Он стремительно прошел через зал и, не глядя на остальных, поклонился главе ордена.
– Дозор с востока принес дурные вести: у буннанов поветрие. Разносится как пожар, мрут и люди, и скот. Верховный магистр, медлить нельзя. Я с половиной стражи отправляюсь сегодня.
Голос Фасхила, даже приглушенный и сглаженный пологом, напоминал скорее рык, чем учтивую речь доклада. Адалан представил себе Фасхила, изготовившегося к бою, и невольно передернул плечами – не хотелось бы ему оказаться сейчас там, внизу. Само по себе известие о поветрии его не встревожило. Буннанские степи со всеми их отарами, юртами и табунами прославленных скакунов представлялись чем-то далеким, знакомым только по рассказам купцов да географическим трактатам из библиотеки. В жизни кочевники-буннаны вроде как и не существовали, поэтому и беда их казалась далекой, совершенно неважной. Тем более что и Дайран особого беспокойства не выказал, даже не удивился. Адалан готов был поклясться: все сказанное стражем главе ордена уже известно.
– Благодарю за службу, т’хаа-сар Фасхил, – кивнул он, – маги ордена Согласия займутся поветрием. А ты присядь и передохни. Федра, будь добра, подай Фасхилу чай.
– Могучий, какой отдых? Какой чай?! Любой гость или путник, лошадь, любая овца из стада разнесут болезнь в соседние племена, а там и до Умгарии...
Но его прервал Шахул, поднялся со скамьи и указал на свое место.
– Садись и пей чай, Фасхил. Степной заразой займусь я.
Фасхил хотел что-то возразить, но старик-колдун не позволил. На этот раз он тоже рыкнул. Адалан даже не ожидал, что кто-то из хааши мог быть не менее угрожающим, чем предводитель Тиронской стражи.
– Сядь, я сказал!
И добавил уже спокойно, даже насмешливо:
– Посмотри на себя: не можешь усмирить зверя – глаза-то все время желтые. Какой толк от т’хаа-сар самоубийцы? Поживи еще.
Насмешка подействовала – Фасхил не стал больше спорить, уселся на скамью и с благодарностью принял из рук Федры чашку горячего чая. Только устало спросил:
– Неужели ты надеешься обойтись без потерь, старик?
– Тех, кого точно потеряю, не возьму, а там – воля Хаа, – ответил Шахул и обратился уже к Дайрану и всему совету. – Начну прямо сейчас. Мы оцепим зараженные поселения и остановим мор, дней за пять управимся. Но больных не спасем. Тут нужны целители, маги.
– Жадиталь, – напомнил Датрис, – одна из лучших целителей ордена.
– Да, и у нее двое почти готовых к самостоятельной практике учеников, – согласился Дайран. – Они втроем вас догонят.
– Жадиталь? – переспросил Шахул. – Женщина? И молоденькая – ни мужа, ни детей. Нет, ее не возьму.
От такого заявления Кайле даже бояться забыла – резко подалась вперед, косы скользнули по камням, поднимая клубы пыли.
– И что? Женщина, и мужа нет – и что? – зашипела она возмущенно. – Этот старый пень считает, что женщина хуже мужчины?! Это потому что в ордене нет ни одной женщины-даахи?
– Да тише ты! – одернул ее Адалан и, наклонившись к самому уху, прошептал. – Женщины не хуже. Просто это не их дело. Дело мужчины – служить, дело женщины – рожать детей. Не дергайся, молчи и слушай.
– А придется взять, Шахул, – поддержала верховного магистра Майяла. – Если хочешь вернуть своих парней живыми. Жадиталь в замке, а любого другого нужно еще искать. Терять время – терять жизни, и не только степняков. Подумай.
– Девчонка... – старый хааши еще раз обвел взглядом магистров совета, словно искал поддержки. – Ладно, так и быть, – и повернулся к Рахуну. – Белокрылый, тоже с ней собирайся, присмотришь в дороге. Нечего тебе здесь детям мешать, сами разберутся, без нас.
И, не прощаясь, скорым шагом направился к выходу.
Вот, значит, как: они уходят, все, и дед Шахул, и отец, и Жадиталь с учениками. Ваджры, единственного из белых, кроме Кайле, с которым Адалан легко сходился, тоже не будет в замке. И даже Хасмар уже собрался – наверняка напросится в степь. Чтобы «не мешать детям»?..
Фасхил словно подслушал его мысли:
– Так что там с детьми, Рахун? Ты за этим звал меня на совет, из-за Сабаара?
– За этим, – Рахун кивнул. – Мой сын Сабаар просит тебя, т’хаа-сар Фасхил, принять его клятву жизнью и кровью служить Согласию и взять в крылатую стражу ордена...
«Сабаар! Вот как его зовут! Сабаар...» Адалан несколько раз повторил имя брата, обкатывая на языке, привыкая. Он перестал думать о том, что творится в зале, о защитной магии и страхе разоблачения, даже о прижавшейся к нему Кайле на миг забыл... и вздрогнул, услышав голос учителя:
– Что молчишь, страж? Берешь Волчонка под свое крыло?
Фасхил отвернулся, опустил голову, но все же ответил:
– Не по душе мне это, Волчонок рвется не ордену служить.
– Все мы знаем, кому он служит, поэтому и место ему здесь, в замке, – Рахун был спокоен, вроде даже улыбался. – Уж не боишься ли ты, что он из-за этого со службой стража не справится?
– Я потерять щенка боюсь, – т’хаа-сар встал со скамьи, поставил на столик чашку и вдруг заговорил резко, жестко, переходя на даахири. – Молод он, не нюхал еще ни беды, ни радости, а туда же, «жизнью и кровью»! Адалан – это бездна, Белокрылый. Погубит он твоего сына, переломает как щепку и сам не заметит!
В зале повисла тишина: магистры растерялись от неожиданности. Даже Рахун как-то необычно, угрожающе замер.
А у Адалана аж дыхание перехватило, словно льдом сковало легкие, и сердце, как смерзшийся камень, ударило с металлическим звоном: «Как же он меня ненавидит... как они все, наверное, меня ненавидят и боятся!» Застучали зубы, задрожали пальцы, захотелось сжаться и совсем исчезнуть. Трепещущий силой полог истончился, едва не растаял.
И тут Адалан услышал голос Белокрылого:
– Не забывайся, Ирбис. Если разучился зверя прятать, так хоть язык прикуси – ты о детях моих говоришь. Не ровен час, ответить придется.
Лица Рахуна видно не было, но Адалан еще ни разу не слышал, чтобы отец так злился. Говорил он тихо, слов почти не разобрать, но и этого хватило, чтобы по-настоящему пожалеть о своей безрассудной затее и о том, что услышал лишнее.
Даже Кайле, которая ничего не поняла, и та догадалась: дело неладно.
– Лан, что случилось? – тихо спросила она, заглядывая в глаза.
А потом вдруг обняла и зашептала совсем как взрослая, утешающая ребенка:
– Ну что ты? Перестань, не бойся. Все будет хорошо.
А Адалану было так холодно! Пламя, родное, ставшее уже привычным, внезапно совсем его покинуло. И он с надеждой прижался к подруге, радуясь ее хоть и слабенькому, но живому теплу.
– Рахун, Фасхил, – Дайран поднял руки, призывая к спокойствию, – замолчите оба! Когда повзрослеете наконец, перестанете драться и начнете договариваться?
– Я боюсь за мальчишку, – упрямо повторил страж. – Он и мне как сын. Как я посмотрю в глаза его матери, если не уберегу? Проще умереть...
– Жизнь и кровь хранителя принадлежат Хаа, Фасхил, – вмешался молчавший до этого Хасрат, – не Рахун решает судьбу Сабаара и не ты. Ты можешь только помочь или стать еще одной помехой. Я знаю Лаан-ши еще с испытаний: да, с ним тяжело. Но разве порознь им легче?
Магистр Дайран благодарно кивнул Хасрату и повернулся к стражу:
– Мальчики нужны друг другу. Они достаточно жили врозь, и теперь что случится – то случится, тянуть дальше нет смысла. Но решать тебе, т’хаа-сар. Так что скажешь?
– Сабаар, сын Рахуна из клана Волка, будет принят в крылатую стражу.
Согласие прозвучало, словно вырванное под пыткой. Фасхил закончил фразу и тут же, ни на кого не глядя, покинул зал – только дверь за ним громко хлопнула.
– Благодарю, друзья, все могут быть свободны.
Дайран устало откинулся в кресле. Дождавшись, пока магистры попрощаются и разойдутся, он обратился к еще оставшемуся Рахуну:
– Наш Ирбис не думает о малыше плохо, не держи на него зла.
– Да знаю я, что он думает, – Рахун поднялся, поставил на столик свою чашку. – Фасхил одинок, в этом все дело.
Говорили они слишком громко, как показалось Адалану, напоказ. И он опять начал подозревать, что их тайное убежище давно разоблачили. Но потом отец подошел к верховному магистру ближе и добавил уже совсем тихо, почти неразборчиво что-то о нем и о том, что нельзя прощаться врагами.
Когда зал Совета совсем опустел, магистр Дайран поднял голову и посмотрел прямо на ребят.
– Ну что, лазутчики, – усмехнулся он, – спускайтесь. Расскажете, что такого важного и интересного вы тут надеялись услышать, а я послушаю. Да поторопитесь, пока чай не остыл.
Шесть сотен скользких ступеней хорошо защищают от праздного любопытства – никто без особой нужды не таскается на вершину Звездной Иглы, разве что этот настырный мальчишка-маг. Но после сегодняшней встряски он уж точно не будет путаться под ногами. Фасхил лег на холодный мрамор, опустил голову на лапы и закрыл глаза. Зачем смотреть, если горы он видел даже сквозь сомкнутые веки? Не только такими, как в Тироне, далекими темными силуэтами, но и близкими, родными, как в юности. Парящие в небе искристые вершины, густо-зеленая лента соснового бора, шапка пара над купальней. А чуть выше по склону – селение: ветви цветущих яблонь укрывают крыши, щебечут синицы, стрекочут кузнечики... и сотни раз исхоженая тропа. Две низких ступени и дверь, которая немного скрипит, сколько ни мажь жиром петли. Дом.
Что ж, нет смысла себя обманывать – он тосковал. Может, надо было просто вернуться? Не на вечер, даже не на одну буйную ночь а-хааи-саэ, а дней на десять, на месяц, может, на всю весну. Хотя зачем? Смотреть на красу чужих жен, на игры чужих детей?.. глупости. Сейчас точно не время думать об этом.
Зверю трудно задумываться, что-то решать, зато так легко касаться души, почти угадывать мысли. Ничего не стоит отыскать ее, единственную, вместе с ней пройти через бор, сбежать по тропе к водопаду, услышать его далекий рокот и веселый детский смех, ощутить ветер в косах, холодные брызги на щеках. Найти глазами белоснежную головку девочки...
– Дочка, не опаздывай к ужину!
– Да, мааа!..
...и увидеть, как пушистая молния сорвется с уступа прямо в ледяные струи.
Когда-то и он играл так же: падаешь в пропасть, на лету раскрывая крылья, ныряешь в водопад и стремительно несешься по ущелью, чтобы потом опуститься на землю уже двуногим. Невинное счастливое детство! Как у Снежинки, как у Сабаара... Возможно ли это сейчас? Или Волки правы: он больше не способен обуздать зверя? Глаза зверя совсем не умеют плакать, только наливаются светом неодолимой ярости. Уши слышат чужого, а шерсть на холке встает дыбом...
Ирбис вскочил, встряхнулся и, выставив когти, всем телом повернулся навстречу незваному гостю. Но гость не искал ссоры: опустил крылья, ткнулся носом в его шею – серебристая грива тепло и щекотно накрыла морду. Драться как-то сразу расхотелось. «Ну ты еще оближи» – фыркнул Фасхил и начал менять облик.
Когда закончил, его гость уже стоял шагах в пяти от края площадки и, как сам Фасхил только что, смотрел на горы.
– Опять ты, колдун... Что еще?
Рахун оглянулся и указал на место рядом с собой.
– Не зря ты любишь эту башню – тут красиво.
– Нашел время видами любоваться, – ответил Барс. – Самовлюбленный ты тип, Рахун, совсем что ли враждовать не умеешь? Будь я на твоем месте – порвал бы в клочья. И за что только она тебя выбрала?
– Может, за то и выбрала, что не порвал?
Белокрылый улыбался. Фасхил хотел было разозлиться, но нет, в улыбке хааши даже намека на насмешку не было – только покой, печаль и совсем немного иронии. Злиться на соперника было не за что, и от досады Фасхил разозлился на себя, а потом еще сильнее – на то, что волк наверняка все его смятение слышит. И снова почувствовал, как крылья выворачивают спину и губы дрожат в оскале.
А он и в самом деле все слышал. И спросил, все так же улыбаясь:
– Зачем ты себя мучаешь, друг? Никому не нужна такая твоя верность, и тебе – меньше всех. В гнездах много красавиц подросло, давно бы забыл Хафису, если бы захотел.
Ну да, много... только которая из них подаст а-хааэ, зная, что нелюбима? Это Рахун умел не страдать и не таить обиды, оставаясь и через десять лет, и через семнадцать все тем же певуном Хаа, светлым и слабым. И ведь нисколько не боялся его, сильного, ни в тот раз в кругу поединка, ни сегодня. Как это ему удается? Неужели и правда за своей сладкой песней не замечает, сколько страха и боли в мире, сколько горя, злобы и ненависти?.. Одно слово – Белокрылый. И учить его, дурачка наивного, без толку.
Фасхил повел плечами, пряча крылья и расслабляясь, и тоже усмехнулся:
– Я – не ты. Это же тебе все равно: не она бы позвала, так другая. Ты у нас всех любишь. Не оттого ли, что не слышишь ничего, кроме собственных песен?
– А ты, наверное, меня уже до дна прослушал, до самой последней тайны? – Рахун повернулся и посмотрел прямо в глаза, как будто специально открываясь. – Только я ведь ничего и не прячу – нечего мне. А вот ты прячешь, от самого себя скрываешь, что не Хафиса тебе нужна, а боль. Вечная боль и вечная сила. Ты отвык быть слабым, т’хаа-сар Фасхил. Я бы помог избавиться и от боли, и от силы, спел бы тебе... только ты ведь откажешься.
– Еще чего! Что мое – мое, плохое ли, хорошее, не тебе судить.
– Я могу судить, Фасхил. Не поверишь, но я знаю цену и горю, и счастью. И жену свою люблю, и дочь, и сыновей...
– Вот именно, сыновей, – перебил Фасхил, – сколько их у тебя? Четверо?
– Пятеро. Адалан тоже мой сын.
– А у нее один-единственный! Почему он, Рахун? Адалану нужен хранитель, необходим. Но почему такой же щенок, как он сам?! А там еще и девчонка эта... слышал поди, что между ними? Лаан-ши еще дитя, может, ничего и не понимает, но Волчонок-то уже нет! Знаешь ли ты, как рвет душу любовь такого, как твой Адалан? Если он не убьет Сабаара, то с ума сведет точно...
Как объяснить? Как найти слова, чтобы описать безграничную пустоту мрака, ужас вечного одинокого падения... и пламя: жар расплавленных недр, когда кости самой земли пылают, как масло; боль и вой заживо горящей плоти. И силу! Дикую лавину ярости, вмиг превращающую его в чудовище, способное одним рыком валить деревья, ударом хвоста рассеять армию. Кажется, встань на его пути дракон Аасу – и тот был бы повержен... Что такое жерло Стража в сравнении с мятежной душой Адалана? Лесной костер? Пламя забытого факела? Ничто!
А сердце рвется, в кровь разбиваясь о ребра. И хочется удушить мальчишку, впиться зубами в горло, разорвать плоть, растоптать, уничтожить, чтобы забыть о страхе, о боли... а в следующий миг – припасть к его ногам, лизать руки, скулить, преданно, по-собачьи, моля о единственном счастье – быть рядом, защищать его дар жизнью и кровью и умереть, ни о чем не задумываясь.
– Думаешь, я не люблю твоего Лаан-ши? Испытываю, чтобы сорвался, чтобы иметь право убить? Проклятье Творящим, нет! Я сам умру за него с радостью. Но не верю, что Сабаар справится. И Армин, и Майяла сильны, но их сила теряется рядом с Адаланом. Даже Могучий ему не ровня... щенок поглощает, подчиняет полностью. Стоит Волчонку окунуться в эту бездну – и он себя забудет, а ведь ему только шестнадцать. Мог бы просто жить, радоваться, лазать по скалам, нырять в водопад, девчонок целовать. И с одной из них разделить а-хааэ.
Рахун не спорил, молча слушал. И стал таким незаметным, что Фасхил почти забыл о нем и уже не столько с ним объяснялся, сколько с самим собой. А когда опомнился – опять почувствовал досаду. Странный этот колдун, непонятный, неуловимый: то ли опять смеется, то ли хочет подловить и доказать свою правоту? И добавил уже больше ради вызова:
– Можешь меня ненавидеть, Рахун, но сына ты подвел. Ты должен был хранить мальчишку, ты сам, ты бы справился. Или я. А с Волчонка какой спрос?
Но Белокрылый почему-то не принял вызова, только покаянно опустил голову.
– Дня не прошло, чтобы я об этом не думал. Да, ты прав, прав во всем: я – колдун, не воин, и хранитель из меня непутевый. Будь на моем месте ты – услышал бы раньше и перехватил мальчишку, а я не успел, не смог... не за что мне тебя ненавидеть. Я пришел не спорить, а просить мира и помощи: присмотри за моими сыновьями. Шахул прав, мне тут не место – моя песня помешает...
– А я ничем не помогу, – перебил Барс, – у меня нет твоей песни и твоей власти.
– И не нужно. Просто будь рядом, что бы ни случилось – не бросай их в одиночестве.
– Не брошу, – пообещал Фасхил, глядя уже в узкие щели нечеловеческих глаз.
Белый зверь еще раз ткнулся мордой в его плечо и, расправив крылья, прыгнул вниз.
5
Весна года 637 от потрясения тверди (двадцать пятый год Конфедерации), Серый замок ордена Согласия, Тирон.
Адалан лежал поверх заправленной постели и бездумно таращился в стену напротив входа. Из коридора в открытую арку доносились шаги, можно было разобрать крики, смех и даже тихие разговоры. В свете факела пробегали тени: то быстрые, то неторопливые. Потом голоса стихли, тени стали появляться все реже и наконец пропали совсем – мальчишки-маги разошлись по комнатам и уснули. Тишина стала такой полной, что зазвенело в ушах. Свечи зажигать не хотелось, как не хотелось и раздеваться, даже снимать сапоги. Пламени своего дара он по-прежнему не чувствовал, но почему-то знал: стоит позвать – и оно вернется. Только как? Потянешься за стилом, а ухнешь в бездну... Справится ли он? Может ли он поверить, что справится? А если нет – пламя всетворения сожрет и его, и всех его спящих соседей. Поэтому Адалан и лежал, боясь пошевелиться. В животе противно тянуло, зубы стучали, пальцы теребили мех одеяла – никто не поможет...
Бросили. Его опять бросили! Все. И что за дело до того, что они не виноваты? Виноватым почему-то опять оказался один Адалан.
Нет, за вылазку на совет никто его не ругал, но лучше бы уж отругали, лучше бы выпороли. Кайле что-то там говорила, объясняла, оправдывала его: мол, это она придумала влезть на дерево и печати сняла – ее и надо наказывать. А наставник чаем напоил, горячим и ароматным, таким вкусным, что это тоже казалось обвинением: вот, смотри, мы тебя жалеем, щадим... все, что угодно, чудовище, лишь бы не сорвался.
И лишь потом, выставив за дверь Кайле, Могучий отчитал Адалана.
– Только такой сильный дурень, как ты, может позволить себе защитный покров, от которого трясет всю башню, до самых коренных камней, – говорил он. – Мудрено ли, что каждый маг при виде тебя поминает потрясение тверди. А еще вообразили, что вас можно не заметить. Сущие дети!..
И хоть глаза учителя улыбались, Адалану было вовсе не до смеха. Он вспоминал, как смотрел на него Фасхил: настороженно, зло, и всегда желтыми глазами зверя, вот-вот готовый обернуться. А еще эти его слова сегодня: «Адалан – бездна. Погубит, как щепку переломает и сам не заметит». Конечно, если даже учителю его магия напоминает конец света, то Фасхил, наверное, мечтает попросту придушить. Хранители берегут создания Любви Творящей, все жизни мира. Что такое для них одна жизнь, пусть даже истинного мага? Наверняка т’хаа-сар не раз спрашивал себя об этом. Но над жизнью Адалана он не властен – у Адалана есть брат. Сабаар. А если брат тоже решит, что он опасен? Убьет?
Или Фасхил все-таки прав, Адалан сам погубит брата?
Тот день в Мьярне Адалан почти не помнил – сплошной горячечный туман. Но руку Ягодки забыть не мог: холодную в жарком бреду, сильную, когда страшно... Ягодка обещал, что не отпустит – и не отпускал: рука в руке, вместе, всегда. Вот если бы сейчас... Адалан даже сжал ладонь, словно хотел ухватиться за воспоминания.
Нет! Никогда в жизни он не причинит зла Ягодке. Ни за что! Брат не будет страдать из-за него.
Но они не верили, никто! Никто в совете не заступился за него, никто не сказал Фасхилу, что он ошибается... даже отец. Даже он всего лишь разозлился.
– Почему, учитель? Разве я – зло? – только и смог тогда выдавить Адалан.
– О, голубчик, да ты же совсем раскис. Так нельзя, не тебе. И не сегодня.
Учитель сам налил чай, сам согрел в ладонях, а потом подал Адалану, велел пить и слушать.
– Когда-то, Золотце, я тоже вот так расквасился, решил, что мир слишком несправедлив, и дал волю чувствам, а вместе с ними и своей огненной силе. В тот день я сжег усадьбу и всех, кто там был. И выжег бы еще больше – сад, виноградники, соседнее селение; я и себя бы сжег, если бы не мой хранитель. Шитар остановил, не дал умереть – вернул к жизни своей кровью. Всетворящее пламя беспощадно: на месте дома моего детства до сих пор оплавленная плешь – сама по себе она не зарастает, а применять магию я запретил. Чтобы напоминала: я могу не только создавать, но и разрушать, я уже проявил себя, как разрушитель. Но Шитар все равно спас меня, потому что любил. Шитар любил меня – и поплатился жизнью за мою глупость. Я любил Шитара – и плачу за его смерть раскаянием вот уже почти сто лет. Ты понял, мальчик? Мы зависим от тех, кого любим, и отвечаем за тех, кто любит нас.
Остро-медовое тепло мешалось с горькими словами. Адалан понимал, что сейчас надо не о себе думать, а об учителе – оказывается, и у него есть свои беды. Но вспоминались почему-то холодные брызги водопада, смех Ягодки и еще Кайле, такая, как утром, присыпанная лепестками вишни. И так остро хотелось к ним.
– Каждым своим шагом, каждым поступком, меняющим нашу жизнь, мы меняем и их жизнь тоже, а от каждого их шага меняемся сами. Другие могут не думать об этом, но не мы, Адалан. Мы – вершители, наши силы слишком велики. Ты можешь не желать зла брату, но можешь ли ты совсем не касаться зла?
Мог ли он? Знал ли он вообще, что есть зло, а что – благо? Думал ли, что даже над собственной жизнью не властен? Из башни Адалан вышел сбитым с толку и озадаченным.
Разговор был долгим, но Кайле все-таки дождалась его в саду. Она снова чертила угольком магические знаки, и, увидев его, все бросила, подбежала с вопросами:
– Ну что? Сильно досталось? Наказал, небось...
– Да не наказал, так, отругал, что силой разбрасываюсь, заданий надавал, – отмахнулся Адалан.
И вдруг спросил:
– Кайле! Кайле Бьертене с Птичьих Скал, знаешь ли ты, что я зависим от тебя, что любой твой шаг отражается на моей жизни?
– Что?
Кайле остановилась, посмотрела удивленно, а потом вдруг расхохоталась, чуть не показывая на Адалана пальцем:
– Лан! Ну, выдумал! Ты? От меня?! Ты – первородный маг, подобие бога. Пять-шесть лет – и станешь сильнейшим в ордене. А я? Лиловый мне не светит. Да и так: курносая, долговязая, коса... не золото, точно – даже в этом тебе не ровня. Обычная, таких – как камешков на берегу. Так что не смеши меня, «зависимый»!
Вот так. Просто и понятно.
Он даже ответить ничего не успел. Потому что прибежал Ваджра и вывалил целый воз новостей: что в замке только и говорят о степном поветрии, что две сотни крылатых уже улетели, что магистры Рахун и Жадиталь тоже собрались к буннанам, и они с Доду будут сопровождать наставницу. И что все ждут только их двоих, чтобы попрощаться.
А потом были поспешные проводы, неловкие объятия Жадиталь и глупые, неуместные слова о том, какой он уже взрослый. И молчание отца, его долгий взгляд, тихая песня о том, что все будет хорошо. Интересно, кого он пытался утешить? Его, Адалана, Жадиталь с учениками или самого себя? Слишком длинный путь до ворот, натужные шутки стражей... И до Адалана наконец дошло, чего так боялся Хасмар, почему волновались магистры на совете, а даахи не смогли сохранить человеческую сдержанность. Потому что это было самое настоящее прощание: те, кто уходили в степь, могли не вернуться.
И потому что возвращения мог не дождаться он сам.
Впрочем, о последнем ни Кайле, ни Ваджра с Доду не догадывались, а об опасности смертельного заболевания старались не думать. Они смеялись, подтрунивали друг над другом и строили планы, как будто впереди было долгожданное путешествие с приключениями и новыми открытиями. Доду рассуждал о том, что такое серьезное дело поможет ему получить грамоту магистра, а вместе с ним и свободу от службы кнезу.
– Буду сам выбирать, кому служить, – говорил он, – где жить и с кем. Кайле, пойдешь за меня тогда? А что, я в Ласатре не был, мне любопытно! – И подмигивал Адалану. – Береги мою невесту, златокудрый.
Кайле отшучивалась:
– Ты сначала испытания пройди, магистр-недоучка.
А щеки ее розовели от удовольствия и в глазах плясали лукавые огоньки.
Уже за воротами Ваджра вдруг остановился и, ухватив за рукав, потянул Адалана с собой. А когда они приотстали, вложил в ладонь стеклянный флакончик.
– Пыльца куцитры, чистая. Только не выдай меня, смотри, и не увлекайся!
Куцитра – сильнейший дурман, особенно пыльца, белым о ней и шептаться-то запрещали, но без нее целителю беда: ни обездвижить больного, ни боль снять, ни самому быстро восстановиться.
– Ты-то как? – только и спросил тогда Адалан.
– Тебе нужнее. Да и в степи куцитра не редкость – еще соберу.
Видно, Ваджра не хуже хранителя все про него понял – ему всегда удавалось понимать тех, кого лечил.
И вот они уехали: купеческая повозка, трое верховых и заводные лошади. Адалан и Кайле подождали, пока отряд скроется за поворотом на городские улицы, и побрели домой. Адалан хотел взять подругу за руку, но вспомнил ее слова и передумал. Так они и дошли до замка, молча, не глядя друг на друга.
Наконец этот безумный день кончился, оставив лишь пустоту, холод и одиночество. Адалан думал, что будет больно, обидно, а может быть, даже страшно, но ничего не было – все проглотила ненасытная бездна. И некому пожаловаться, некого звать на помощь. Вот если бы тут был Ягодка...
Сабаар. Брат.
Мысль о брате сразу отрезвила. Ну и что, что совет не слишком в него верит, Кайле не принимает всерьез, а отец и друзья где-то далеко рискуют жизнью? Это ничего не меняет: он должен заниматься своими делами, потому что никак не может подвести брата. Он должен разобраться в своих страхах и дурных снах, и тогда Сабаар увидит сильного, уверенного в себе мага, которого нет причин бояться и больше не нужно защищать.
Только бы справиться со своим бунтующим даром.
Адалан сжал в кулаке подарок Ваджры – куцитра точно подействует. Еще бы знать наверняка, как? Это не успокоительный настой и даже не вино из ночной невесты, те предсказуемы, но сейчас бесполезны. Сейчас другого способа нет. Одним рывком вскочив с кровати, Адалан схватил кружку, щедро отсыпал из флакона, потом долил воды и быстро, пока не передумал, выпил.
Маслянисто-приторная горечь заполнила рот, горло, покатилась глубже, растекаясь густой тяжестью. Некоторое время он таращился в кружку, пытаясь сообразить, что за глупость вытворил, и в самом ли деле не было другого выхода? А потом накатила дурнота: дрожь волнами затрясла тело, рот наполнился слюной, такой кислой и холодной, что не проглотить. Адалан, с трудом подавив позыв к рвоте, стянул сапоги и вполз на кровать.
Свернувшись клубком под одеялом, он притих и немного согрелся. Вскоре тошнота сменилась вязкой слабостью – ни повернуться, ни рукой пошевелить. Зато и бездна успокоилась: сначала перестала тянуть, а потом наполнилась податливым мягким пламенем. О, Творящие, как же много его было!.. Лилось и лилось, выплескивалось из носа, изо рта, струилось из-под век и из раскрытых ладоней. Расплавило ребра и хлынуло из груди. Ручейки пламени, стекая с кровати, затопили пол, расползлись по коридору, заливая все вокруг сиянием, то голубовато-холодным, то горячим, солнечно-золотым... Адалан сгорал под меховым одеялом, не в силах отпихнуть его в сторону – где уж пытаться укротить огонь? Сейчас все сгорит – понял он, но почему-то остался равнодушен. Комната поплыла, смазалась радужными разводами и закружилась, сначала медленно, потом быстрее, быстрее, пока не исчезла во тьме.
Тьма была тиха и бесконечна, она длилась века... или, быть может, всего миг, – Адалан не знал. Казалось, он умер и уже забыл все: свою жизнь, мир, себя самого. Как вдруг одно прикосновение, легкое и в то же время нестерпимо острое, ледяное, разбудило его, возвращая разом и краски, и чувства.








