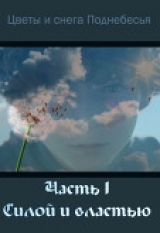
Текст книги "Силой и властью (СИ)"
Автор книги: Влад Ларионов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Силой и властью
Влад Ларионов
Силой и властью
Знамения и проклятия
Люди и нелюди
Чудовище
Названный братец
Подгорные демоны и степной мор
Взрослые и дети
Силой и властью
Знамения и проклятия
1
Начало лета года 613 от потрясения тверди, правый берег Зана, пограничная Умгария.
Великий кнез Умгарии Вадан Булатный объявил войну. Привел объединенное войско племен на границу с Орбинской республикой и встал цепью лагерей вдоль всего полноводного Зана.
Прошел почти месяц – припасы истощились, дичь в округе исчезла, воины от безделья совсем потеряли голову – но кнез не двигался с места. Не то чтобы решимость расквитаться с южным соседом за бесчисленные обиды и притеснения совсем покинула владыку умгар, нет. После того, как он объединил под своей рукой все умгарские земли и провозгласил себя великим, посланным богами, дабы раз и навсегда покончить с господством орбинитов, война стала неизбежной. Да и не зря кнеза Вадана прозвали Булатным: изменить своему слову он не мог.
Но все же было страшно. Напасть на златокудрых – немыслимое дело! Конечно, и Пряный путь, единственный торговый тракт в южные земли, и богатые недра предгорий Поднебесья всегда были вожделенной мечтой любого правителя, но вот пытаться отнять эти богатства у их первородных хозяев никто и никогда еще не отваживался.
– Боги любят и берегут Орбин, – часто говаривал советник владыки, колдун Йенза, словно вещий ворон в крылья, кутаясь в длинный черный плащ. – По своему образу и подобию боги создали орбинитов, дав им силу и власть над прочими племенами. И даже теперь, когда древняя магия почти рассеялась, остатки ее по-прежнему струятся в крови старших семей златокудрых. Неизвестно, чем это обернется, сунься мы с оружием на их исконные земли. Население республики малочисленно, если боги не вмешаются – ты победишь, но если они разгневаются – в войну вступят хранители, победить которых ни одна из человеческих армий не в силах.
Каждый раз Вадан слушал, угрюмо хмурил брови, а потом топал подкованным сапогом и, набычившись, твердил:
– Не отступлюсь!
– Никто не советует тебе отступиться, мой кнез! – отвечал Йенза. – Надо просто выждать. Знамение, подсказка судьбы – вот что нам нужно. Рок сам определит, когда выступать войску.
Кнез послушался колдуна и стал ждать. Ждал он день, три, неделю, другую – знамение не являлось. А тут еще любимый белый кречет, с которым Вадан никогда не расставался, взмыл в небо и не вернулся. Это уж точно не было хорошим знаком. С древних времен на щитах и знаменах умгар парили соколы. Пропал сокол – жди беды. Другой владыка после такого домой бы поворотил. Но Вадан был как булат упрям и непреклонен – он ждал своего часа и верил: боги на его стороне, а значит, благое знамение придет.
И вот оно, наконец, случилось.
В пятый день месяца Журавля перед самым рассветом дозорные увидели чужака. Одинокий путник шел со стороны вражеской границы прямо к шатрам умгарской дружины. Он казался настолько измотанным и слабым, что никто не стал поднимать тревогу, никто даже навстречу не выступил, чтобы перехватить незнакомца еще до лагеря. Дородный детина-копейщик только сплюнул через бороду изжеванный комок ведьмина листа и лениво зевнул:
– Не дойдет.
– Ни меча, ни доспеха – не воин, – отозвался второй дозорный, щуплый и вертлявый, как хорек. Его арбалет мирно полеживал среди высоких колосьев овсюга. – Но и на селянина не похож, нос задрал что твой кнез, землю-матушку видеть не желает. Гляди, ща навернется.
Словно подтверждая его слова, чужак споткнулся, упал, но тут же поднялся и, шатаясь, как пьяный, побрел дальше.
– Видал? – арбалетчик радостно хохотнул. – Вот зараза! Прямиком к господским шатрам метит. Идем, встретим.
– Чего еще ноги мять? Не дойдет.
– А вот коли дойдет, да вдруг лазутчик? Сотник Тай с тебя шкуру спустит, али сам воевода... Эй, ты! А ну стоять!
Арбалетчик подхватил свое оружие и рысцой побежал наперерез незнакомцу, на ходу натягивая тетиву. Копейщик, ругаясь сквозь зубы, потрусил следом.
Пойманный лазутчик оказался мальчишкой лет восемнадцати, грязным, ободранным и таким ослабевшим, что, казалось, вот-вот на ногах не устоит. Тонкая хлопковая туника превратилась в лохмотья, босые ноги сплошь покрывали синяки и ссадины, на облупившихся руках еще краснели подживающие солнечные ожоги, а знаменитые золотистые кудри превратились в подобие старой пакли. Но, несмотря на такое плачевное состояние, не признать в юноше орбинита старшей крови было невозможно.
– Куда прешь?! Сказано: стоять!
Тощий выставил арбалет, его товарищ в знак поддержки пристукнул по земле древком копья.
Мальчишка остановился.
– Мне нужен командир этого войска.
Голос у него оказался низкий и хриплый, как треск пересохших бревен.
– Чего-о? – арбалетчик даже присвистнул. – А в колодки не хочешь, тля орбинская? Да знаешь ли ты, куда приперся?
Пленник шумно вздохнул, закашлялся и сел, почти свалился, на пятки, упершись руками перед собой. Долго пытался отдышаться, потом медленно поднял голову, посмотрел на дозорных. На потемневшем от солнца и грязи лице светлые глаза казались особенно холодными и злыми, а взгляд их, цепкий, сверлящий, пробирал до дрожи.
– Я, Нарайн Орс, сын Озавира Орса, отца-вещателя Высокого Форума Орбинской республики, пришел, чтобы говорить с тем, кто ведет эту толпу дикарей, называемую войском, будь то хоть старший полководец Умгарии, хоть сам великий кнез Вадан Булатный. Я буду ждать здесь, а кто-то из вас, недоумки, метнется и доложит. Или неизвестно еще, кто сядет в колодки.
– Орс, говоришь? Сын Озавира-Миротворца?.. – сотник Тай тут же принялся натягивать сапоги и, даже не дослушав доклада, спешно покинул палатку.
Ради такой новости он самолично побежал с докладом к воеводе Ярде-Скородуму, а тот – к кнезу Вадану. Вадан призвал верного советника, колдуна Йензу, который и присоветовал немедленно посмотреть мальчишку. И вот пленный оборванец вошел в шатер с соколиным стягом и встал на пушистый мизарский ковер перед самим владыкой заклятых врагов своей родины.
Владыка был высок, статен и по виду очень силен, хоть и немолод. Он сидел на резном деревянном троне, неудобном и тесном для такого крупного тела, подозрительно щурил темные близорукие глаза и крутил на палец седоватый ус. Колдун, устроившийся за его спиной, напротив, казался мал и невзрачен. Он совсем потерялся рядом с великаном Ваданом, тем более что в разговор не вступал, а только смотрел и слушал, стараясь распознать, беду или удачу принесет умгарам такой непростой пленник. Прочих своих ближних, даже доставившего мальчишку Скородума, кнез из шатра выгнал. Оставил только личного стража, безымянного и безъязыкого.
– ...а я слышал, Орсов объявили изменниками и всех истребили.
– Как видишь, не всех.
Истрепанный и грязный, хуже последнего нищего, пленник держался и говорил, словно сам был владыкой. Впрочем, так оно и было, если этот сопляк и правда приходился сыном казненному вещателю.
– Ну и что понадобилось златокудрому Орсу в моем скромном шатре?
– Месть, – зло прошипел юноша.
– Месть? – Вадан усмехнулся. – А ведь я буду убивать. Может быть, мне придется убить твоих знакомых, даже близких и родных. Ты уверен?
– Уверен.
Мальчишка едва на ногах стоял, но взгляд по-прежнему оставался холодным, а на лице не дрогнул ни один мускул. Кнезу все больше нравилось его испытывать.
– Я и тебя могу убить. Прямо сейчас.
– Можешь. Но точно ли это тебе нужно? Я – наследник старшего рода, меня учили править. Я знаю, где размещены основные силы республики и как мобилизуется резерв, знаю, как привыкли воевать наши каратели и покровители, могу указать сильные и слабые стороны укреплений или научить, как заставить раскошелиться орбинских торговцев. Думаешь, убить меня – хорошая мысль?
Вадан и Йенза переглянулись.
– Бойкий мальчик.
Кнез опять усмехнулся, а колдун одобрительно кивнул. Немного помолчав, владыка умгар продолжил:
– Говоришь красиво. Хотя кто не знает, что орбиниты горазды зубы заговаривать. Поклянись именами богов, тогда, может быть, я подумаю, верить тебе или нет.
Мальчишка покачнулся, на миг зажмурил глаза, но справился.
– Творящие тут ни при чем, кнез, и мы не на ярмарке, чтобы торговаться. Простого слова Нарайна Орса с тебя хватит, а верить или нет – твое дело.
После таких слов у Вадана зачесались кулаки, только уж больно хлипок был пленник, и без того полудохлый – не прибить бы нечаянно. Пусть пока сопляк покуражится, а сквитаться, если что, всегда можно.
– Что ж, Нарайн Орс, не терплю я продажных и изменникам не верю. Жди, думать буду, сразу тебя на кол или еще на что сгодишься. А ну, – повернулся он к стражнику, – вышвырни этого сучонка вон, да проследи, чтобы не сбежал куда – спрошу потом.
Страж было протянул руки, но, наткнувшись на горделивый, полный презрения взгляд пленника, осекся. Юноша повернулся и вышел сам. Вадан, прозванный Булатным, смотрел вслед и удивлялся: ни обиды или раболепства, ни горячечной ярости, ни страха за жизнь не увидел. Непросто с такими воевать, жутко и муторно. Одно хорошо, со времен потрясения тверди по всей земле и даже в Орбине старшей крови лишь капля наберется.
– Вот тебе и знак судьбы, кнез, – заговорил Йенза, как только они с владыкой остались совсем одни, – уж такой знак, что лучше и желать нельзя. Знает мальчишка что полезное, нет ли, не так важно, главное – он зол на своих и останется с нами. Значит, Орбин воюет с Орбином, а мы – просто союзники одной из сторон, пусть только для виду, но по чести – не придерешься. А уж богов мы попросим! Они любят, чтобы все по чести было.
Однако теперь сомнения появились у Вадана. Вещатель Орс войны не хотел, все старался договориться миром, предлагал уступки, и немалые, но предателем республики он быть никак не мог. По сути разобраться, был он точно таким же заносчивым ублюдком, как все златокудрые, и умгар, равно как берготов с ласатринами, держал за скот, где-то между породистыми лошадьми и мясными свиньями. Так ведь хороший хозяин и свинью свою холить будет, покуда время не придет набивать колбасу.
– С нами ли он, вот бы что знать. А то как это лишь уловка? Военная хитрость... Скажи мне, Йенза, не чуешь ли ты в сопляке какого колдовства, наговора или, быть может, морока?
Колдун задумчиво потеребил жидкую бороденку.
– Магия в нем есть, да и в ком из старших ее нет? Но магия у них не такая, как наша. Наша больше от знаний, от многих навыков, мы силу собираем с мира, по крупицам из мелких, незаметных источников. А у старших источник внутри сидит, в самой их сути. Так и у этого юноши свой источник, только он-то вряд ли об этом думает. Златокудрые своих детей магии не учат. Нечего опасаться. А если ты ему не веришь, хитрости или подлости ждешь – так вели присмотреть хорошенько. Вон, хоть Цвингару в сотню отдай, там не проглядят.
На том и постановили. Сотня Цвингара хоть и была наемной, но почиталась не только умелой в боях, но и одной из самых надежных, и шла первой в войске. Все потому, что подобрались в нее не обычные бойцы, а те, у кого на южных соседей давно заточен собственный зуб: у одного златокудрые пожгли дом, у другого родных продали в рабство, а у третьего и вовсе убили. Так что сына вещателя там скорее прикончат, чем позволят своевольничать. Впрочем, Вадан рассудил, что сразу-то голову не открутят: его гнева побоятся, а если потом, в пылу боя, кто из них нож в спину сунет – так на то он и бой. Война все простит. Всяко, плакать по приблудному некому.
2
Начало лета года 613 от потрясения тверди, правый берег Зана, пограничная Умгария, лагерь кнеза Вадана Булатного.
Нарайну было худо. Он не пил уже почти двое суток, а ел то, что без натяжки можно было назвать человеческой пищей, еще дома, при живых родителях. Пока шел к умгарскому лагерю, питался в основном сусликами или тощими лесными белками: сбивал их камнями, а потом жарил на маленьком костерке, который разводил в балках и низинах, выбирая места поукромнее, благо огниво у него было. А последний раз хлебнул воды, когда переплывал Зан. На левом берегу Зана рощицы и перелески совсем пропали, и суслики вдруг стали такими шустрыми, что камни все время летели мимо...
А еще раньше, в Орбине, он вообще не помнил, ел или нет.
Помнил только, что ради праздника собирал с собой лакомства: кувшин молодого вина, свежий хлеб и сыр, куски печеного окорока в трехслойном коробе, чтобы не остыли, в чистом полотенце – несколько зимних груш на сладкое. И яблочно-виноградную пастилу – для Сали.
«Салема, жена», – столько раз повторял он мысленно, и радость жаркой волной плескала в лицо, оставляя под грудиной тянущую пустоту волнения. – «Салема, любимая!» Только вот отец сказал, что Геленн Вейз ни за что не отдаст единственную дочку в род соперника, можно сказать, врага: слишком велико ее приданое, слишком много влияния и возможностей получат от этого брака Орсы.
Но Нарайну-то было плевать на влияние, он хотел только Салему, а приданое пусть хоть в бездну катится! Тем более, раз Сали тоже его любит, даже сама предложила сбежать и пожениться тайно. Отцу Нарайн ничего не сказал, а матушке проговорился. Она все поняла верно: и угощение для молодых приготовила, и даже кошелек серебра вручила, чтобы было чем заплатить служителю храма за брачный ритуал и записи в книгах. Только напоследок сказала:
– Ох, сынок, боюсь, не будет тебе счастья с этой девушкой.
А он отмахнулся. Что такое материны страхи, когда первая красавица Орбина ждет не дождется объятий и поцелуев?! Так и ускакал, впопыхах даже не обнял... если бы знал тогда, если бы...
В назначенное место Салема не пришла.
Нарайн прождал до зари, все думал, что же могло задержать любимую? А как понял, что уже не придет, вернулся в город.
О том, что отца-вещателя Орса арестовали за измену, гудела уже вся Купеческая площадь. «И самого с женой, и даже маленьких в тюрьму отправили, – не таясь, сплетничали кухарки с зеленщиками и молочниками. – А старшего по всему городу каратели ищут». Нарайн бросился домой, чуть коня не загнал... и попал прямо на засаду. Еле ноги унес, даже сумку бросить пришлось. Впрочем, тогда-то он о сумке не думал, а потом... потом тоже не думал – не до еды было, не до серебра.
Первое время Нарайн не мог уйти. Околачивался в городе, пытался разузнать о родных; был на казни отца, нарочно пришел на площадь, стоял в серой толпе городского сброда и все видел. Потом возвращался ночами. Как бродячий кот пробирался мимо стражи по крышам и заборам, садился где-нибудь под акацией, где тени гуще, и все смотрел на виселицу, на оскверненное тело, смотрел... спрашивал, отчего так? Как могло случиться, что мир в одночасье рухнул? Гордое имя, богатый дом, великое будущее – все кончено. А что стало с его любовью? Боль и ненависть... В том, что именно Вейзы погубили его семью, никаких сомнений не было.
И отца никто не похоронит, не вложит в руку ветвь кипариса, не споет плач над могилой. Честной смерти не дали, а теперь и погребения лишат: Озавира-Миротворца, восемь лет служившего Орбину вещателем, просто зароют в общей яме на тюремном дворе и забудут. В то, что отец мог и правда предать родину, Нарайн не верил и не поверил бы никогда.
Почему-то в те ночи Нарайну стало жизненно важно дать отцу эту злосчастную погребальную ветвь. Не то чтобы он внезапно сделался ревнителем традиций и замшелых мифов, рассказывающих, как Творящие узнают достойную душу по кипарисовой ветке в руке. Просто он должен был сделать что-то в искупление своего греха: мать с малышами гниет в тюрьме, тело отца клюют птицы, а он жив, все еще жив и свободен.
Место казенного могильщика стоило Нарайну последнего имущества, белого плаща из верблюжьей шерсти, но он не жалел: наниматель мог выдать его властям – не выдал, выслушал, посочувствовал и помог. А плащ что? Всего лишь теплая тряпка. Весна уже почти шагнула в лето, месяца четыре и в тунике не замерзнешь, а дальше загадывать незачем.
В день, когда виселицу разобрали, а труп оттащили в тюремный двор, Нарайн вместе с другими могильщиками уже был там и сжимал в кулаке кипарисовую веточку. Пока другие разбирали лопаты, он встал на колени, наклонился к покойникам... и тут же отпрянул в ужасе. Чуть глубже тела отца из-под тощих мощей какого-то старика торчала светлая коса, переплетенная любимой узорчатой лентой матери, а рядом – два детских трупика со вздувшимися животами и сочащимися сукровицей лицами.
Четырех веточек кипариса у Нарайна не было.
Потом он с остервенением, до кровавых мозолей на ладонях, кидал осевшую, слежавшуюся глину и, не обращая внимания на текущие по щекам слезы, шептал: «Я, Нарайн, последний из Орсов, именами Творящих – Любовью, Свободой и Законом, силой и властью старшего рода проклинаю Вейза-нечестивца и весь род его до скончания веков. Пусть благодать для них обернется страданием, прахом могильным – земля под ногами, бездной зияющей – небо над головой. Пусть сам я стану его проклятьем: плоть – клинком, кровь – ядом, жизнь – смертью. И будет так. Сегодня и всегда»...
– ...плоть – клинком, кровь – ядом, жизнь – смертью, и будет так... – повторял он и сейчас, ожидая своей участи среди вражеского лагеря. Если уж умирать – он хотел умереть со словами проклятья ненавистным Вейзам на языке.
Смерть Нарайна не страшила: слишком уж он устал. Так или иначе, все сейчас решится: или ему позволят помыться, накормят и хоть немного дадут поспать, или все просто кончится, что тоже неплохо. "Я, Нарайн, последний из Орсов, именами Творящих – Любовью, Свободой и Законом..."
Из оцепенения его вывел близкий насмешливый окрик:
– Братцы, смотрите-ка, какой гость к нам забрел! Никак прямо из Высокого Форума, а?
Нарайн поднял голову и увидел над собой рослого широкоплечего умгарского воина в красной штопаной рубахе, рваных штанах, опоясанного длинным мечом в богато отделанных ножнах и босого. Лицо умгара так густо заросло темно-русой бородищей, что не разглядеть. Хорошо заметны были только полные злого веселья карие глаза, взгляд которых не предвещал ничего хорошего.
Нарайн не знал, что ответить. Лебезить и кланяться он не умел, а драться сейчас просто не мог. Однако умгару подраться, а точнее поглумиться над обессилевшим пленником, очень даже хотелось.
– Чего молчишь? Родители вежеству не научили? Ну-ка, подымись, когда к тебе обращаются! Или, может, я тебе родом не вышел, чтобы уважение оказать? Так подмогнем ща... – и двинулся прямо на него.
Нарайн и в самом деле не чувствовал в себе сил и решимости дать бой, но приученное за девять лет семинарии тело ответило на угрозу быстрее разума. Умгар едва успел замахнуться, как руки сами подхватили его за локоть, торс развернулся под плечо, а колени упруго распрямились. Здоровенный вояка ухнул спиной на землю, только ноги над головой взбрыкнули. А сам Нарайн уже стоял во весь рост, сжимая в руке обнаженный меч.
Поверженный вскочил, потирая бока, плюясь и ругаясь на весь лагерь:
– Дерьмо собачье! А ну иди сюда, псеныш!..
Тут же со всех сторон сбежалось еще человек двадцать. Все они что-то галдели на своем грубом наречии, Нарайн почти не понимал что. В глазах у него мутилось, голоса сливались в общий гул, он уже думал, что сейчас и сам свалится, сдастся, несмотря на первую победу и отнятый меч, как вдруг отчетливо услышал: "Эй, Дикарь, по тебе работенка нашлась: усмири-ка жеребчика! Ты ж любишь таких, златогривых".
Из толпы выступил невысокий жилистый дядька лет пятидесяти, серый и незаметный с первого взгляда. После громилы в красном он казался хлипким и неопасным, но что-то в чертах лица, в глазах, в по-животному собранной пружинистой позе подсказало Нарайну, что это именно и есть настоящий враг, безумный, похотливо-алчный до крови и боли жертвы. В последнем порыве страха, слабой надежды и отчаянной гордости Нарайн сжал рукоять.
– Убью, – ласково произнес Дикарь и шагнул к мальчишке... но вдруг замер, сжался, задрожал и, чуть не скуля, отступил – сам воздух вокруг орбинита сгустился, потемнел, а из голубых глаз со сжавшимся в точку зрачком выглянула настоящая тварь бездны – первозданное беззаконие.
Толпа охнула, подалась в стороны, а потом и вовсе расступилась, пропуская богато одетого молодого еще мужчину.
– Стоять всем!
Негромкого приказа хватило, чтобы умгарские драчуны затихли.
В подошедшем сразу угадывались и благородство, и привычка к власти, и чужая кровь: стройное, почти хрупкое тело, бледная кожа и красновато-рыжий оттенок темных волос выдавали сына Туманных Берегов Бергота.
Пленный парнишка тоже опустил меч, зловещий мрак вокруг него сразу же без следа рассеялся. Демон бездны снова стал измученным сопляком, жалким и нестрашным.
– Это еще что за непотребство? – бергот обвел глазами собравшихся, большинство потупились, некоторые даже попытались спрятаться за спинами товарищей. – От безделья дурь в головы бьет? Ну так мы ее повытрясем. Юноша этот, – он ткнул пальцем в сторону Нарайна, – теперь с нами. Приказ кнеза. Все слышали? Борас, раз ты у нас тут больше всех орбинитов любишь, веди его к кашеварам: пусть накормят, дадут помыться и платье какое сыщут, не голым же ему ходить. Пшел, живо!
– Слушаюсь, ру-Цвингар, – Дикарь поклонился, но исполнять медлил, все таращился на Нарайна не то с суеверным ужасом, не то со странно-нежной ненавистью.
– А меч... – начал было бородатый, но тут же замолчал.
– Меч парень боем взял, пусть себе оставит, – Цвингар усмехнулся, и толпа вслед за командиром тоже прыснула смехом. – Ты, Вечко, в другой раз думай, чтобы не опозориться. А то сунешься в Орбин, и первый же ребенок тебя ни то оружия – головы лишит.
Теперь толпа зашумела, уже не скрывая веселья. Цвингар выждал минуту и поднял руку, призывая к тишине.
– На рассвете выступаем, слышали? Живо доспехи и оружие проверять! Перед ужином сам смотр устрою и, не попустите боги, если у кого прореху найду, грязь или завязки-пристежки какой не досчитаюсь! Бо, вы здесь еще? Бегом, за дело.
У кухонных костров Нарайну досталась целая бочка воды, чья-то смена одежды, ветхая и слишком для него широкая, но зато чистая, и миска развареной чечевицы, накрытая добрым ломтем серого хлеба. Он долго, с истинным наслаждением смывал грязь, потом переоделся и взялся за еду, но лишь пару раз сунул в рот ложку и больше не выдержал – уснул прямо на траве в обнимку с миской и с краюхой хлеба в руке.
3
Лето года 613 от потрясения тверди, юг Орбинской республики.
На следующий день армия Булатного перешла Зан.
Вопреки всем опасениям, граница республики поддалась легко. Правобережные поля и жиденькие рощи почти без сопротивления легли под ноги умгарским воинам, но городские стены Мьярны уперлись всерьез и надолго. Пять дней раз за разом кнез Вадан посылал свои лучшие отряды на штурм, и всякий раз они вынужденно отступали, оставляя за собой сотни раздавленных и обожженных тел. Слишком уж высока и прочна была крепость деловой столицы златокудрых, слишком велик запас камней и горного масла у защитников. Тогда основные силы обошли Мьярну стороной и отправились вперед. Лишь четыре тысячи воинов под предводительством воевод из числа племенных вождей по приказу Булатного разбили вокруг крепости осадный лагерь. Из камней не наваришь похлебки – думал кнез – и горным маслом не заправишь кашу, а значит рано или поздно многолюдная Мьярна сдастся.
Летящего журавля сменил круторогий бык, а после показала звездный хвост лисица, позади остались поля, пастбища, многочисленные деревни и небольшие городки. И пять кровопролитных сражений. Основные силы умгарской армии соединились с наемными отрядами туманных герцогов и уже бились на подступах к Орбину с севера, а с юга вышли на красный путь, откуда рукой подать до Тирона. Только непокорная Мьярна все еще держалась, не желая сдаваться на милость победителя. Тогда Вадан Булатный в сопровождении двух сотен личной гвардии и наемников Цвингара вернулся под стены города. С грозным видом объехал он осадный лагерь, а потом велел всем воеводам явиться к нему на совет. На совете первым делом спросил вождей-осадников, сколько еще они думают греть животы на солнце? Потому что он, великий кнез всех умгар, терпеть вражеский анклав в своем тылу больше не намерен.
Доран-Корноух, самый дерзкий и языкастый из осадников, вызвался отвечать за всех четверых вождей:
– Мы тоже не рады сидеть без дела, кнез! Сам подумай: любо ли моим парням день-деньской по вытоптанным полям гоняться за последними зайцами, пока другие бьют врага и делят добычу? – говорил он, не то обижаясь, не то оправдываясь, и все дергал обрубленное в давней стычке ухо. – Сперва мы надеялись, что вот-вот кто-то из горожан даст слабину, и ворота откроются, уж тогда и ратных дел, и добычи на всех достанет, но... видно, зря. Колдуны – они колдуны и есть: терпят и пощады не просят. А наши запасы между тем на исходе, и села кругом почти опустели. Как бы самим первыми не спечься...
Пока Доран говорил, а остальные осадники кивали и поддакивали, личные кнезовы сотники недоверчиво качали головами: как-никак полреспублики прошли и никакого особого колдовства не встретили. А ру-Цвингар так и вовсе осклабился, даже не пытаясь прятать презрения к словам Корноуха. Два с лишним месяца осады – и толку никакого, диво ли, что бесстыжий бергот потешается?
– Скучают, говоришь, твои бойцы? Подвига хотят? – переспросил Вадан. – Тогда штурмовать будем. Оголодали или нет, людишки в городе всяко уже не те. Ежели не струсим – одолеем. Не впервой.
– Штурмовать? Снова? – Доран аж в лице переменился. – Так поляжем все, богами клянусь! Под диким огнем, да с таких-то стен разве ж выдюжить?
Тут бы и пришел конец воеводству Корноуха, но на счастье за него заступился черноплащник Йенза:
– Про колдовство – это, конечно, сказки, мой кнез. Только последние невежды не знают, что златокудрые сторонятся магии больше нашего, а уж применять ее в бою и вовсе боятся. Так что колдунов среди них нет, за это я ручаюсь. Но и за то поручусь, что малой жертвой город не возьмем, а у нас еще Орбин впереди, за который старшие семьи будут насмерть зубами грызться. Так что каждый воин на счету.
После слов колдуна Булатный не стал срывать гнев на осадниках, только спросил:
– И что посоветуешь?
– Зови мальчишку, мой кнез, сына Миротворца. Он ведь хвалился, что все хитрости сородичей ему ведомы и готов был их раскрыть? Так пусть отвечает за свои слова.
Про златокудрого мальчишку-перебежчика Вадан и без чужих советов не раз вспоминал. Уж больно хорошо стервец справился с дуарскими купчишками. Тогда, помнится, парнишка сам рвался в переговорщики, обещал устроить так, что город без боя откроет ворота, только просил не убивать, не насиловать женщин и дома не жечь, а взять деньгами. Кнез сомневался, но говорить позволил и даже обещание дал. И ведь не подвел златокудрый! Сумел договориться о бескровной сдаче, о богатой дани и даже о том, что Дуар и дальше будет торговать с соседями, но подати пойдут уже в кнезову казну. Тогда Вадан Булатный впервые оценил свое счастливое знамение по достоинству и возблагодарил богов за то, что привели сына Миротворца в его стан.
Но это было под Дуаром, а от переговоров с Мьярной орбинский упрямец отказался сразу и наотрез. Так какая польза от него теперь? Но раз Йенза советует, пренебрегать не стоит, в этом кнез тоже не раз убедился, потому и сейчас велел берготскому наемнику привести мальчишку.
Нарайн как попал поначалу, так и оставался в сотне ру Цвингара, но держался наособицу, не роднясь и не смешиваясь с остальным отребьем. Да и разве мог он не выделяться, даже если бы захотел? Совершенство, недостижимое для простых смертных со времен потрясения тверди, по-прежнему напоминало, что ни среди разномастных наемников, ни в войске Булатного ему не место.
Впрочем, и того, что сам он за это время сильно переменился, не признать было нельзя. Простая еда, воинский труд, непреходящая боль потери и сотни раз повторенное проклятие превратили балованного ребенка высокородных родителей в настоящего злого воина: мышцы отвердели и налились силой, ладони покрылись мозолями, а душа... душа обросла такой кровавой коркой, что ничего больше не чувствовала. Когда-то – Нарайн еще помнил – его учили, что убийство – самый низкий, самый подлый проступок, недостойный свободного и гордого человека. Человек должен нести ближним свет доброты и заботы, помогать расти над собой, а не унижать, не калечить, тем более не отнимать жизнь. Так всегда говорил отец, и – надо же! – Нарайн до сих пор в глубине души считал это мудрым и правильным. Вот только глубина та стала слишком темна и недостижима, а убивать пришлось...
Убивать пришлось в первый же день похода. Сотня Цвингара держалась в авангарде войска Булатного и вступила в бой сразу, как только перешла Зан. Что там происходило, Нарайн не понимал тогда, не понял и после, просто все бежали, кричали и рубили. И он рубил, не глядя толком кого и куда, и орал от страха, казалось, громче всех, пока не наткнулся на сородича. После случайно удачного удара кровавая пелена вдруг схлынула, и взгляд уперся в распростертое прямо под ногами тело: орбинский каратель всего несколькими годами старше самого Нарайна лежал на спине, беспомощно раскинув руки, и мелко вздрагивал. А из-под развороченной грудины пульсирующей волной выплескивалась кровь. Что помогло тогда устоять, не свалиться рядом, не бросить меч, а, замерев лишь на миг, снова бежать следом за всеми? Гордость, не иначе. И еще страх: страх позора перед наемниками, страх того, что даже этот разношерстный сброд окажется более храбрым и достойным в бою, а он так и не сгодится на большее, чем остаться брошенным среди трупов соотечественников. Гордость и страх не позволили Нарайну дать волю слабости.
Это потом, уже после боя, его долго рвало и бросало то в жар, то в холод. А глаза того парня, вытаращенные, по-орбински ясно-голубые, снились не одну ночь, не давая спать, пока он не научился представлять, что это глаза Геленна Вейза или избранника Айсинара.
Пользуясь передышкой, Нарайн решил подлатать ветхую рубаху, что досталась ему от кого-то из наемников. Этому делу в прошлой жизни его не учили, потому работа не спорилась: игла больше колола пальцы, чем попадала в ткань, нитка путалась и стежки ложились криво. Поэтому, когда услышал звонкий окрик Цвингарова оруженосца: «Златокудрый! Командир кличет!» – он даже обрадовался. Как попало, лишь бы поскорее, закончил работу и, натянув рубаху, поспешил к сотнику.
Когда же узнал, что нужен он вовсе не Цвингару, а самому кнезу, и не для чего-нибудь, а именно для разговора о том, как заполучить крепость, то даже разозлился. И почему только этот болван, возомнивший себя великим правителем, не может уразуметь самой простой истины: с защитниками Мьярны договориться не выйдет! Это дуарцы, слывущие в республике глубокими провинциалами, вечно завидуют и Орбину, и Мьярне, и даже Тирону. Такие на все готовы, лишь бы возвыситься.








