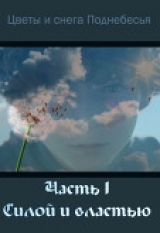
Текст книги "Силой и властью (СИ)"
Автор книги: Влад Ларионов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Половина склянки так и не натекла, но Жадиталь решила: хватит ребенка мучить. Убрала иглу, туго забинтовала худенькую ручонку, а потом поклонилась, низко, с искренней благодарностью, и маленькой степнячке и ее хранителю:
– Спасибо вам обоим, за жизнь. Ни капли зря не пролью, обещаю.
Злой парнишка смутился, выпалил, видно от неожиданности:
– Госпожа магистр, мы здесь, чтобы помогать. Все, что прикажешь...
Сам, видно, не сразу сообразил, что обещает, поэтому вдруг замолчал на полуслове, крепче прижал девчонку и выскочил вон из палатки, только его и видели.
А Жадиталь склонилась над склянкой. С чего начать? Разъять кровь на части, выделить то самое вещество, которое убивает лихорадку, потом вырастить или размножить его магией? А получится ли? Она же не из первородных... вот кто может из ничего сделать что угодно! И ни колбы с пробирками, ни перегонные аппараты им не нужны, ни даже чистая среда с выдержанным режимом – они все создают сами, были бы знания да желание посильнее. И у них, таких-то способных, магия под запретом! Это они, которые могут все, на деле – ничего не умеют, по собственной воле отказав себе в самом прекрасном даре богов. Да если бы на весь мир хоть сотни три златокудрых магов – жизнь бы полностью переменилась!..
Да. Жизнь уже переменилась, как говорят исторические трактаты, предания и даже Песнь Всетворения даахи. Жизнь теперь вот такая: есть магистр-целитель Жадиталь, вовсе не из Орбина, а с Туманных берегов, есть толика крови с лечебными свойствами и полтысячи умирающих больных. Как хочешь – так и крутись. И сколько суранов еще умрет, пока она крутится? И скольких вернут к жизни орденские хранители?
Некогда мечтать и себя жалеть: никто из златокудрых на помощь не придет. Надо работать.
Еще двое суток без сна, лишь с короткими перерывами на еду, еще почти сотня умерших степняков и восемь орденских стражей под серыми плащами... Ее подопытная все цеплялась за жизнь: не приходила в себя, даже не шевелилась, но продолжала сипло тянуть воздух, давая Жадиталь еще один час, потом еще... и еще... К обеду второго дня пришлось оторвать Доду с Ваджрой от ухода за больными. Чтобы не дать бедняжке умереть до конца эксперимента, оба вынуждены были держать ее за руки и непрерывно понемногу делиться силой. Вслед за ними появился и Синшер. Девочка за спиной, подвязанная по-буннански, широким полотнищем, спала: стриженая головенка удобно устроилась на его плече. Памятуя, что уже замучила насмерть его предшественника, да и этот выжил лишь чудом, Жадиталь не решалась даже думать о помощи даахи. Но Синшер пришел сам, сказал, что тут его место, а потом спокойно обнял ладонями голову женщины и замер.
И вот наконец через четыре часа после того, как Жадиталь впрыснула ей в кровь новое снадобье, степнячка задышала ровнее, приоткрыла глаза, а потом спокойно уснула. Не впала в болезненное беспамятство, а уснула настоящим сном выздоровления. Оба белых мага тоже вздохнули с облегчением и бессильно осели на пол. А бледный как смерть Синшер по-детски широко улыбнулся:
– Я сейчас вам чаю с медом принесу! И скажу, чтобы свежей похлебки наварили.
И побежал делиться счастливой новостью.
Тем же вечером Доду и Ваджра унесли чудотворное снадобье в становище. Давали его в первую очередь тем, на кого указывали хранители: молодым и сильным, еще не изувеченным лихорадкой, потом тем, кто заболел недавно и мог быстро выкарабкаться, и уже в последнюю очередь – харкающим кровью старикам и младенцам.
А Жадиталь продолжала трудиться. Новое, невиданное ранее вещество собиралось и копилось в тонкой керамической чашке на ее ладони, обласканное даром, согретое силой всетворения, пронизывающей мир... Жадиталь казалось, что только сейчас, впервые она воочию увидела это: пламя свободы, трепещущее в клетке закона – пути Творящих. Словно златокудрый юноша в кровавых одеждах шагнул из ее сна и встал за плечами, чтобы поделиться теплом, поддержать обессилевшие руки, не позволить драгоценному сосуду упасть и разбиться. И она приняла помощь, молилась, благодарила и думала лишь о том, как устоять до утра.
Утром хранители все разом поняли, что пора: госпожа магистр закончила. Чуть не уморила себя, но лекарства теперь хватит не только самым безнадежным суранам, но и их племенным животным.
– Это важно, – шептала Жадиталь пришедшему за ней хааши Шахулу, – овцы, собаки, и особенно лошади – важно! Как племени выжить без овец и лошадей?.. Надо сохранить стада, слышишь?
– Знаю, девочка, знаю. Мы спасем их скот, сколько сможем, обещаю. А ты уже свое дело сделала, теперь ни о чем не думай – отдыхай.
Хааши Шахул взял на руки едва живую целительницу, слабую и дрожащую, и унес к себе в шатер – отпаивать, откармливать, ставить на ноги.
На следующий день все становище облетела весть: младший сын баирчи Кубар-сура, гордость и надежда племени, юный богатырь Деген-сур поднялся с постели и попросил матушку Жафру подать ему обед. Матушка Жафра конечно тут же достала лепешки, молодой сыр и кумыс, разогрела на углях мясо и заварила багрянку с корешками живкеня, не забыв по такому случаю тряхнуть в чайник одну-другую метелку куцитры, а потом побежала по теткам, сестрам и прочим родственницам делиться великой радостью: сынок излечился от лихорадки! А следом за Дегеном начали приходить в себя другие юноши и девушки из тех, что первыми получили снадобье Жадиталь, и все с улыбками и хорошим аппетитом.
Вскоре и сам баирчи Кубар-сур, еще слабый после болезни, вышел из своей нарядной юрты и склонился у полога соседнего шатра. Вождь суранов благодарил большого зверя за спасение своей жизни и жизни сына, за заботу обо всем его племени и просил принять щедрые дары: тонко выделанные кожи, знаменитые ковры и лучшие яства из личных запасов. А еще лошадей, известных на весь мир скакунов-буннани: по коню на каждого из его выживших стражей – воистину драгоценный подарок. Шахул поблагодарил Кубар-сура, но дары не принял. Сказал, что племя истощено и обнищало – ковры и кожи им самим пригодятся. Припасами велел поделиться с бедняками: его хаа-сар уже давно перестали принимать пищу, даже сам он уже второй день не испытывал голода. А вот лошадей обещал взять.
– Не в дар, уважаемый Кубар, вождь Суранов, только взаймы. Когда завершится наша служба, моим воинам надо будет как-то добраться до Тирона. Там мы можем передать лошадей торговцам из степняков-буннанов, чтобы пригнали назад или от вашего имени продали.
На том и порешили. Кубар-сур назвал имена доверенных торговцев и чрезвычайно довольный благородством спасителей, которых только неделю назад сам же считал тварями бездны и божьей карой, насланной на его народ за неизвестные прегрешения, удалился в свою юрту.
За следующие пять дней не умер никто, зато больше половины больных пошли на поправку, начали есть, пить, выходить из юрт, чтобы вдохнуть вольного степного ветра. Племя ликовало. Постепенно утешились даже те, кто потерял родных и близких: смерть приходит по воле богов, но их же волей жизнь продолжается.
Только Менге-сур никак не мог обрести покой: его первенец-сын и маленькая дочка сгинули в дыму погребальных костров, а больную жену забрал один из проклятых горных демонов, прикидывающихся людьми. Забрал, унес в свое стойбище, и с тех пор Менге-сур ее не видел. Несколько раз он набирался терпения и, смирив гнев, спрашивал у мальчишек, что ходили следом за демонской ведьмой, жива ли его Улсу. И мальчишки отвечали: жива, мол, жди, поправится твоя Улсу и вернется. Но Менге-сур уже не верил.
Правда однажды, пробравшись к наособицу сгрудившимся шатрам демонов, Менге вроде бы услышал голос Улсу. Не обычный ее сильный, звучный голос, не тот, который привык ловить, возвращаясь в стан с пастбища... Бывало, юрты еще только показались из-за холма, а ветер уже доносит веселую песню. Что бы ни делала его Улсу – чесала ли шерсть, пекла ли лепешки к ужину, чинила ли изношенную одежку – она всегда пела. А когда спрашивал, смеялась: это, мол, чтобы муж любимый знал, что ждут его у очага, с радостью ждут, а не со слезами.
А в этот раз он услышал не песню, лишь просьбу подать воды, а потом стон, жалостливый такой, мучительный. И сразу понял: это она! Вон в том большом шатре прямо за пологом. Только за полог-то его не пустили. Как из-под земли вырос перед ним горный демон с горящими глазами-углями, оскалился:
– Уходи. Здесь госпожа магистр никого не принимает. Скажешь что – я передам, а сам уходи.
Менге сказал, что не нужна ему никакая госпожа, только суранка, которую держат в этом шатре.
– Она больна, – ответил демон, – здесь ей помогают. А тебе незачем в лабораторию мага грязь таскать.
Менге тогда уперся, спорить начал, что голос точно признал и ошибиться никак не мог, тут держат его Улсу, жену Менге-сура перед богами. Что за ней пришел и без нее не уйдет.
Тогда демон совсем взъярился, аж морду свою звериную сморщил: того и гляди падет на четыре лапы да в горло вцепится. Никогда Менге-сур не был трусом, и тут думал устоять, только сам не понял, как ноги унесли в другой конец стойбища, подальше от белых шатров, от магов и злобных оборотней.
Уйти-то он ушел, но позже, когда страх улегся, вернулся. И потом, много раз к большому шатру пробирался, но так и не смог увидеть свою Улсу, даже голос ее пропал, будто почудилось ему от тоски и горя то, чего не было.
С тех пор боль в сердце начала пухнуть обидой, гнить черной яростью. Разве есть такой закон, жену от мужа прятать? Да и зачем прятать, если жива, если лечат ее пришлые, зла не творят? Только он-то ни в какое лечение не верил, ни на какую помощь и заботу тварей не надеялся. Это других демоны обманули, его же, Менге-сура, не проведешь! Слишком хорошо помнил, каким холодом светились глаза большого зверя, когда тот убивал его детей, какой силой вспыхнули от их смерти.
И вот теперь лихорадка прекратилась: сгинула неизвестно куда, как и появилась, в одночасье. Костры догорают – никто больше не мрет в стойбище суранов, а больные поправляются. Вот уже родичи Менге начали считать стада, осматривать пастбища, трясти-латать свой скарб: каждый пастух на счету, каждая мастерица при деле... Один Менге бродит неприкаянный. А зачем ему трудиться, для кого? Когда от соседей-олонов привез он свою Улсу, отец девушки отдал молодым десяток кобылиц, белогривых, тонконогих, самых пригожих статей... западным торгашам такие и во сне не снились. А как через год принесли его красавицы первых жеребят, Менге думал: будет и сыну наследство, и дочери приданое. И в этот мор – вот же боги посмеялись – все его лошади уцелели. У других половина скота пала, а то и больше, а на его дальних пастбищах – все живы-здоровехоньки.
Только теперь нет у него ни сына, ни дочери, ни жены-красавицы, а без них и ему жить незачем. Так решил Менге. Лошадок своих младшему брату отдал, а сам стрелки выбрал ровные и сел наконечники править. Уж если не быть ему счастливым рядом с Улсу-певуньей, если его детям на свете не жить, неужели их убийце по-прежнему дышать и радоваться? Не может быть, чтобы боги такое допустили! А раз так – с божьей помощью и Менге-сур напоследок посмеется.
Во второй раз все обернулось серьезнее. Нет, в обмороки Жадиталь не падала, связи со временем не теряла, и вещие кошмары обходили стороной. Но и без того было понятно, как она ослабела: ни головы поднять, ни даже на другой бок самой не повернуться – немощная старуха, да и только. В другой раз Жадиталь бы сердилась, от одной злости встала бы с постели и пошла навещать больных. Ну и что, что снадобье ее подоспело вовремя, а значит, опасность минула, и теперь можно не беспокоиться? Все равно уважающий себя и свое дело целитель должен осмотреть каждого, да не по разу, а потом все подробно описать: отчего началась лихорадка, какими симптомами, как протекала и как теперь происходит выздоровление. Все это нужно, необходимо даже: однажды другому лекарю понадобятся ее знания, и, быть может, спасут не одну жизнь...
Так думала Жадиталь, когда просыпалась в шатре хааши Шахула, и сама же понимала, что никуда пойти не сможет ни сегодня, ни завтра, да и послезавтра старый Волк ее не отпустит. Будет рычать, что дурные девки лезут не в свое дело: детей рожать надо, а не изводить себя магией и чужой заразой; а потом просто положит ладонь на лоб, прикажет спать – и будет магистр Жадиталь спать, как младенец – спорить с хааши в таких делах бесполезно.
Вся надежда на то, что Доду с Ваджрой не оплошают: опишут как следует и саму лихорадку, и тот способ, которым удалось ее победить. Мальчишки у Жадиталь молодцы, о таких учениках любому магистру в Тироне только мечтать! Так она думала и снова засыпала.
Настоящая бодрость пришла на пятые сутки к вечеру, и сразу же захотелось подняться, потянуться всем телом, размять ноги. А потом и больные вспомнились. Как там дела у матушки Юлхан, наставницы всех суранских мастериц? У малюток-близнецов Дардана-кожемяки? У других безнадежных, последними получивших лекарство? Живы ли теперь, многих ли она успела спасти? А те, что поправились – вполне ли они здоровы? Не осталось ли необратимых последствий? С такими мыслями Жадиталь поднялась и начала одеваться, когда в шатер вернулся хозяин. Жадиталь думала, Шахул ее обругает и вернет в постель, но он только улыбнулся и кивнул:
– Прогуляться – дело хорошее. Нечего молодые бока отлеживать, если сила вернулась в тело. Только одну не пущу, сам все расскажу и покажу, спрашивай.
Жадиталь была не из тех, кто любит праздные прогулки, так что пришлось старому хааши водить ее по всему стойбищу, навещать каждого, кого она помнила и лично лечила. Одно хорошо: теперь обход больных не был тяжелым, вытягивающим последние силы, потому что почти все поправлялись: радовались ее приходу, хвалили милостивую колдунью, кланялись и даже в ноги падали. Жадиталь начала гордиться своим успехом, а Шахул только поглядывал да посмеивался: видишь, мол, какая ты у нас волшебная целительница.
До лаборатории дошли только в сумерках, заглянули, увидели на одной из двух лежанок в уголке спящую степнячку, а у нее в ногах – Ваджру, свернувшегося калачиком, как ребенок. И решили не будить.
– Раз все спокойно, значит, порядок, – сказал Шахул. – Если уж так надо самой везде нос сунуть, завтра ее осмотришь.
– Да, можно и отложить, – согласилась Жадиталь. – Но завтра – обязательно. Наверняка ей до сих пор нужна помощь.
Этой больной больше всех досталось: десятки уколов и надрезов, несколько опытов, пока наконец не отыскалась верная структура, и лихорадка не была побеждена.
Жадиталь грустно улыбнулась:
– Я ей обязана. Как ни истязала, бедняжка все вынесла. Без этого не было бы никакого лекарства, но она наверняка меня ненавидит.
– Зато жива, – отозвался хааши. – И какой ценой! Будь моя воля, я бы дал ей умереть, девочка. Тихо умереть, спокойно, без боли. Но ты – ты вцепилась намертво. И спасла.
Похвалил и приобнял за плечи:
– Ночь уже. Иди к себе, ложись спать. Нет больше нужды в стариковской постели ночевать.
Но спать не хотелось: и так все бока отлежала, на пять лет вперед выспалась. Хотелось подышать запахом луговых цветов, прохладным вечерним ветром, в котором угадывалась легкая сырость и плеск далекой речки на перекатах.
– Спасибо, хааши Шахул. Ты иди, а я еще побуду.
И Жадиталь, оправив складки подола, хотела сесть прямо на траву у входа в лабораторию.
– На земле не сиди. Едва встала – опять сляжешь, – проворчал даахи и стянул с плеч меховой плащ. – На вот, накинь да подстели, не изжарит.
Жадиталь благодарно кивнула и послушалась. Шахул еще задержался, будто не решаясь оставить ее одну, но потом, глянув на белеющие совсем рядом палатки миссионеров, все-таки повернулся и направился в темноту.
Вернувшись в свой шатер посередине стойбища, Шахул улегся на постели. Несмотря на неделю бодрствования, спать совсем не хотелось. Его хаа-сар давно не нуждались ни в еде, ни в отдыхе – их с лихвой питали страдания больных суранов и их ранние смерти. За пару дней до того, как Жадиталь нашла снадобье, избыток боли накрыл и хааши: ни передышки вдали от людей, ни самые добрые песни не приносили облегчения. Он уже не оборачивался, – боялся так и остаться злобным зверем – но и в облике человека слышал и чуял как зверь. Вот и сейчас, лежа на своем тюфяке, отчетливо ощущал запах молодого женского тела и невольно думал о целительнице.
Маленькая человеческая женщина, почти девчонка: плотное сильное тело, нежная кожа, кровь с молоком, сияющие вишнево-карие глаза... сейчас она очень изменилась: похудела, осунулась, румянец сполз со щек, под глазами залегли густые тени. Только сами глаза все такие же яркие, упрямо-уверенные. Не зря он взял с собой эту берготку, ох, не зря! Она справилась со всеми бедами: не испугалась заразы, одолела боль, вынесла тяжесть труда и все-таки победила лихорадку. Но Шахул по-прежнему оставался даахи, а значит, считал, что девчонке не место там, где страдают и умирают. Как только все это закончится, и тиронские миссионеры вернутся в Серый замок, он сам, лично позаботится, чтобы магистр Жадиталь получила все, для чего рождаются на свет женщины: любовь, страсть и нежность мужчины, доверчивую привязанность дитя. Пусть познает свой удел и уж тогда, если судьба снова позовет, мчится на край света спасать чужие жизни... А может, и не придется? Может быть, лекарке понравится быть матерью и супругой?..
Размышления прервала острая горячая боль, прямо под сердцем пронзившая тело насквозь. Шахул вскочил, выбежал из шатра, и услышал перепуганный мальчишеский голос:
– Госпожа магистр?.. Госпожа! Помогите, кто-нибудь! Госпожу Жадиталь убили!
Шахул кинулся через все становище. Он уже знал, четко видел перед глазами, что ждет его на пороге лаборатории.
И не ошибся: перепуганный насмерть Ваджра сидел на земле и пытался удержать тело наставницы, безжизненно обвисшее на его руках. Из груди Жадиталь торчало древко стрелы с острым плоским наконечником, а ее оперение терялось под телом, среди меха волчьей накидки. Из буннанского лука, можно свалить и антилопу, и кулана. А уж стрелять степные охотники умели... Еще не успев увидеть, хааши почувствовал: целительница мертва.
И черно-багровая пелена разом заволокла глаза. «Все ко мне, быстро!» – мысленно приказал он стражам, вложив в зов всю силу своей боли и ярости, и опустился на колени рядом с мальчишкой.
– Маг-гистр Шахул, помогите, – заикаясь, выговорил тот. – Он т-туда побежал, к рек-ке... догнать?
– Догоним, мальчик. Дай-ка ее мне, – он осторожно забрал тело Жадиталь из рук ученика и чуть на бок уложил на свои колени. – Вот так, девочка... Таль, слышишь? Потерпи немного, все будет хорошо, родная. Все будет хорошо.
Явившиеся на зов хаа-сар, все как один испуганные и злые, собрались вокруг. Шахул всматривался в глаза стражей, выискивая того, кто еще сможет сохранить здравый рассудок, и не находил. Подоспевший Рахун нашел такого первым:
– Такир!
Парень из самых старших шагнул вперед и обернулся крупным косматым зверем. Прижал уши, клацнул оскаленными зубами; бурая шерсть встала дыбом на загривке.
– Ко мне подлеца, – приказал Шахул. – Живым!
Такир качнул рогами, развернулся и, разбежавшись, взвился в ночное небо.
Поймает – разорвет, не иначе... но это как-то сразу стало неважно. Мысль об убийце пронеслась и исчезла вместе с улетевшим в погоню стражем. Все заслонили мысли о молодой целительнице. Жадиталь... она единственная стала его миром, его жизнью.
– Таль, девочка моя, терпи.
Шахул переломил стрелу и начал осторожно вытягивать древко из тела, продолжая, как заклинание, повторять ее имя:
– Нет, Жадиталь, не уходи. Держись за боль, родная, слушай. Надо держаться, Жадиталь, я знаю, что тяжело... но надо. Я тут, Жадиталь, с тобой. Все будет хорошо.
И старая забытая песня, светлая и радостная, та самая, которую он когда-то пел своим новорожденным детям, сама собой родилась в груди.
Менге-сур и четверти пути до реки не одолел, когда небо над ним потемнело, свет луны погас, и большие крылья захлопали прямо над головой. В следующий миг он понял, что летит, перекинутый за спину крупного зверя. Сердце вскачь пустилось, кишки взметнулись к горлу, и прошиб холодный пот: земля осталась далеко внизу, перед глазами запрыгали-заплясали звезды. А все, что удерживало его в небе – это слюнявая пасть жуткого демона, его зубы, вцепившиеся в ворот стеганой куртки. Менге било и мотало, как плохо притороченную седельную сумку: того и гляди оторвется. И хорошо бы! Он заранее знал, что горные демоны убийства не простят, и готовился к смерти. А раз все равно умирать – лучше упасть и разбиться, чем ждать клыков чудовищных тварей или колдовской казни. И он начал молиться, чтобы челюсти демона не выдержали веса и разжались. Но не успел Менге воззвать к богам, как демон опустился, швырнул его на землю, поддав рогами напоследок.
– За что?! – зазвенел откуда-то сверху мальчишеский голос. – Посмотри на меня, убийца, и скажи: почему ты это сделал?! Она лечила вас, не спала, не ела, сама чуть не умерла! Она вас спасла! А ты...
Голос сорвался на всхлипе.
Менге поднял голову и в свете факелов увидел столпившихся вокруг демонов, а среди них – пучеглазого, как лягушка, парнишку, спутника ведьмы. Тогда, забыв о страхе, он встал во весь рост и расправил плечи: пусть его убьют, пусть разорвут или изрубят мечами – все равно! Он сделал, что было нужно, и ни о чем не жалеет. Так он и хотел ответить, когда услышал другой голос, и сердце опять метнулось вниз и подскочило к горлу: это был он, самый злейший враг, предводитель тварей, большой зверь, как называл его баирчи Кубар-сур. Откуда, как?! Ведь Менге-сур убил большого зверя, только что! Ну и что, что темно? Он узнал лохматый волчий мех и выцелил точно! Менге всегда был метким стрелком, и не возвращался пустым с охоты.
– Не плачь, Ваджра – сказал зверь мальчишке, – ведь ты мужчина, маг. Жадиталь не понравится, – а потом уже Менге: – Мальчик спросил тебя – отвечай.
И тут Менге понял: зверюга жив и невредим, а завернутая в волчью накидку на его коленях лежит их девка-ведьма, мертвая. В первый миг Менге-сур растерялся: женщину убивать он не хотел. Но боль и злость снова взяли верх: не хотел – ну так что? Они убили его детей, похитили жену, они даже не сказали, что с ней случилось – только посмеялись над его горем. Вот теперь пусть плачут ведьмины мальчишки, пусть горюет большой зверь и все его твари, а он, Менге, будет смеяться! И он ответил:
– Я не хотел ее убивать, я метил в тебя, проклятый демон, убийца моих детей! Ночь и волчий мех обманули меня. Что же, значит, боги так судили: я скорблю по жене и детям, а ты будешь горевать по своей ведьме. Вижу, она тебе дорога.
После этих слов Менге ждал, что его собьют с ног, свяжут или, может быть, разорвут на месте, сам он точно так бы и сделал. Но твари даже с места не двинулись, только смотрели, разглядывали его злобными светящимися в темноте глазами. Только второй спутник ведьмы выскочил вдруг из толпы и молча бросился на Менге. Один из демонов тут же подхватил его и отдернул в сторону, прижал к себе, отнимая нож.
– Пусти, я его убью! – зашипел мальчишка.
Но демон не отпустил. А большой зверь заговорил снова:
– Никто больше никого убивать не будет, Доду. Такир, проследи.
Демон в зверином обличии качнул рогатой головой, а потом ударил Менге, заставляя опуститься на колени, и сам встал рядом. Хвост его с острым костяным шипом так и вился, грозя в любой миг приколоть к земле, как суслика.
– Моя смерть утешит тебя, пастух? Утолит твою скорбь, залечит раны? – устало спросил большой зверь, и Менге понял: он говорит с ним, но не ждет ответа. – Тогда оставайся и смотри.
А потом наклонился к своей ведьме и улыбнулся:
– Вот и все, родная. Сегодня не будет больше боли и страха. После – будут, много, как и тепла, и счастья. Но ведь такова жизнь, правда?
Менге сур слушал и не понимал, что это. Зверюга из ума выжил? Или бредит от горя? К чему эта радость? Зачем он уговаривает покойницу?
Между тем старик протянул руку и попросил нож, а потом уверенными движениями дважды рассек жилы от запястья до локтя. Черная в темноте кровь густо полилась по руке, собираясь лужицей в ладони. Большой зверь поднес руку к щеке ведьмы и слил эту лужицу между мертвых губ.
– Возвращайся, девочка. Тебе еще не время.
Жадиталь сглотнула... и очнулась.
Голова кружилась, и в ушах зудел тонкий звон. Боли в спине и груди не было... вернее не было привычного ощущения телесной боли – боль была вокруг, везде. Целый океан боли окутывал все в мире, сам воздух был пропитан ею. Боль текла, струилась сквозь Жадиталь, пронизывая тело и душу волнами, мучительными и одновременно сладкими: живая... Я – живая! Осознание жизни чуть было снова не лишило ее чувств.
Но Шахул снова поднес ладонь, и между губ полились теплые струйки. И она снова глотнула.
Кровь.
Все: ее лицо, одежда и волосы, его руки и косы, мохнатая меховая накидка – было залито кровью. Кровь, темная, пахнущая тяжелой сладостью, обильно стекала по руке старого хааши. Другая рука, поддерживающая Жадиталь, все еще сохраняла твердость, но глаза, прозрачные, изумрудно-зеленые в темноте, уже тронула пелена смерти: рассудок едва цеплялся за знакомые образы, готовый вот-вот соскользнуть в бездну и пропасть.
– Хааши Шахул! – она высвободилась из кольца рук и сама, обхватив плечи хранителя, прижала его к груди, – Надо остановить кровь...
Он чуть заметно качнул головой: «нет» – и улыбнулся. Никто в целом свете никогда ей так не улыбался! Мир вокруг полыхнул яркой мозаикой, готовый вот-вот рассыпаться, если вдруг эта улыбка погаснет...
А ведь Жадиталь знала, что это. Она уже видела такое раньше, для других. Теперь – для нее. Старый Волк уходил, прихватив с собой ее смерть, и был счастлив.
– За что мне это, хааши Шахул? – тихо спросила она, пытаясь растянуть непослушные губы ему в ответ.
– Я не смогу жить вечно, девочка... Мои правнуки – уже мужчины. А ты молода, у тебя нет детей. Роди дитя, Жадиталь. Обещай.
Проклятье! При чем тут дети?.. Ведь он же умирает! Ради нее!.. И почему слезы никак не кончаются? Она не может сейчас реветь, не должна! Потом... она нарыдается потом. А сейчас пусть он не увидит боли и жалости – только счастье. Она снова изо всех сил улыбнулась.
– У меня даже мужа нет... – говорить! Говорить что угодно, только не молчать, – даже друга. А ты – дети! Откуда им быть?
Жадиталь видела последнее тепло жизни, медленно стекающее каплями из ритуальных ран, чувствовала, как холод вползает в его тело, как немеют руки и ноги, и свет меркнет перед глазами. Потому подобрала меховую накидку и как могла укрыла его плечи и грудь.
– Не суетись... просто побудь со мной, пока я засыпаю.
Шахул по-прежнему улыбался, но за ярким счастьем была еще и отчаянная нужда в тепле и заботе – Жадиталь чувствовала. Сама не знала, как это происходит, но сейчас она чувствовала очень остро: и его безграничную любовь к ней, и страх – он боялся потерять близких, боялся их горя и скорби, боялся смерти. А больше всего боялся одиночества, ведь даахи никогда не бывают одиноки при жизни.
– Ты не будешь один, я останусь с тобой, не бойся.
– Туда уходят поодиночке... Таль, обещай мне: ты дашь жизнь. Ты должна... пусть у тебя будет ребенок.
Она хотела ответить, но он не позволил перебить себя:
– Помолчи, девочка... Нет супруга – не важно... найди лучшего и просто попроси. Сделаешь?
– Я сделаю все, что ты скажешь, хааши Шахул, – слезы уже сплошным потоком катились из глаз, и она даже не пыталась с ними бороться.
– Какая же ты красавица, девочка моя... не горюй: я – счастлив.
Тело было таким тяжелым, невыносимо. Но тут рядом опустился Рахун и помог уложить его на землю. А потом обнял, позволил прижаться к плечу и реветь, реветь громко, сопливо, не сдерживаясь.
Взрослые и дети
1
Начало лета года 637 от потрясения тверди (двадцать пятый год Конфедерации), Красный путь,Серый замок ордена Согласия, Тирон.
Колеса поскрипывали, взбивали струйки мелкой белесой пыли. Из-под копыт лошадей пыль поднималась еще гуще, и потому стражи старались держаться поросшей травой обочины. Правили повозкой Доду и Ваджра по очереди, а Жадиталь сидела у заднего бортика, то и дело вертя головой: пересчитывала всадников. Беспокоилась: их осталось мало, так мало! Из двух сотен тиронских стражей теперь не набиралось пяти десятков, и те – измученные, угрюмые, молчаливые. Почти все время озлобленные.
Один такой в облике зверя лежал рядом с ней, свернувшись клубком на собранных шатрах. Такиру слишком дорого далось последнее обращение: стать человеком он уже не мог. Все дальше уходил по звериной тропе от трезвого разума к ощущениям и предчувствиям. Пока миссионеры заканчивали дела: осматривали животных на дальних лугах, делились лечебными снадобьями и остатками припасов, давали последние советы, он все рыскал вокруг лагеря, охотясь на шакалов и до смерти пугая пастухов. За время мора падальщиков вокруг стойбища развелось несметно, сила и звериная злоба Такира, его жажда убивать были весьма полезны, и Рахун не мешал ему, только наблюдал издали. А когда отправились домой – усыпил. Жадиталь спросила, почему хааши не помог стражу обратиться, и он сказал:
– Так лучше, безопаснее. Разум Такира слаб, может не выдержать боли, которую пережил, охотясь в шкуре зверя. Да и сам я сейчас не слишком-то способен на добрые песни. Вот доберемся до замка, Хасрат и Фасхил помогут ему вернуться и очиститься, а до тех пор покой и сон для него лучшее лекарство. Присмотришь?
И она присматривала: гладила косматую спину, когда он ворочался и тревожно вздрагивал, время от времени поила полусонного.
Иногда, когда сон Такира становился поверхностным и прозрачным, Жадиталь ловила отголоски его видений. Тогда степь уплывала вниз, превращаясь в перевернутое блюдо, и она уносилась к солнцу, взбивая облака мощными ударами крыльев, а потом, когда воздух переставал держать, – падала... падала, рушилась, разбивалась... Сердце сжималось так, что хотелось кричать.
Тогда Жадиталь изо всех сил распахивала глаза, чтобы прогнать видения, наклонялась к зверю и шептала в самое ухо:
– Все хорошо, Такир, повернись на юг, ну же! Повернись, посмотри...
Сама тоже поворачивалась к югу, вглядывалась в горизонт, чтобы увидеть у кромки неба синеющий зубчатый хребет Поднебесья. Потом клала рогатую голову себе на колени и заводила старинную берготскую колыбельную.
...И в простеньком мотиве всплывал из тумана ее родной замок в две приземистых башни с несколькими обветшалыми домишками вокруг; большой прокопченный очаг в кухне, где она вместе с сестрами помогала старой кухарке варить уху и печь хлеб; отец, ворчливый, рано состарившийся калека, с трудом волочащий ноги за костылями; всегда тихая, ласковая матушка.








