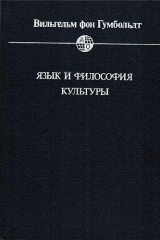
Текст книги "Язык и философия культуры"
Автор книги: Вильгельм фон Гумбольдт
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Если же государство пожелает идти дальше и добавить к своему попечению о религии новые средства, то никогда не следует забывать о необходимости соотнести их пользу с их возможным вредом. Насколько многообразен вред, возникающий из ограничения свободы мысли, не нуждается, вероятно, после всего сказанного, в дальнейших пояснениях; в начале данного раздела также содержится все, что я считаю нужным сказать о вреде любого положительного содействия распространению религии со стороны государства. Если бы этот вред распространялся только на результаты научного исследования, если бы он вносил только неполноту и ошибочность в наше научное познание, то попытка сопоставить пользу, которую ждут от подобных действий – если ее действительно можно ждать, – с вредом могла бы, пожалуй, иметь некоторый смысл. Но поскольку дело обстоит не так, вред оказывается намного значительней. Польза, связанная со свободным исследованием, распространяется на весь характер нашего мышления, и не только мышления, но и на характер нашей деятельности. Человек, который привык наедине с собою и в беседах с другими судить об истине и заблуждениях и выслушивать суждения других, безотносительно к внешним условиям, способен более глубоко продумать, последовательнее провести и рассмотреть на более серьезном уровне принципы своей деятельности, чем тот, кто в своей работе беспрестанно руководствуется обстоятельствами, не связанными с самим исследованием. Исследование и основанное на нем убеждение есть самодеятельность; вера – надежда на чужую силу, чужое интеллектуальное или моральное совершенство. Поэтому в мыслителе-исследователе больше самостоятельности, больше уверенности; в преисполненном же надежд верующем больше слабости, инертности. Правда, там, где вера полностью господствует и подавляет всякое сомнение, она создает еще более непоколебимое мужество, еще более неодолимую силу – в этом убеждает нас жизнь всех фанатиков. Однако желательна эта сила только там, где речь идет об определенном внешнем результате (для достижения которого требуется только такая деятельность, которая по своему типу напоминает деятельность машины), но не там, где ждут самостоятельных решений, обдуманных, основанных на разумных основаниях действий, или даже внутреннего совершенства, так как сила верующего – следствие подавления всякой самостоятельной деятельности разума. Сомнения мучительны только для того, кто верует, но не для того, кто проверяет их, основываясь на собственном исследовании, ибо для него результаты вообще не имеют такого определенного значения, как для верующего. В процессе своего исследования, своей деятельности он осознает свою душевную силу, чувствует, что его истинное совершенство, его счастье зависит, собственно говоря, от этой силы; сомнения в положениях, которые он до сих пор считал правильными, не угнетают его; напротив, его радует, что возросшая сила мышления позволяет ему обнаружить ошибки, которых он раньше не замечал. Верующий, наоборот, интересуется только результатом, потому что за пределом раскрытой истины он не видит более ничего. Сомнения, возбуждаемые его разумом, терзают его, ибо они не являются для него тем, чем являются для самостоятельно мыслящего человека, – новым средством постижения истины; они только лишают его уверенности, не оставляя ему никакого иного средства добиться истины другим путем. Продолжая эту мысль, можно заметить, что частичным результатам вообще не следует придавать слишком большого значения, полагая, что от них зависит столь много других истин или внешних и внутренних последствий. Это ведет к застою в исследованиях, именно поэтому иногда самые свободные и просвещенные мысли бывают направлены против той самой основы, без которой они никогда не могли бы возникнуть. Сколь важна духовная свобода, столь же вредно ее любое ограничение. Государство располагает вполне достаточными средствами для поддержания действия законов и предотвращения преступлений. Надо только закрыть, насколько это возможно, источники безнравственных поступков, которые обнаруживаются в самой государственной системе, усилить надзор полиции за совершаемыми преступлениями, установить систему целесообразных наказаний, и цель будет достигнута. Разве можно забыть, что сама духовная свобода и просвещение, процветающие только под ее покровительством, служат самым действенным средством для сохранения безопасности? Если все остальное только предотвращает нарушение порядка, то это средство влияет на склонности и общую настроенность; если все остальное лишь приводит в соответствие друг другу внешние действия, то духовная свобода вызывает внутреннюю гармонию воли и устремлений. Когда же, наконец, перестанут придавать большее значение внешним следствиям поступков, чем внутренней духовной настроенности, из которой они проистекают? Когда же появится человек, который будет для законодательства тем, чем Руссо был для воспитания, тот, кто переключит внимание с внешних материальных успехов на внутреннее развитие человека?
Не надо думать, что духовная свобода и просвещение нужны лишь немногим избранным, что для большинства людей, которые поглощены заботой об удовлетворении физических потребностей жизни, духовная свобода и просвещение принесут не пользу, а только вред, что воздействовать на них можно лишь распространением определенных законоположении, ограничением свободы мысли. В самой мысли – отказать какому бы то ни было человеку в праве быть человеком – заключено нечто унизительное для человеческого достоинства в целом. Нет человека, который стоял бы на такой низкой ступени культурного развития, чтобы не быть способным подняться на более высокую; и даже если высшие религиозные и философские идеи большинством граждан непосредственно восприняты быть не могут, даже если этому классу людей, применяясь к бытующим в их среде идеям, надо предлагать истину в другом виде, чем мы хотели бы, если окажется необходимым обращаться больше к их воображению и их сердцу, чем к холодному разуму, то распространение, которое получит научное познание благодаря свободе и просвещению, достигнет и их, и благодетельные следствия свободного, ничем не ограничиваемого исследования охватят дух и характер всего народа вплоть до самых ничтожных его представителей.
Для того чтобы придать этим соображениям (которые преимущественно относятся только к стремлению государства распространить определенные религиозные догматы) большую всеобщность, мне придется еще раз напомнить о выдвинутом выше положении, согласно которому влияние религии на нравственность зависит в гораздо большей степени, если не исключительно, от той формы, в какой религия как бы существует в человеке, чем от содержания священных догматов, которые она ему предлагает. Между тем все распоряжения государства имеют в виду, как я пытался выше обосновать, в большей или меньшей степени только это содержание, тогда как доступ к форме – если мне и дальше будет дозволено пользоваться этим выражением – для них полностью закрыт. Как религия сама собой в человеке возникает, как ои ее воспринимает – все это полностью зависит от характера его бытия, мышления и чувств. Если допустить, что государство могло бы преобразовать все это в соответствии со своими намерениями – хотя невозможность этого очевидна, – тогда следовало бы признать, что я потерпел полную неудачу в разработке всех предшествующих положений, поскольку мне здесь вновь пришлось бы повторить все те основания, которые запрещают государству когда бы то ни было самовластно пользоваться человеком для осуществления своих намерений, игнорируя его индивидуальные цели. О том, что для этого нет абсолютной необходимости, которая только и могла бы оправдать исключение из этого правила, свидетельствует независимость морали от религии, что я и пытался доказать. Еще более существенными окажутся те доводы, с помощью которых я предполагаю доказать, что сохранение внутренней безопасности государства ни в коей мере не требует, чтобы развитию нравов было дано какое-то определенное направление. Если вообще что-либо способно подготовить в душах граждан плодотворную почву для религии, если что-либо может способствовать тому, чтобы глубоко воспринятая и проникшая в систему мыслей и чувств религия оказала благотворное влияние на нравственность, то это – свобода, которая всегда страдает от положительного попечения государства, как бы слабо оно ни проявлялось. Ибо чем многостороннее и своеобразнее развивается человек, чем выше полет его чувств, тем с большей легкостью его взгляд направляется от окружающего его узкого, изменчивого круга на того, чья бесконечность и чье единство заключает в себе основание этих преград и этой изменчивости – независимо от того, надеется ли он обнаружить это существо или нет. Чем свободнее человек, тем он самостоятельнее в своих проявлениях и благожелательнее по отношению к другим. К божеству же ничто не приближает его так, как благожелательная любовь, и ничто не делает утраты божества столь безвредной для нравственности, как самостоятельность и сила, которая сама собой удовлетворяется и сама собой ограничивается. И наконец, чем сильнее чувство этой силы в человеке, чем беспрепятственнее возможность ее выражения, тем охотнее он ищет внутреннего подчинения тому, что руководило бы им и вело бы его; он остается верен нравственности независимо от того, будут ли эти узы любовью и поклонением богу или удовлетворением самосознания. Разница здесь, как мне кажется, в следующем: полностью предоставленный самому себе в вопросах религии гражданин, в зависимости от индивидуального характера, привнесет или не привнесет в свою духовную жизнь религиозные чувства; но в том и другом случае система его идей станет последовательнее, его чувства глубже, в его сущности будет больше цельности, и тем самым он будет отличаться высокой нравственностью и следовать законам. Тот же, кого ограничивает ряд предписаний, как и первый, воспримет или не воспримет, несмотря на них, различные религиозные идеи; но при всех обстоятельствах он будет отличаться меньшей последовательностью своих идей, меньшей глубиной чувства, меньшей цельностью натуры и потому будет с большим равнодушием относиться к нравственности и чаще уклоняться от требований законов.
Таким образом, я полагаю, что, не приводя дальнейших оснований, здесь можно сформулировать само по себе отнюдь не новое положение, согласно которому все, что касается религии, лежит вне границ деятельности государства; что проповедники, как и вообще все богослужение в целом, должны находиться в ведении общин и не подлежать контролю государства.
Глава VIII Исправление нравовПоследним средством, к которому обычно прибегают государства, чтобы произвести преобразование нравов в соответствии со своей конечной целью – обеспечением безопасности, являются отдельные законы и предписания. Однако, поскольку на этом пути непосредственно утвердить нравственность и добродетель невозможно, в постановлениях такого рода приходится ограничиваться запрещением или определением отдельных поступков, которые либо сами по себе безнравственны, хотя и не ущемляют права других, либо легко могут привести к нарушению нравственности.
К таким законам относятся все постановления, ограничивающие роскошь. Ибо ведь ничто, как правило, не является в такой мере источником безнравственных, даже противозаконных поступков, как преобладание чувственности в душе человека или несоответствие склонностей и страстей человека, связанное с условиями его жизни и возможностями их удовлетворить. Поскольку воздержанность и умеренность способствуют тому, что человек довольствуется условиями, в которых он пребывает, он менее всего склонен менять их, нарушая права или препятствуя спокойствию и счастью других людей. Поэтому может создаться впечатление, что подлинная конечная цель государства состоит в ограничении чувственности – ведь именно чувственность является источником всех коллизий, тогда как проявления духовных чувств всегда и повсюду пребывают в гармонии, – и наиболее простым средством для этого представляется подавление чувственности, насколько это возможно.
Между тем если остаться верным установленным здесь принципам – всегда проверять допустимость применения государством тех или иных средств, сопоставляя их с истинными интересами людей, – то окажется необходимым более тщательно – в той мере, в какой это соответствует указанной конечной цели, – исследовать влияние чувственности на жизнь, образование, деятельность и счастье людей. Такое исследование, в ходе которого будет сделана попытка обрисовать внутреннюю жизнь человека так, как она проходит в деятельности и наслаждениях, покажет с большей ясностью, в какой мере человеку вообще полезно или вредно ограничение свободы. Только после этого можно будет полностью судить о праве государства положительно влиять на нравы граждан и на этом закончить решение поставленного нами вопроса.
Чувственные ощущения, склонности и страсти проявляются в человеке прежде всего и в самой сильной степени. Там, где они, до того как культура привнесла в них известную тонкость или придала душевной энергии другое направление, молчат, исчезает всякая сила, и ничто доброе и великое произойти не может. Именно они, во всяком случае сначала, привносят в душу живительное тепло, они первые внушают ей желание действовать. С ними приходит жизнь и стремление к деятельности; неудовлетворенные, они делают человека активным, изобретательным в планах, мужественным в их осуществлении; будучи удовлетворены, они способствуют легкой, беспрепятственной игре мыслей. Они приводят все представления в более быстрое и многообразное движение, выявляют новые точки зрения, не замеченные ранее аспекты, не говоря уже о том, как различное их удовлетворение влияет на тело и его организацию и какое влияние, которое мы, правда, различаем только в его результатах, это в свою очередь оказывает на душу. Однако влияние это различно как по своей направленности, так и по характеру своего действия. Отчасти это зависит от их силы или слабости, отчасти же – если можно так выразиться – от их отношения к нечувственному, от того, насколько трудно или легко заставить их перейти от животных наслаждений к человеческой радости. Так, глаз придает ощущаемой им материи форму образа, который служит для нас источником стольких наслаждений и плодотворных идей; ухо – соотношение тонов в их временной последовательности. О различной природе этих ощущений и характере их действия можно было бы, пожалуй, сказать много прекрасного и немало нового, однако здесь не место для этого. Остановлюсь только на том, как разнообразна их польза для формирования души.
Глаз, если можно так сказать, предоставляет рассудку в известной степени подготовленный материал. Внутренний мир человека вместе с его образом и всеми остальными, всегда соотносимыми с ним в нашей фантазии вещами становится для нас как бы определенным и данным в одном состоянии. Ухо, если рассматривать его только как один из наших органов чувств, в той мере, в какой оно не воспринимает слова, дает нам значительно менее определенные ощущения. Поэтому Кант и отдает преимущество изобразительным искусствам по сравнению с музыкой Однако он вполне правильно замечает, что это предполагает в качестве мерила и культуру, которую различные виды искусства сообщают душе человека, а я бы еще добавил: которые они ему непосредственно сообщают.
Но возникает вопрос, верен ли этот масштаб измерения? По моему мнению, первой и единственной добродетелью человека является энергия. То, что увеличивает его энергию, более ценно, чем то, что дает ему только материал для нее. Но поскольку человек одновременно воспринимает только что-либо одно, то на него сильнее всего действует то, что ему в данный момент только один предмет предоставляет; и подобно тому, как в ряду следующих друг за другом ощущений каждое из них учитывает степень воздействия, созданную всеми предыдущими ощущениями и оказываемую на все последующие, то наибольшее влияние на человека имеет то, что представляет собой подобное же соотношение отдельных компонен-
1 Кант И. Критика способности суждения тов. Именно это мы обнаруживаем в музыке. Далее, музыке свойственна толькоэта последовательность, только она в музыке определенна. Ряд звуков, который ее составляет, совсем не обязательно создает определенное чувство. Это является как бы темой, на которую можно написать бесконечное количество текстов. Следовательно, то, что душа слушающего музыку – если, конечно, он вообще и как бы в соответствии со своим характером находится в созвучном ей настроении – действительно в нее привносит, возникает с полной свободой из полноты души и охватывает ее с большей теплотой, чем то, что ей просто дано и подчас ведет скорее к простому восприятию, чем к подлинному чувству. Другие свойства и преимущества музыки, например то, что она, извлекая звуки из предметов природы, значительно ближе к природе, чем живопись, скульптура и поэзия, я здесь рассматривать не буду, так как в мою задачу не входит исследование музыки и ее природы; музыка послужила мне только примером для того, чтобы с большей отчетливостью показать различие в природе чувственных ощущений. Описанный только что характер воздействия свойствен не только музыке. Кант считает, что он возможен при меняющемся смешении красок и еще в большей степени он свойствен чувству осязания. Даже вкус, бесспорно, создает такое ощущение; и здесь наблюдается усиление удовольствия, которое также стремится к разрешению, а после того, как это достигнуто, постепенно исчезает в слабеющих вибрациях. Менее всего этот характер воздействия свойствен обонянию. Поскольку в ощущающем человеке, по существу, самое привлекательное (значительно более привлекательное, чем самый материал) составляет процесс ощущения, его степень, сменяющее друг друга усиление и ослабление, его, если можно так выразиться, чистая и полная гармония (при этом обычно забывают, что степень и еще в большей мере гармонию этого процесса определяет природа материала), поскольку ощущающий человек, являя собой как бы образ расцветающей весны, представляет собой самое интересное зрелище, поскольку более чем что-либо другое человек ищет в искусстве картину своих ощущений. Из этого обычно исходит живопись и даже скульптура. Взгляд мадонны Гвидо Рени не ограничен преходящим мгновением. Напряженные мускулы борца из коллекции Боргезе предвещают удар, который он готов нанести. И в еще большей степени этот прием используется в поэзии. Не намереваясь, собственно говоря, устанавливать здесь определенные ранги для различных видов искусства, я считаю возможным, чтобы пояснить мою идею, добавить лишь следующее: все виды искусства оказывают на нас двойное воздействие; в каждом искусстве в своей нераздельности, но в различном сочетании присутствуют обе стороны воздействия. Искусство непосредственно дает нам идеи или возбуждает чувства, настраивает душу определенным образом или, если это выражение не покажется слишком выспренним, обогащает или возвышает силы души. Чем больше одна сторона воздействия прибегает к помощи другой, тем больше она ослабляет впечатление от себя самой. По$– зия наиболее полно соединяет обе стороны, и поэтому она, с одной стороны, самое совершенное из всех искусств, а с другой – и самое слабое. Изображая свой предмет менее живо, чем живопись и скульптура, она менее проникновенно говорит чувству, чем пение и музыка. Однако недостаток этот легко возмещается тем, что поэзия, помимо многосторонности, о которой уже шла речь, ближе всего истинной внутренней жизни человека благодаря своей способности облекать мысли и чувства самым легчайшим покровом.
Чувственные ощущения, оказывающие воздействие на энергию человека – ведь только для того, чтобы пояснить их сущность, я говорю здесь об искусстве, – действуют также различно, отчасти в зависимости от того, происходит ли это действие поистине в должном соотношении, отчасти же в зависимости от того, насколько самые их компоненты, как бы их материя, возбуждают душу. Так, ровный красивый человеческий голос действует сильнее, чем мертвый инструмент. И поскольку наше собственное ощущение нам ближе всего, то всякое действие оказывается наиболее сильным там, где это ощущение присутствует. Однако и здесь, как всегда, часто случается, что несоразмерная сила материи подавляет хрупкую форму; следовательно, между ними должно существовать правильное соотношение. При неправильном соотношении равновесие может быть восстановлено либо усилением одной стороны, либо ослаблением другой. Но действовать посредством ослабления всегда неверно, разве что данная сила не является естественной, а создана искусственно; там же, где она естественна, ее никогда не следует ограничивать. И пусть лучше она сама себя уничтожит, чем будет медленно угасать. Но довольно об этом. Я надеюсь, что достаточно пояснил свою мысль, хотя охотно сознаюсь в замешательстве, в которое меня ввергает это исследование; дело в том, что, с одной стороны, интерес к предмету и невозможность заимствовать необходимые мне результаты из других работ (я не знаю ни одной, которая исходила бы из близкой мне точки зрения) заставляют меня остановиться на этом подробнее; с другой – мысль, что эти идеи нужны здесь не сами по себе, а имеют лишь вспомогательное значение, все время принуждает меня держаться определенных рамок. То же я прошу иметь б виду и при дальнейшем изложении.
До сих пор я пытался говорить – хотя полное разделение и невозможно – только о чувственном ощущении как таковом. Однако между чувственным и нечувственным существует таинственная связь, и если нашему взору не дано в нее проникнуть, то наше чувство догадывается о ней. Этой двойственной природе видимого и невидимого мира, врожденному стремлению к невидимому и сладостному сознанию необходимости для нас видимого мира мы обязаны всеми действительно последовательными философскими системами, возникшими из глубин человеческой сущности, впрочем, и самыми безрассудными фантазиями. Я всегда видел истинную цель человеческой мудрости в вечном стремлении объединить оба эти мира таким образом, чтобы каждый из них как можно меньше отнимал у другого. Повсюду мы с несомненностью обнаруживаем эстетическое чувство, которое превращает чувственность в оболочку духовного, а духовное – в животворящее начало чувственного мира. Вечное изучение этого лика природы формирует подлинного человека, ибо нет ничего, способного в такой мере оказывать многостороннее воздействие на характер человека, как выражение нечувственного в чувственном, возвышенного, простого, прекрасного – во всех творениях природы и произведениях искусства, окружающих нас. И здесь сразу же проявляется различие между сильно действующими на энергию человека и всеми остальными чувственными ощущениями. Если конечной целью всех человеческих усилий является обнаружение, создание и сохранение в нас и в других единственно истинно существующего, хотя и остающегося в своей исконной форме вечно невидимым, если только оно есть то, предчувствие чего делает столь дорогим и священным для нас каждый его символ, то, созерцая образ его вечно живой энергии, мы несколько приближаемся к нему. Мы как бы говорим с ним на трудном и часто непонятном языке, который подчас поражает нас неким предчувствием истины, тогда как форма, да будет дозволено мне так сказать – образ этой энергии, – отстоит гораздо дальше от истины.
На этой почве, если не только, то преимущественно на ней, расцветает все прекрасное, и в еще большей степени – возвышенное, как бы приближающее человека к божеству. Необходимость обрести в предмете, не выраженном в понятии, чистое, далекое от каких бы то ни было целей удовольствие, как бы показывает человеку, что он произошел от невидимого и родствен ему, а ощущение его несоизмеримости с высшей всеобъемлющей сущностью объединяет самым божественным, доступным для человека образом бесконечное величие с самоотверженным смирением. Не будь прекрасного, человек не знал бы любви к вещам как таковым; без возвышенного он не знал бы послушания, презирающего вознаграждение и не ведающего низкого страха. Изучение прекрасного формирует вкус, возвышенного – если его вообще можно изучать, если чувство и изображение возвышенного не есть прерогатива гения – дает правильное представление о величии. Однако только вкус, в основе которого всегда должно быть величие, так как только великое нуждается в мере и лишь могущественное – в твердости, соединяет все тона, всю полноту настроенности нашего существа в чудную гармонию. Вкус привносит во все наши, даже чисто духовные, ощущения и склонности нечто уравновешенное, спокойное, направленное к одной точке. Там, где отсутствует вкус, чувственное влечение грубо и необузданно и даже научные исследования, быть может, остроумные и глубокие, не отличаются тонкостью, изяществом и плодотворностью в своих применениях. И вообще, при отсутствии вкуса глубины духа и сокровища знания мертвы и бесплодны, а благородство и сила нравственной воли грубы и лишены живительного тепла.
Исследование и созидание – вот вокруг чего вращаются и о чем соотносятся, будь то опосредствованно или непосредственно?
все занятия людей. Исследование, если цель его состоит в том, чтобы постичь основу вещей или границы разума, предполагает, помимо глубины, разностороннее богатство и теплоту духовной жизни, напряжение объединенных сил человека. Достигнуть своей цели посредством простых операций не только уравновешенного, но и холодного разума, может, пожалуй, только философ, не выходящий за пределы анализа. Однако для того чтобы обнаружить связь, соединяющую синтетические основоположения, требуется подлинная глубина и дух, способный придать всем своим силам одинаковую интенсивность. Поэтому можно с уверенностью сказать, что никем не превзойденная глубина кантовской морали и эстетики еще не раз вызовет обвинения в фантастичности, как это уже неоднократно случалось; и если – да будет дозволено мне это признание – мне также казалось, что в ряде, хотя и немногих, случаев для этого есть известное основание (приведу в качестве примера толкование цветов радуги в работе „Критика способности суждения" причину этого я вижу только в недостаточной глубине моих интеллектуальных сил. Если бы я мог продолжить здесь рассмотрение этих идей, я, безусловно, пришел бы к следующему столь же сложному, сколь и интересному вопросу: в чем состоит, собственно говоря, различие между духовным развитием метафизика и поэта? И если бы полная многократная проверка не опровергла результатов моих прежних размышлений на эту тему, то я ограничил бы это различие только тем, что философ оперирует одними перцепциями, а поэт имеет дело с ощущениями, в остальном же оба они должны обладать одной и той же мерой и одним и тем же характером духовных сил. Однако это слишком далеко увело бы меня от моей непосредственной цели; надеюсь, что все приведенные мною основания достаточно ясно показали, что стать даже самым уравновешенным мыслителем можно только в том случае, если чувственная радость и фантазия часто присутствуют в душе. Если же мы перейдем от трансцендентальных исследований к психологическим и предметом нашего изучения станет человек, причем человек такой, каким он являет себя нам, то не тот ли глубже всего исследует многообразный род людской и изобразит его наиболее истинно и живо, чьим собственным чувствам не чуждо большинство этих образов?
Поэтому человек такого духовного склада являет себя в своей наивысшей красоте, вступая в практическую жизнь и претворяя то, что он воспринял, в новые плодотворные творения внутри и вне самого себя. Аналогия между законами пластической природы и духовного творчества была уже однажды гениально показана и
Л Кант называет модификации света в цветах языком, которым природа го ворит с нами, что, как кажется, имеет более высокий смысл: «Так, нам кажется что белый цвет лилии располагает душу к идеям невинности и по порядку от кра сного до фиолетового (цвета) располагают: 1) к идее возвышенного, 2) смелости 3) прямодушию, 4) приветливости, 5) скромности, 6) непоколебимости и 7) неж цости» *fобоснована Дальбергом и снабжена его меткими замечаниями К Однако, быть может, допустимо и более привлекательное рассуждение; психология обрела бы, вероятно, более поучительные данные, если бы вместо исследования непознаваемых законов образования зародыша было более подробно показано, как в виде нежного цветка телесной организации создается духовное творчество. Обращаясь к тому, что и в моральной жизни в наибольшей степени предстает как создание холодного разума, следует сказать, что только идея возвышенного делает возможным следование безусловным предписаниям закона, – правда, как это свойственно человеку, посредством чувства, но вместе с тем, поскольку человек полностью отвлекается при этом от соображений счастья или несчастья, – с божественной беспристрастностью. Чувство несоразмерности человеческих сил моральному закону и глубокое сознание того, что даже самый добродетельный человек лишь тот, кто сильнее других ощущает, как недосягаем для него этот закон, порождают благоговение – чувство, которое телесная оболочка обволакивает, как кажется, лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы глаза смертных не ослепило его чистое сияние. И если моральный закон требует, чтобы каждый человек рассматривался как самодовлеющая цель, то этому сопутствует и чувство прекрасного, стремящееся вдохнуть жизнь в каждую пылинку, чтобы и она радовала нас своим существованием; это чувство прекрасного тем сильнее охватывает человека, что, будучи независимо от понятия, оно не ограничивается малым числом признаков, которые только и может вместить понятие, к тому же разъединяя и урезая их. Привнесение эстетического чувства способно как будто нанести ущерб чистоте моральной воли, и так действительно могло бы случиться, если бы именно это чувство служило человеку моральным импульсом. Однако ему надлежит только как бы открывать более разнообразные применения морального закона, которые могут остаться не замеченными холодным и поэтому недостаточно тонким разумом, и пользоваться правом внушать человеку сладчайшие чувства. Ведь человеку не возбраняется испытывать счастье, столь родственное добродетели, только добиваться этого счастья он должен, не отрекаясь от добродетели. Чем больше я размышляю об этом предмете, тем меньше та разница, которую я только что отметил, представляется мне эфемерной или воображаемой. Как бы человек ни стремился к наслаждениям, как бы он, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, ни мыслил добродетель и счастье вечно связанными друг с другом, его душа все равно остается восприимчивой к величию нравственного закона. Она не может противостоять власти этого величия, которая заставляет ее действовать определенным образом и, преисполненная только этим чувством, она действует, не помышляя об удовольствии, так как ее никогда не покидает сознание того, что никакое представление о бедах не заставило бы ее действовать иначе. Но эту силу душа








