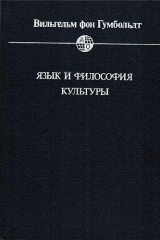
Текст книги "Язык и философия культуры"
Автор книги: Вильгельм фон Гумбольдт
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Совершенное представление человечества силой воображения не может быть успешным без помощи тех двух свойств, какие рассматривались нами до сих пор, – без спокойного пластического чувства и без известной приверженности к природе с ее простой истиной. Вот две опоры всякого признанного художника.
Счастливая предрасположенность к поэтическому творчеству, подлинное художественное чувство, которое, будучи истинным, передается и другим, – все это ни одному народу не было присуще в такой степени, как грекам. Оно и проявляется в цельности и соразмерности их творений. Кто видит перед собой Аполлона, кто читает Гомера, тот, как бы ни был настроен он до того, чувствует в себе порыв, стремление к ним; единство внутреннего существа души и единство творения перед нами как бы сливаются воедино и растут, распространяясь на всю природу, на которую мы и смотрим тогда иначе, растут, обращаясь в своего рода бесконечность.
Правда, непроглядную тайну искусства или, как хотелось бы сказать, технику, с помощью которой древние добивались подобного воздействия, не описать словами, однако она по большей части покоится на трех особенностях метода их художников:
на естественном сочленении всех частей в целое, где, как в самом органическом создании, каждая часть свободно и притом необходимо вытекает из других;
на величии и чистоте элементов, из которых составляли они свои формы; и, наконец,
3) на известной смелости их манеры, которая заключалась в том, что они никогда не писали мелочно и с опаской – для глаза, но, скорее, снаряжали фантазию вдохновением и силой, чтобы она сама довершала начатые контуры вещей.
У них было могучее воображение, и они сливались воедино с природой. И если у нас воображение нередко заявляет о себе бурным вдохновением и как бы нарочно раздуваемым пламенем, то у них фантазия роднилась со всеми теми качествами, которые помогают человеку идти по жизни спокойно и мудро, то есть с рассудком строго организованным, со взглядом, все безмятежно вбирающим в себя, замечательным равновесием склонностей и душевных сил.
Мы уже показали, что дух царит в нашей поэме более, чем в каком-либо ином поэтическом создании новых. Поэтому вполне достаточно того внимания, которое мы уделили отдельным частям поэмы, чтобы показать в общем смысле и единство замысла, и чистоту и полноту природы, выступающей во всех действующих характерах и в духе целого, а также и уверенность рисунка, когда одного эпитета нередко бывает довольно для того, чтобы завершить целую картину. Повсюду зримы, повсюду деятельны уверенная сила, основанная на спокойном наблюдении и продуманном, рассудительном упорядочении материала, и внутреннее тепло, которое проявляется лишь тогда, когда затронуто сердце.
Подобно Гомеру и древним, наш поэт воздействует лишь тем, что он на деле есть в своем творении, – своим образом и существом, спокойно и просто являясь перед зрителем, – не так, как новые поэты, особенно те, о которых речь шла выше, поэты скорее романтические, нежели эпические, которые воздействуют тем, что делают, а именно воспевают, описывают – в зримой сопряженности с самими собою.
XL.Отличие нашей поэмы от творений древних. – Недостаток чувственного богатстваМы только что говорили об известном сходстве рассматриваемой гётевской поэмы с творениями древних; однако невозможно сколько-нибудь долго останавливаться на сходстве, не вспомнив о резком контрасте – между нашей поэмой и их произведениями. Конечно, нет сомнения в том, что поэма написана в высоком и подлинно античном стиле, однако как по обработке материала, так и по способу изображения эта поэма столь же несомненным образом несет на себе печать нашего времени. Скорее, уточняя свое сравнение, мы находим в поэме не просто подражание древним, но поразительно прекрасное соединение самых существенных достоинств древнего искусства с особенностями и тонкостями, внесенными новейшим временем.
Первое отличие состоит в способе изображения и в тоне изложения.
Древние почти всегда рисуют фигуры, движение, действие; все их искусство живо, многообразно, чувственно. В событиях, какие они описывают, всегда заключено нечто великое и блестящее; они увлекают и заставляют вдохновенно изумляться героизмом замыслов, жизненной важностью достижения успеха. Блеск, в каком являются они уже благодаря этому, еще умножается постоянным содействием неземных сил. Люди и боги – все смешались на одной и той же сцене, естественные события всякий миг нарушаются неожиданными чудесами, и, как если бы самого Олимпа, его величия и могущества, было мало, над людьми и над богами царит ужасная судьба, приговору которой должны равно повиноваться те и другие.
Лица, какие они рисуют, – в большинстве своем причастны к этому блеску, это не просто герои, стоящие между Олимпом и смертным миром. Их индивидуальность проявляется обычно лишь в их внешнем облике, в поступках, речах, – но не во внутренней форме их характеров и умонастроений, в отличие от героев произведений поэтов нового времени. Благодаря этому, например, в произведениях Гомера действует огромное множество фигур, но далеко не то же число различных, определенно очерченных характеров. Что касается последних, то древние либо рисуют такие характеры, которые существенно отличаются друг от друга, то есть передающие только основные черты человечества, или же, переходя к более тонким нюансам, различают персонажей только по их внешнему телосложению. Так, если рассматривать последовательно ряд созданных древними ваятелями идеальных форм, то можно заметить, что основные фигуры – Аполлон и Вакх, Венера и Диана (к ним можно присоединить еще Юпитера и Нептуна) – отличаются друг от друга наиболее существенными, приметными чертами характера, но если начать сравнивать фигуры, еще более близкие друг к другу, например статуи героев, то тут мы без труда можем узнать черты их лиц, но нам трудно будет сказать что-либо вполне определенное об их характерах. Да они и не преследуют этой цели: лишь внешние черты их облика должны воздействовать на наше воображение, а не выражение внутреннего – прямо на наш дух.
Кроме того, если бы древние и испытывали недостаток чувственного блеска и богатства, их языка хватило бы на то, чтобы с лихвою восполнить недостающее, – столь живописен их язык и все его периоды, столь пышен и изобилен поток его периодов, столь благозвучен их язык в своих ритмических пропорциях.
Все это, вместе взятое, дает искусству древних жизнь и полноту, чувственное, безыскусное величие. Все это придает ему столь яркий свет и блеск, что новое искусство не способно приблизиться к нему и, быть может, поэтому вознаграждает нас за то более богатым содержанием рассудка и чувства, большей тонкостью духовной индивидуальности и такими звучаниями, которые куда более непосредственно западают в душу.
Правда, нам известны новейшие поэты – во главе таковых вновь встает Ариосто, – которые по многообразию фигур и подвижности действия вполне могли бы состязаться с древними. Однако у них живая чувственная реальность загорается от того огня, каким горят их чувства. Они скорее своевольные творцы разнообразного, изобилующего фигурами мира сказок, нежели верные живописатели богатой природы. Им недостает спокойного пластического чувства, их творениям недостает чистой объективности, внутренней непреложности форм.
Что касается преимуществ объективности, определенности и светлой отчетливости описаний, то наш поэт может поспорить с любым творцом – он выдержит такое сравнение. Но если поставить его рядом с тем, кого прежде всего напоминает его поэтический род и тон, то есть с Гомером, то окажется, что ему недостает гомеровского светлого блеска, недостает богатства жизни и движения, изливающихся непрерывным потоком.
Его дело – не воспевать богов и героев, но лишь людей, и сюжет его не таков, чтобы решалось в нем счастье народов, племен, судьба всего известного нам мира, не таков, чтобы небо и земля приняли участие в событиях и на самом Олимпе из-за них произошел раскол; все значительное в его материале, все несущее в себе перемены миру – это события, а возвышенное он может вложить в умонастроения. А между событиями и умонастроениями располагается действие с его развитием, и поэт с его искусством должен теперь стремиться заимствовавать блеск у событий, величие – у настроений ума (чтобы действия развивались живо и объективно), запечатлевая все это в сюжете. Итак, свою силу он должен черпать не столько в мире, сколько в душе человека, а поскольку наше настроение получает благодаря этому совсем иную направленность, то и судьба, этот сверхчеловеческий предмет, без которого немыслимо никакое поэтическое воздействие, выступает в измененном облике. У древних она наносит удары людям и богам, пребывая, незримая, в высоте, а здесь она скорее подобна силе, которая истекает изнутри человечества, из его неисповедимых глубин, внушая нам тем больший ужас, что мы чувствуем свое родство с нею.
Что касается лиц, представленных нашим поэтом, то тут, правда, царит определенность рисунка и многообразие фигур, но мало того, что поэт вынужден рядить каждый свой персонаж в скромное, непритязательное платье, он не может привести в движение и значительное число персонажей, а будучи вынужден отказаться от изобилия фигур, не может описывать и прекрасную последовательность характеров.
Наконец, язык его, правда, поэтичен и выразителен, а когда этого требует предмет, то величествен и смел, однако богатство и великолепие языка его старших собратьев все же остается ему чуждым.
Но если, в отличие от древних, он не может блистать чувственным великолепием, то все же в его силах достичь тем большего значения благолапя поостоте истины; если он не может затрагивать чувства мощною силой, то поэзия его тем теснее сплетается с нашими чувствами, и мы сейчас же увидим, как много выигрывает он благодаря этому преимуществу, восполняя утраченное, но сначала рассмотрим на примере еще один кажущийся изъян, поскольку одновременно выясняется, что этот изъян не может не выступать тем заметнее, чем выше достоинство поэмы.
XLI.Недостаток чувственного богатства особенно бросается в глаза в использовании чудесногоВеличайший чувственный блеск своей поэзии эпический поэт обретает благодаря введению чудесного элемента. Может ли что живее трогать наше воображение, нежели внезапные события, которые не произведены людьми, неожиданно врываются в их жизнь и именно в решающий момент благоприятствуют одному и губят другого. Правда, не раз мы напоминали о том, что вмешательство неземных сил затмевает самого героя, его силу. Тогда величие человека терпит некоторый урон, зато он облекается в блеск Олимпа, – очевидно, бывает везение, куда более благоприятное для того настроения, какое намерен создать поэт, нежели сами подлинные, внутренне оправданные заслуги.
И наш поэт тоже усвоил этот элемент чудесного. Правда, он не мог воспользоваться им для того, чтобы придать своему материалу величие и достоинство. Но нельзя было обойтись без чудес, потому что сам человек, описывать которого было делом поэта, не может жить без чуда – он испытывает в чувстве, производимом чудесами, такую потребность, что даже в кругу самой простой жизни оно встречается постоянно – лишь чаще или реже.
Жизнь была бы невыносимо скучна и монотонна, если бы события в ней просто вытекали из событий и если бы цепочку единообразия не прерывал неожиданный случай, какой нельзя предугадать заранее. Неожиданности, которые мы в зависимости от настроения нашей фантазии обращаем в чудеса, – в большей или меньшей степени, эти неожиданности возникают благодаря случаю, благодаря тому, что деятельность нашей души в деталях и мелочах чаще всего протекает за пределами нашего сознания, что наши мысли и чувства внезапно выливаются наружу, словно из каких-то неведомых глубин, благодаря тому, далее, что эти самые неосознанные представления словно заключили союз с событиями и придают нашим речам, действиям, выражению лица такие оттенки, которых мы сами не замечаем, но которые влекут за собой самые различные последствия, так что мы видим лишь стечение следствий, но не видим связи причин, – неожиданности как раз и возникают как совокупность всего перечисленного.
Наш поэт сумел воспользоваться всем этим, и если у других новых поэтов чудеса остаются холодными, ненатуральными, потому что сопряжены у них с силами сказочными и ребяческими, то наш поэт черпал чудо в своей душе и, однако, сохранил неожидан* иость его воздействия. Правда, это чудо теряет в величии и блеске, какими обычно наделяет его фантазия, и лишь в принципе остается верным своему первоначальному понятию, – понятию беспричинности. Кроме того, к чудесам можно обращаться в не столь важных ситуациях и в моменты не столь значительных перипетий повествования. Большие и подлинно чудесные события, какие приводит наш поэт в своем рассказе, никак нельзя представить как чудеса – напротив, они выступают здесь как неизбежность, необходимость, судьба.
Выше мы коснулись двух мест, которые хорошо иллюстрируют сказанное: это перемена, какую пастор замечает в Германе, и неожиданное появление Доротеи у колодца. Есть и еще одно место, кстати, еще более тесно сплетенное с нитью повествования, – тот момент, когда Доротея, поскользнувшись на ступенях виноградника, видит в этом дурное предзнаменование, и оно сбывается: мы видим, в каком замешательстве оказываются все присутствующие в тот момент, когда Доротея входит в дом. И тут мы видим и переживаем то, что так часто чувствуем в обыденной жизни. Когда наши чувства до крайности напряжены, когда в определенный момент к своему завершению должны подойти важнейшие события – наши мысли смешиваются, и все, за что бы мы ни брались, падает у нас из рук. Мы ни с чем не можем справиться, а от этого накапливаются неблагоприятные для нас обстоятельства. Поскольку же все это замечаем и мы сами, у нас возникает мрачное настроение, наша душа предается мрачным предчувствиям, и, конечно же, они оправдываются. Гёте поступает точно так же: в самой жизни любые случайные мелочи сходятся так, что каждый отдельный шаг кажется вполне естественным, а вовсе не чудесным. Однако развитие этой мысли увело бы нас слишком далеко– каждый читатель, перечитав это место, сам живо почувствует все это.
Итак, древние искали чудес за пределами земного, на Олимпе, а наш поэт принужден переносить их в столь же неизведанные глубины души, – чтобы во всяком случае, изъять их из повседневного круга событий. Конечно, благодаря столь искусному пользованию чудом, благодаря легкости изображения, а также потому, что мы, естественно, начинаем сопоставлять такого рода предзнаменования с пророчествами Гомера и оракулами древних, чудо утрачивает торжественную серьезность, присущую действительности, а взамен обретает приятную и изящную легкость.
XLII.Отличие нашей поэмы от творений древних открывается в одном, присущем ей достоинствеКто читает поэму „Герман и Доротея" в часы, когда сердце открыто поэту, его воздействию, тот, несомненно, признает, что в душе поэта царит иной дух, нежели в творениях древних. Он скажет, что этот дух выше и лучше, – он иной, отличный, и столь же замечательный, только в своем роде, он не так мощно притягивает к себе, но глубже проникает в душу.
Если не воспринимать, как изъян, недостаток чувственного богатства, о чем мы говорили выше, то как раз по этому признаку можно понять, что сфера нашего поэта – совсем иная, чем у древних, что он – насколько вообще позволяет это призвание, призвание поэта, – исходит из иного и стремится к иному; благодаря этому и читатель переносится в иную сферу – не в ту, в какую переносят его древние.
Так это и есть на деле. Древние живописали природу в чувственном великолепии, а наш поэт изображает в основном внутреннюю жизнь человека. Оба предмета наделены своим величием, кроме того, первый из них больше отвечает сущности искусства, однако если и в последнем случае искусство обретает всю свою красоту, то второй предмет обладает для нас специфическим интересом, поскольку мы живем не столько созерцанием и действием, сколько мыслью и чувствами.
То, что постоянно занимает нашу душу – мысли и чувства, – все здесь выявлено, все развито чудесным, величественным образом. Тут спорят о важнейших обстоятельствах человеческой жизни, высказывая противоположные суждения; самое возвышенное, что можно помыслить о событиях нашего времени, выражено здесь просто и поэтически-совершенно; наш дух воспаряет на такую высоту мысли, какая – чистосердечно это признаем – была чужда древним. Дело ведь не в том, чтобы мы превосходили их основательностью нашей мудрости и лучше и прочнее связывали бы конечные результаты, а в том, что древние не умели развивать ее для себя – мысль, которая ведь тоже может разрабатываться вполне художественно, – а потому не способны были сообщить нашей душе интеллектуальный подъем, каким всегда сопровождается развитие мысли.
То же самое и с чувством. Сопровождая Германа и Доротею в их пути домой, как глубоко погружаемся мы в их чувства, проникаем в самые потаенные уголки их сердец, а благодаря этому какие глубины видим в нашей же собственной душе, во всем людском мире! Никто не сравнится с древними по истине и силе изображения чувств и страстей. Но поскольку они никогда не замыкались в этой сфере – одиноко, как мы, – поскольку они рисуют чувства скорее в целом и в их проявлениях, нежели в деталях и как таковые, то они и не переносят нас в то тонкое и чуткое, легкоранимое настроение, какому мы не в силах противиться здесь.
Благодаря всему этому любой характер поднимается на ступеньку выше – не в том, что касается естественной силы и красоты, но в несколько большей тонкости душевного склада. Сколь бы безыскусно и подлинно антично ни была обрисована Доротея, древность не знает женского образа, равного ей по тонкости. Даже и в Германе есть такое, что не нашло бы понимания в героях древности; а если мать прекраснее и величественнее любого образа древних или новых поэтов, то не оттого ли, что в нее вложено более утонченное и притом не менее чистое понятие женственности?
Мы далеки от утверждения, что современный характер как таковой обладает преимуществами перед древним, и тем более не утверждаем, что это так в отношении требований искусства. Однако, поскольку нам явлена если не лучшая и не более крепкая, то, пожалуй, высшая и более тонкая человеческая натура, если эта утонченность ждет нас на пути, предначертанном судьбою нашему дальнейшему культурному развитию, то современный характер заслуживает – если только он вполне удовлетворяет требованиям искусства (в этом здесь – самое главное) – своего особенного места и, не лишись он иных достоинств, по праву притязал бы даже и на лучшее место *.
XLIV.Богатство содержания поэмы для духа и чувства. Своеобразное обращение с этим содержаниемЧем больше посвящаем мы свои интеллектуальные силы наблюдению и исследованию м-ира вне нас, чем более переносим мы на него природу нашего духа, тем больше умножаем мы наши связи с ним. Предметы вокруг нас являются нам лишь в соответствии с тем, что способен отличить в них наш рассудок; даже внешние чувства в нас нуждаются в его руководстве, а по мере расширения нашего понимания возрастает и область этих чувств, и на деле природа с каждым столетием обогащается индивидами все больше и больше; если человек некультурный во всем множестве объектов видит лишь однородную, нерасчлененную массу, то наделенный знаниями наблюдатель разглядит целый мир явлений в одной-единственной точке.
Такая деятельность наших духовных сил расширяет область чувственной природы и вместе с тем обогащает в нашей душе всю массу мыслей и чувств. И здесь – это зависит от нашей воли – мы должны беспредельно умножать многообразие отношений, сложное деля на составные части, а отдельное включая во все новые и новые взаимосвязи. То, что представляется простым в природе, что представляется простым нашим чувствам, мы можем разлагать мысленно, и, однако, результат, полученный таким исключительно интеллектуальным путем, может в свою очередь возбуждать чувство, поскольку последнее без труда сопрягается как с чувственными, так и с нечувственными предметами. С чувством может прийти в связь воображение, и тогда мы с помощью того и другого можем творить особый мир, независимый от действительности и от внешних чувств, однако воздействующий на нас точно так же, как и сама действительность; этот мир – исключительно наше творение, однако он обладает для нас реальностью природы.
Такой метод нашего рассудка мы называем утонченным, и на деле нет для него более подходящего наименования. Ибо этот метод действительно состоит в том, что простое делится, а грубое утончается; кроме того, поскольку все естественные потребности человека удовлетворяются и без того, то это, так сказать, для человеческой природы роскошь, но только такая роскошь, в которой мы не только нуждаемся в связи с самой организацией нашего духа, но без нее мы не в состоянии были бы исполнять высшие конечные цели человечества.
Подобная утонченность дана нам с самых первоначальных эпох развития человечества, вместе с самим понятием человечества; однако есть в этом такой момент, который заметно отличается от остальных и только он заслуживает по преимуществу именно такого наименования.
А именно: человек в своем поступательном движении может либо находиться в гармоническом союзе с природой, занимая свой дух наблюдением над ней, занимая воображение – ее формами, чувство – ее предметами, удовлетворение своих потребностей целиком и полностью обретая в ней, а может замыкаться в своей душе, изолировать свой разум, питать воображение материалом, черпаемым в себе самом, чувства – создаваемыми предметами. Естественно, наклонности человека нередко будут направлены при этом на нечто такое, в чем не сможет удовлетворить его природа, иной раз он даже устремится к цели, какой немыслимо достичь в данных условиях. Такое обособление нашего существа, нашей натуры – естественное следствие возросшей деятельности духа: оставляя чувственные формы, дух начинает придерживаться чистой мысли. Иной же раз к такому обособлению подают повод случайные, не всегда благоприятные обстоятельства. Более мрачное, печальное настроение как бы невольно замыкает нас в себе; обе причины необходимо взаимодействуют, как только человечество перерастает пору своего раннего детства. В подобном же состоянии возникает тогда такое чувство и такое настроение, которое, в противоположность наивному, называют сентиментальным, – это и есть момент, в котором проявляются различие характера древних и характера новых.
Это размежевание не могло не оказать решительного влияния на искусство. Искусство приобрело современный характер, коль скоро над ним трудились индивиды, обладающие новой культурой. Кроме того, слишком тяжела была бы мысль о том, что цепочка многих богатых деяниями веков не оставила бы нам ничего, чем мы могли бы со своей стороны обогатить искусство.
Поэтому если в нашей поэме царит особый дух, в своем роде не менее замечательный, чем в созданиях древних, то это и есть та самая высшая и более тонкая сентиментальность, более богатое содержание рассудка и чувств, которые вдохновляют нас на свободный полет мысли и тоньше, нежнее касаются наших чувств. Это и есть современный характер, которым со всей определенностью отмечена наша поэма.
Изображение такого характера настолько свойственно нашему поэту, что мы узнаем его во всех созданиях. При этом наш поэт умеет пользоваться им с таким чудесным великолепием, прямо сближая его с характером древних, что может даже рискнуть наложить его печать на подлинно античный сюжет „Ифигении", а мы не воспринимаем в ней помех и диссонансов. Такое изображение современного характера и явится сейчас предметом нашего обсуждения.
Когда утончаются мысли и восприятия, первыми страдают естественность истины и незамысловатость простоты. Однако именно эти свойства, очевидно, присущи Гёте. Как же сумел он тесно свя* зать столь различное?
Утонченность, как мы именуем ее по праву, сама по себе не может противоречить природе, – все чисто человеческое естественно, а в самом существе человеческого укоренено то, что люди будут восходить от чисто чувственного взгляда на вещи к взгляду более высокому. Итак, если утонченное испытывает недостаток естественности, то это лишь означает, что мы не сразу замечаем в утонченном ту реальность, какая бросается нам в глаза в природе, что ему прямо не соответствует тот или иной чувственный предмет: ведь процесс утончения представляется скорее делом отдельных человеческих сил с их энергией, быть может, отдельных настроений, а не человеческой природы вообще, – и, наконец, это означает, что мы не сразу замечаем, насколько совпадает этот путь утончения со всеобщим путем человечества, следуя к одной с ним цели. Итак, тут самое главное – создать эту реальность, смотреть на утонченное как на природу, только природу более высокую, именно утонченную.
Выше (гл. XXXVIII). мы видели, что наш поэт наделен чувством чистого наблюдения и определенного слагания формы; мы установили, что такому внешнему чувству должно соответствовать сходное с ним внутреннее: первое воспринимает истину и твердость во внешней природе, второе – во внутреннем характере. Своеобразие нашего поэта и состоит в том, что первое чувство он соединяет с утонченностью, с высшей сентиментальностью, отсюда и тайна – он являет нам настоящий современный характер, и тем не менее нам не недостает в нем прекрасного отпечатления античной простоты и истины.
Правда, в таком соединении на первый взгляд заключено нечто противоречивое. Первое названное выше чувство всегда ищет в природе значительные, отчетливо выступающие объемы, а в человеке – то, что принадлежит всему роду, то есть всему человечеству. А сентиментальное настроение, погружаясь в темные глубины чувства, остается в узких пределах самого малого, придерживаясь прежде всего того, что присуще отдельному человеку. Однако стоит только разработать это последнее достаточно капитально, и противоречие немедленно снимается – вот это и отличает нашего поэта от всех прочих.
Когда он раскрывает перед нами состояние души (собственно говоря, он только этим и занят), пусть даже души необыкновенной и страстной, он всегда поступает так, словно описывает внешнюю природу: он всегда спокоен, всегда пластичен, он прочно сочленяет отдельные части целого. Если он представляет индивидуальность, то она порождается у него одновременно всеми силами души и сплетена со всеми мыслями, чувствами, проявлениями характера, а характер этот показан нам в связях с остальными, является нашему воображению во всем своем бытии, во всем своем существе так, что мы видим его не только в такой-то именно момент, не только именно в этом настроении, но и понимаем, каков он вообще, и можем следить за его развитием, можем оценить его успехи. Поэт не перестает исследовать, скрупулезно и полно, каким образом необычный, своеобразный характер, явившийся ему на путях поэтического вымысла, может длительно, непрестанно пребывать в человеческой душе, словно чистая истина, каким образом может соотноситься он со всеми прочими, чисто человеческими ощущениями, с другими своеобразными человеческими характерами, как перестраивается он благодаря связи с ними и в результате своего собственного естественного развития, – и он [поэт] не успокоится до тех пор, пока и мы не начнем ясно распознавать все это в его изображении. Поэтому наш поэт никогда и не останавливается на одном характере, но проецирует его на бесконечную плоскость, а сам помещает себя в ее центре, где невольно сойдется и соединится все, что имеет хотя бы какое-то отношение к человеческой сущности. Благодаря этому индивидуальность, сколь необычной ни была бы она сама по себе, становится в его описании подлинной природой: она не выступает ни как плод мгновенного напряжения силы воображения, преувеличенного чувства, ни как следствие взлета духа на такую высоту, на какой нельзя было бы удержаться, – индивидуальность выступает здесь как истинный результат чистого взаимодействия всех сил души.
И теперь дело только за тем, чтобы быть настроенным чисто человечески, – теперь все чрезвычайное и все самое простое одинаково войдут в один и тот же круг. Лишь для того, кому, как древним, недостает богатства и многообразия внутреннего опыта, известные направления чувств покажутся лежащими за пределами истины природы; тот же, кому, как обыкновенно нам, новым, недостает возвышенной простоты чувств, тот не сумеет придать общепонятное выражение редким феноменам человеческой природы. Поэтому нашего поэта – более, чем кого-либо, – следует назвать истинно человечным: никто еще не обращался к нашему сердцу одновременно столь многообразно, возвышенно и необычно, и притом столь просто.
Кому нужны примеры такой своеобычности – этой исключительной принадлежности нашего поэта, – тот пусть вспомнит, с каким неведомым дотоле чувством рисовал он общение человека с природой, какой новый характер придал он любви, какую глубину и нежность – женственности, как понял он тайну сочетания в одном характере – характере Вертера – необычной силы и восприимчивости чувства, редкой мечтательной любви, способной самое жизнь принести в жертву своим ощущениям, и самой верной, наивной привязанности к красоте природы, невинных радостей юного, незрелого возраста.
Ни у какого древнего поэта не найти этой высокой, тонкой, идеальной сентиментальности, ни у какого нового не найти – в сочетании с такими достоинствами – такой простоты природы, безыскусности истины, душевной проникновенности.








