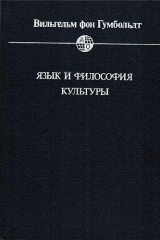
Текст книги "Язык и философия культуры"
Автор книги: Вильгельм фон Гумбольдт
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)
Понятие идеального как „возвышающегося над действительностью" напоминает о законе подражания природе, следование которому до сих пор обычно предписывалось художнику, – о законе, который даже рассматривался как определение искусства. На деле этот закон вбирает в себя два основных понятия искусства – понятие реальности (в выражении „природа") и то понятие, что природа должна все же быть представлена иначе, чем она есть в действительности (в выражении „подражание", которое не допускает полного совпадения с прообразом). Однако есть в этом законе неопределенность, которой можно избежать, полагая, что сущность искусства заключается не в свойствах предмета – как обычно считали, – но в настроенности фантазии.
Правда, и прежде пытались преодолеть неопределенность – двумя способами. Художнику рекомендовали подражать лишь прекрасной природе и подражать лишь прекрасно. Однако понятие прекрасного дает повод ко множеству недоразумений. Оно само по себе неопределенно и всегда допускает все новые и все более высокие степени красоты. Напротив, понятие идеального весьма определенно, ибо идеально все, что порождает фантазия в своей чистой самодеятельности, что поэтому обладает совершенным единством фантазии. А это единство – всегда постоянная величина, хотя ни один художник не может надеяться достичь ее вполне, и сила фантазии, присущая отдельным индивидам, тоже допускает существование бесчисленных степеней, однако лишь в исполнении, а не как требование.
Иную двусмысленность, к какой подало повод выражение „подражание", намеревались преодолеть, предполагая, что подражание должно быть не страдательным, но деятельным преобразованием природы. Однако границы такого преобразования, способ преобразования требовали все новых и, строго говоря, немыслимых определений.
Поэтому единственный способ положить конец спору – это избранный нами субъективный путь. Он субъективен, и тем не менее ведет к совершенно объективной дефиниции искусства. Ибо, если художник обращает природу (под которой мы понимаем совокупность всего, что может быть реальным для нас) в предмет искусства, то искусство и есть изображение природы посредством силы воображения – определение, которое не отличается отданного выше (гл. III), а лишь выражает то же самое с объективной точки зрения.
Такое изображение не может быть иным, нежели прекрасным, потому – что оно есть создание силы воображения. В искусстве не может не заключаться преобразованная природа, ибо искусство переносит природу в иную сферу. Сама же дефиниция определяет, какая красота должна принадлежать искусству, какое преобразование должна испытать природа, – именно то, что само по себе влечет за собой этот перенос в чуждую среду.
VIII. Второе достоинство искусства на стадии высшего совершенства:целостность (Totalitat). Двоякий путь обретения таковой
Итак, мы показали, как поэт достигает идеального. Однако то, что мы утверждали выше, содержало гораздо больше: мы говорили, что поэт добивается целостности; при этом мы пользовались словом „мир", и это слово не должно было остаться метафорой.
Мир – замкнутый круг всего действительного – можно рассматривать двояко: исходя из предметов, какие он обнимает, или исходя из органов, какими человек вбирает в себя эти предметы. Ибо лишь постольку, поскольку он обладает соответствующими органами, для него может наличествовать внешний мир.
Поэтому и поэт, стремясь к целостности, может достигнуть ее лишь двояким способом: он пробегает либо кругом объектов, либо кругом чувствований, ими вызываемых. Первый способ – это способ описательный, второй присущ лирическому поэту, хотя и тот и другой могут обмениваться своими методами, поскольку речь идет не о непосредственном, а о конечном воздействии их поэзии.
Поэту нетрудно достичь цели тем или другим способом. Все различные состояния человеческого существа – а поскольку мы смотрим на природу именно с этой точки зрения, то и все силы природы – столь близкородственны между собою, они так поддерживают и так подпирают друг друга, что нельзя живо изобразить одно из них, не приняв в поле зрения весь совокупный их круг. Особенно это относится к поэту, который пользуется описательным методом. Для такого поэта жизнь столь богата отношениями и ему так легко изображать их значительным для человека образом, что ему оказывается достаточным лишь несколько развить случайно воспринятый материал и несколько индивидуализировать намеченные фигуры. Тогда он на каждом шагу будет натыкаться на такие жилы, которые можно сделать важными для духа, и постепенно сможет исчерпать всю ту массу предметов, которые предстают и раскрываются его взгляду.
В этом искусстве представлять целую жизнь фантазии или целого человека с его сокровенным нутром, а стало быть, в искусстве охватывать сразу все, что способно тронуть человека, никто не превзошел древних. Каждый гимн Пиндара, каждый сколько-нибудь пространный хор трагических поэтов, каждая ода Горация пробегают один и тот же круг, но только с бесконечно переменчивым многообразием. Величественные боги, сила судьбы, зависимость от них человека, возвышенное настроение ума, мужество и доблесть человека, стремящегося утвердить свое существование вопреки судьбе, или даже взять над нею верх, – вот предметы, какие поэты изображают непрестанно. И насколько же иначе, насколько живее, богаче, чувственно-явственнее рисовал все это Гомер! И не только в целой поэме – в каждой из песен, почти в любом месте поэмы перед нами целостность жизни, так что душа вдруг начинает уверенно и незатрудненно решать, что такое мы сами, на что мы способны, почему страдаем и чем наслаждаемся, в чем правы и в чем виноваты.
Отсюда успокоение, какое испытывает всякая чисто настроенная душа при чтении древних; отсюда же и то, что состояние страстного бурления чувств или бессильного отчаяния всякий раз ослабляется или напрягается, достигая либо покоя, либо мужественной твердости. Ибо если человек может в целом обозревать свои отношения с миром и с судьбой, то он не испытывает недостатка в этом покое, – в котором – дыхание силы. И только тогда, когда человек останавливается на месте, именно в тот момент, когда внешняя сила берет верх над его внутренней силой и вызывает в нем внутреннее беспокойство, то есть разрушается его внешнее равновесие, – только тогда возникает чувство отчаяния. Однако место, отведенное человеку в действительности, столь благоприятно, что стоит только ему завершить круг явлений, которые предоставляет ему фантазия в эти сурово-трогательные мгновения, когда сводит он счеты с судьбою, как немедленно восстанавливаются покой и гармония.
IX. Целостность – это всякий раз необходимое следствие безраздельно воцарившейся силы воображенияНо не просто от нередко случайного выбора предмета или от индивидуальности поэта зависит, обеспечит ли он себе эту целостность, сразу же овладев всеми чувствами слушателя. Так должно быть всегда, если только поэт заслуживает имени поэта в абсолютном смысле, то есть если он умеет утвердить царящую над всем самодеятельную силу воображения.
Ибо не число объектов, какие включает он в свой замысел, по преимуществу важно при этом, не близость их к самым великим интересам человечества – и то и другое способно усилить воздействие его работы, но безразлично для ее художественной ценности, – все, что он может сделать, – это поставить своего читателя в средоточие, из которого во все стороны, в бесконечность, расходятся лучи, из которого именно поэтому он может обозревать все великие и незамысловатые формы природы, которые обнаруживаются, стоит только совлечь с реальных предметов черты их случайного своеобразия.
Поэтому дело вовсе не в том, чтобы реально показать всё – это невозможно – или хотя бы многое, – тогда стали бы невозможными некоторые художественные роды, – но исключительно в том, чтобы привести нас в такое состояние, в котором мы увидали бы все. Итак, художнику достаточно собрать наше собственное „я" в одну точку и перенести ее во внешний предмет, то есть быть объективным, – все это он непременно и должен делать, оставаясь художником, – и перед нами непосредственно (какой бы то ни был предмет) встанет целый мир. Поскольку все наше существо во всех своих точках приходит в движение, оно творчески-деятельно; все, что ни производит оно в такой настроенности, непременно должно соответствовать ему самому и в свою очередь обладать единством и целостностью, а это и есть те два понятия, которые мы соединяем, пользуясь выражением „мир".
Тут перед нами опять тот же случай, который мы обнаружили, когда рассуждали, как поэт может достичь идеальности. Пусть поэт вознесет нас над ограничениями действительности – это он и обязан делать прежде всего по своему призванию поэта, – и мы сами собой окажемся в такой сфере, где всякая точка – это центр целого, а потому это последнее безгранично и бесконечно. Абсолютная целостность – непременная отличительная черта всего идеального, как обратное ей – непременная отличительная черта действительности. Следовательно, как только поэту удается подавить в нас настроение, направленное на знание действительности, и подчинить все занятые этим силы духа одной силе воображения, так он достигнет своей цели. Потому что теперь царит уже одно только воображение, теперь оно связывает воедино все, в чем открывает самостоятельную силу, особый жизненный принцип, а поскольку все позитивное находится в родстве и по сути все едино, а разъединение индивидов возникает лишь вследствие ограничения, то отсюда само собою следует стремление к замкнутой внутри себя полноте. Итак, душа, на которую воздействует художник, всегда склонна к тому, чтобы, из какого бы объекта она ни исходила, обнимать в полноте весь круг родственных с ним явлений, в самом буквальном смысле слова связывая воедино целый мир явлений.
Поэт настраивает душу(Gemiith), большее же не может входить в его намерения, которые вообще не должны распространяться за пределы субъекта; поэт никогда не описывает предметы иначе, нежели для того, чтобы представить в них человека; но именно этого он обязан добиваться, возьмется ли он воспевать самый незамысловатый предмет – будь то восход солнца, прекрасный летний вечер или какая-то иная отдельная сцена природы – или же примется сочинять „Илиаду" или „Мессиаду". И это требование нерасторжимо связано с его призванием поэта и вообще с призванием художника.
Выполнить такое требование в наиточнейшем смысле слова – это дело лишь подлинно художественной натуры. Ведь если люди склонны думать, будто поэт серьезный, возвышенный и богатый внутренним содержанием скорее достигнет такой целостности, то на самом деле легче достигнет этого тот поэт, которому гений искусства придал максимальную легкость, который способен затронуть воображение нежными и легкими прикосновениями; при этом наше воображение пышно расцветает, стремясь навстречу звукам поэта, а он наполняет наше воображение бесконечным томлением по все новымсочетаниям, по все новым полетам. В этом и состоит всеобъяснимость, сообщаемая им воображению, – оно никогда не бывает столь тяжеловесно, чтобы стойко держаться одного предмета, но стремится все дальше и дальше, и притом царит над всем кругом пройденного; блаженство граничит в нем с тоскою, тоска – с блаженством, и все оно видит уже не в цветах действительности, но в блеске, в какой, словно таинственным волшебством, облечено все.
И уже нетрудно двигать целым миром, коль скоро найдена точка за его пределами, куда можно встать твердой стопой.
X. Влияние идеальности изображаемого на целостностьЕсли душа художественно настроена и поэт сообщил ей чуткую восприимчивость и легкую возбудимость, то теперь от его желания зависит, сколько и каких объектов предъявить ей реально, сколько чувств и какие чувства возбудить в ней. Все это определяется природой художественного рода, выбором материала, наконец, индивидуальностью самого поэта. Для него нетрудно получить значительное многообразие фигур из любого материала – о чем уже было сказано, – однако тут есть и нечто большее. Способ, с помощью которого поэт выставляет хотя бы одну-единственную фигуру, сам собою подготавливает фантазию к тому, чтобы присоединить к одной этой фигуре столько других, сколько потребуется, чтобы они образовали вместе с первой замкнутый круг.
Соединяя подобное с подобным и даже связывая посредующими звеньями несходное, фантазия производит лишь многообразие, а не целостность. Чтобы добиться целостности, необходимо, чтобы и она, и ее объект были настроены и подготовлены соответствующим образом, – и это происходит, когда поэт выставляет идеальные фигуры.
И идеальности, и целостности поэт достигает лишь в сфере воображения, тогда, когда своим волевым решением прерывает ограниченное и разъединенное бытие действительности. Идеальность и целостность именно поэтому не могут не находиться в строго определенной связи. Кроме того, идеальное, очевидно, основывается на том, что целостность возможна, ибо отличительное свойство идеального состоит как раз в том, что оно усваивает все, но только все – по-своему. С другой стороны, идеальное ограничивает целостность, поскольку множество отдельных составных частей связывает в одно целое, которое, будучи рассмотрено с одной точки зрения, и создает целое для рассудка или созерцания.
Идеалом мы называем изображение идеи в облике индивида. Таким образом, от последнего мы ждем своеобразия, но не односторонности. Этого мы можем достичь лишь одним-единственным путем – собрав воедино все существенное, свойственное определенному характеру (потому что таковой, безусловно, лежит в основе любой идеальной фигуры), но отделив от него все случайное. Поэтому все идеалы целиком являются действительными, и только таковыми. Вследствие этого, если рассмотреть несколько идеалов, то всегда будет бросаться в глаза точка соприкосновения между ними – общее – и точка индивидуального контраста между ними. Но едва ли какой-либо пробел может оставаться незаполненным. Если недостает посредующего звена, то этого нельзя не заметить.
Благодаря такому сходству, которое никогда не вырождается в однообразие, и такому различию, которое никогда не вырождается в несовместимость, весь мир распадается для тех, кто создает себе идеал, на бесконечное число отдельных масс. Индивиды образуют группы, меньшие группы образуют большие, все вместе – единое целое. Все точно так у поэта. И он не показывает нам ничего – только массы. Весь его материал сочетает подвижность со стремлением к форме: стоит вторгнуться в этот материал – и он рассыпается, образуя органические массы, стоит начать связывать его, и он опять же соединяется в такие массы.
Пользуясь той самой нитью, с помощью которой поэтический гений развивал одну из другой эти многообразные группы, фантазия читателя переходит от одной группы к другой; как только возникает перед ним одна-единственная идеально очерченная фигура, она сама собою вынуждает порождать иные, все новые и новые, пока все они не создадут круг, достаточно обширный и всеохватывающий для соответствующей степени художественного настроения.
У всех фигур, какие может являть нам поэт, есть общая, связующая их черта – это их сопряженность с человеческой природой. Вот точка, из какой поэт может двигать любыми фигурами, царить над всеми, Но есть такие, которые состоят между собою в значительно более близком родстве. Они образуют куда более тесный круг.
Когда же и воображение настроено, и предмет разработан так, что первое не застывает ни на какой отдельной точке, а второй не заставляет его застывать, тогда – лишь с завершением целого круга, с возникновением совершенной целостности – наступает покой, тишина.
Так, разве можно живо описать юношу, чтобы фантазия не представила себе его в образе ребенка, из которого он развился, или в образе мужа, который созревает в юноше, и в образе старика, в ком гаснут последние искры полыхавшего в нем пламени? Можно ли живописать героя, что на поле битвы, окруженный мертвыми телами, командует самой смертью и планомерно организует гибель людей, не вызвав в душе своей образ спокойного мыслителя, который, сидя в четырех стенах одинокого жилища, вдалеке от практической деятельности и событий дня, исследует истины, какие, быть может, принесут благодатные всходы лишь грядущим столетиям, не вызвав в душе своей также образ спокойного землепашца – он озабочен лишь потребностью дня, включен в пределы все вновь и вновь протекающих времен года и думает лишь о будущем урожае,
Одно состояние всегда влечет за собой все прочие – лишь в общности таковых может существовать и отдельный человек и все человечество; художественно настроенное воображение как раз и доставляет моральному человеку тот огромный выигрыш, который учит его как бы соединять все жизненные эпохи, продолжая протекшую и зачиная грядущую, причем нимало не отнимая его у эпохи настоящего, какой он принадлежит.
XI. Обзор пути поэта от первоначальной его задачи до высочайшей его целиВ любом виде человеческой деятельности высшее достижимо лишь в границах ее рода. Человек вообще и каждый отдельный человек в частности исполняет свое конечное, всеобщее и индивидуальное предназначение, лишь совершенно выявляя то, что он есть. То же самое и поэт. В нем воцаряется и приносит свои плоды воображение – вот его дело, завершая его, он достигает идеального, достигает цельности.
Мы полагаем, что доказали это выше, и если шли путем долгим и чуждым нашей прямой задаче, то избрали этот путь все же не без причины. Если мы критически обсуждаем работы, к какому бы роду они ни относились, то самое важное – не упускать из виду требований, точного выполнения которых можно по праву ждать от них. Правда, дело довольно обыкновенное – превозносить до небес эстетические создания, награждать их неопределенными похвалами, сопоставлять их с другими образцами того же рода и приписывать им добродетели сверх меры. Тем не менее единственно правильным видом критической оценки остается сравнение произведений с тем, чем они должны быть, рассмотрение того, удовлетворяют ли они принципам эстетики и идеалам искусства. При этом решается, выполнил ли их создатель свой долг и удовлетворяет ли его произведение справедливым и обязательным требованиям критики. Определять следует абсолютную, а не относительную ценность произведений. Если бы мы оставались непоколебимо верными такому пути, то эпитеты „прекрасное", „возвышенное", „превосходное" сами собой превратились бы в „разумно осмысленное", „планомерно упорядоченное", „истинно описанное", „верно прочувствованное", „поэтически изображенное". Мы довольствовались бы тем, что просто решали, по какому праву такое-то произведение носит наименование поэтического творения и отнесено к особому жанру поэзии.
Правда, не всякая поэма выдержит подобное критическое обсуждение; однако было бы непростительно применять иные методы к поэтическому творению, которое обладает столь существенными, необходимыми и значительными добродетелями и лишено чужеродных и заимствованных на стороне красот.
Развивая сущность понятия искусства, мы до сих пор скорее следовали путем рассуждения и лишь изредка обращались к опыту. Однако, для того чтобы чувствами убедиться в правильности выставленных утверждений, нам достаточно вызвать в нашей памяти то впечатление, какое производит на нас всякое совершенное произведение искусства, – вызвать настроение, в какое переносит нас Аполлон Бельведерский или какое-нибудь место из Гомера.
Тогда натягиваются в нас все нити человеческих чувств, и мы ощущаем человеческую природу во всех точках ее соприкосновения – ни в каком более случае переход от одного чувства к другому не бывает более плавным, пи одно движение души, даже энергичное, не бывает столь кротким и сдержанным, но одновременно в нас отражается мир, окружающий нас, поддерживающий в нас то же настроение. Ибо, когда мы наблюдаем гармонию и совершенство, они вливаются в нас самих, заявляя о себе покоем и трогая наше сердце – таково, наверное, самое общее воздействие больших произведений искусства вообще. И когда к нам приходит покой, то в таком состоянии уже не могут иметь места какие-либо помехи или диссонансы; когда же произведение трогает наше сердце, то это значит, что мы заглядываем в глубь природы или человеческой натуры, поэтому наше сердце сжимает тоска. Эти два состояния показывают, что мы никогда не прозреваем человечество и судьбу – два колоссальных предмета – так живо, никогда не сопрягаем их столь энергично, как в подобные моменты. Но дух может быть приведен в такое чудесное, непостижимое настроение и погружен в такую глубину лишь при условии, что волшебная сила изымет его из мира действительности и перенесет в мир идеалов, где самое природу он сможет узнать лишь по ее стихиям и силам, и вообще на каждом шагу будет встречаться с чуждыми ей совершенством и безграничностью.
Когда теперь обозреваешь весь путь, какой пробегает поэт (а вместе с ним и любой художник), поражаешься тому, с какой же простой цели он начал и на какую непостижимую высоту вознесся.
Он начал с того, что как бы играючи превращал реальный предмет в объект фантазии, кончает же тем, что исполняет самое великое и трудное дело, какое поручено человеку в качестве высшего его предназначения, – он теснейшим образом сопрягает себя с внешним миром, окружающим его, сначала вобрав в себя этот последний как чуждый предмет, а затем возвратив его как свободно и самодеятельно организованный; все это исполняет он своим особым образом и теми средствами, какие ему для этого указаны.
Ибо весь материал, какой предоставляет ему наблюдение, он органически слагает в своем воображении в идеальную форму, и мир вокруг представляется ему не иначе, как насквозь индивидуальное, живое, гармоничное, ничем не ограниченное, ни от чего не зависимое самодовлеющее целое, сложенное из многообразных форм. Так переносит он в мир свою сокровенную, свою лучшую природу, превращая мир в существо, которому можно отныне всецело симпатизировать.








